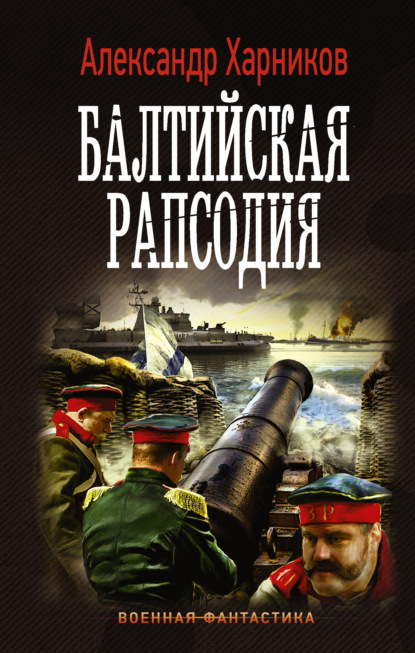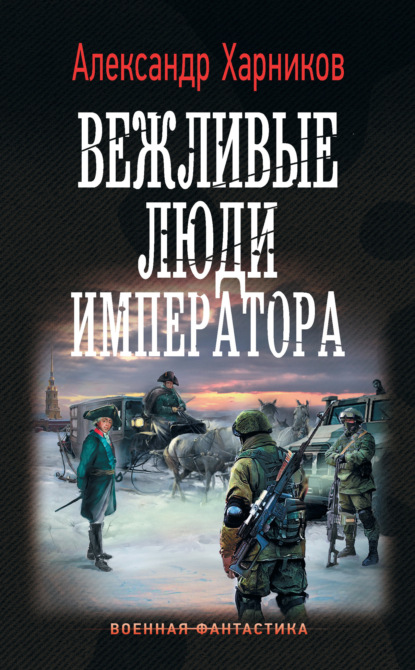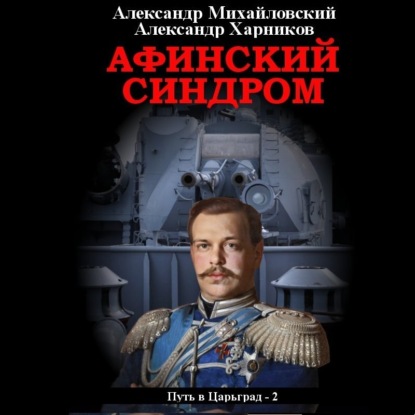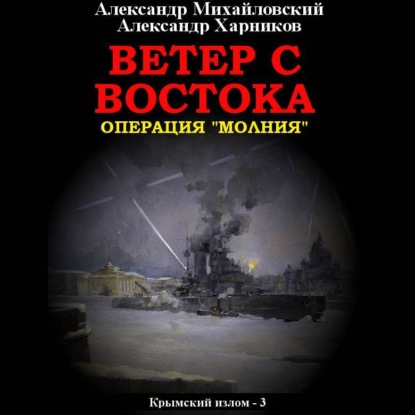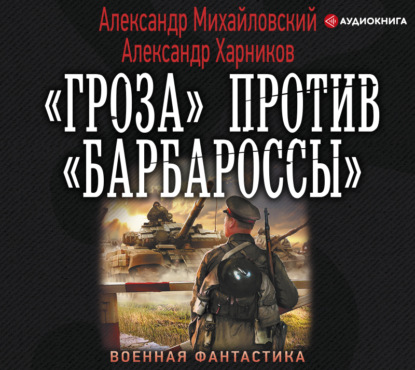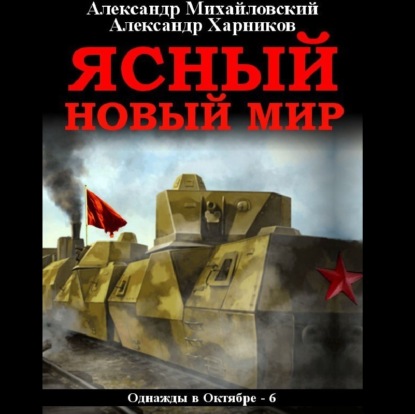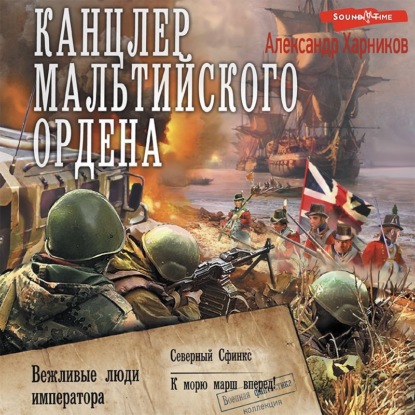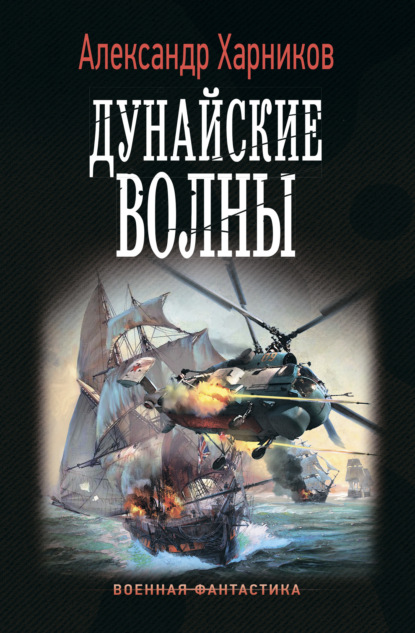
Полная версия
Дунайские волны
Перед русской армией лежал Стамбул, который фактически был беззащитен. Но Турция запросила пощады, и в Адрианополе был подписан мир, по которому к России перешла большая часть восточного побережья Черного моря, включая города Анапу, Суджук-кале (будущий Новороссийск) и Сухум, а также дельту Дуная. На Кавказе Турция признала переход к России Грузии, Имеретии, Мингрелии, Гурии, а также Эриванского и Нахичеванского ханств.
А уже через всего три с лишним года после подписания Адрианопольского мирного договора, русские войска высадились в окрестностях Стамбула, а русский флот прошел Босфор и по-хозяйски расположился в Проливах. Причем все это произошло без стрельбы и кровопролития. Наоборот, султан Махмуд II слезно умолял своего царственного брата Николая I побыстрее послать русскую армию и флот в Стамбул. Что же произошло такое, что заставило султана обратиться со столь необычной просьбой к русскому царю?
А случилось вот что… В 1831 году в Египте поднял мятеж вассал турецкого султана, хедив (наместник Египта) Мухаммед Али-паша. Хедив Мухаммед провел ряд реформ, реорганизовал подчиненные ему войска по европейским стандартам, превратив Египет в мощное государство. Он захватил Северный Судан и решил получить полную независимость от Турции.
Поводом для восстания стало требование султана заплатить ему внеочередной налог в турецкую казну. Если учесть, что еще со времен русско-турецкой войны 1829–1830 годов хедив прекратил платить дань Махмуду II, требование султана было принято в штыки.
Египетская армия, состоящая из 30 тысяч прекрасно обученных и вооруженных солдат, оснащенная 50 полевыми орудиями и 19 осадными мортирами, захватила Газу, Иерусалим и ключевую крепость Сен-Жан д’Акр, заняв всю турецкую Сирию.
Командовал египетской армией приемный сын Мухаммеда Али Ибрагим-паша. Но фактически всеми военными действиями против Турции руководил, как бы сейчас назвали, «военный советник», скрывавшийся под псевдонимом «полковник Иванов». Но для многих не было секретом, что этим «Ивановым» был участник войны с Наполеоном, герой сражения при Кульме генерал Александр Иванович Остерман-Толстой. Правда, он находился в составе армии Ибрагим-паши, скажем так, неофициально. За что позднее получил выговор от императора Николая I. А вот у египтян он пользовался таким уважением, что после взятия Дамаска ему было разрешено въехать в ворота покоренного города верхом на коне. А ведь по тамошнему обычаю все немусульмане должны были у ворот Дамаска спешиться и входить в город, ведя лошадь в поводу.
Но как бы то ни было, под командованием Ибрагим-паши и «московского паши» египтяне в пух и прах разгромили турецкие войска у Бейлана и под Коньей. В ходе последнего сражения в плен попал великий визирь Рашид-паша, командовавший турецкой армией. Путь на Стамбул был открыт. У султана Махмуда II осталось в наличии всего около 25 тысяч воинов, деморализованных непрерывными поражениями. И тогда султан запросил помощи европейских держав…
Но кто мог реально оказать помощь Турции? Франция, которая помогла Муххамеду Али реорганизовать египетскую армию и скрытно поддерживала хедива, рассчитывая укрепить свои позиции в Египте? Англия, которая в свое время заверяла султана в полной поддержке, но ничего реального для спасения султана так и не сделала?
Оставалась лишь Российская империя, с которой Турция совсем недавно воевала. Но делать было нечего. Султан вспомнил турецкую пословицу, в которой говорилось, что утопающий хватается даже за змею, и написал письмо в Петербург русскому царю Николаю I с мольбой спасти его трон и саму Османскую империю.
К тому времени египетский флот уже загнал турецкую эскадру в Мраморное море и заблокировал Дарданеллы. Еще немного, и египтяне пройдут через Проливы, захватят турецкие корабли и высадят у Стамбула свой десант. Ну а египетская армия под началом Ибрагим-паши и без того была всего в нескольких днях пути от столицы Турции.
В Стамбуле царила паника. Махмуд II готовился бросить город на произвол судьбы и бежать в Анатолию. И тут пришло спасение…
Русский император Николай I молниеносно отреагировал на просьбу султана. В начале февраля 1833 года из Севастополя вышла эскадра под командованием прославленного адмирала Михаила Петровича Лазарева, в составе четырех 80-пушечных линейных кораблей, трех 60-пушечных фрегатов, корвета и брига. Она взяла курс на Босфор.
8 (20) февраля 1833 года русская эскадра подошла к Золотому Рогу и высадила десант в составе двух пехотных полков, казачьей конницы и нескольких артиллерийских батарей. Известие о появлении русской эскадры в Босфоре вызвало панику в английском и французском посольствах. Европейская дипломатия теперь уже реально пытались остановить египтян, после чего султан попросил бы русские войска и флот удалиться. Но им помешали взаимные подозрения и попытки перехитрить друг друга.
А Ибрагим-паша продолжил свое движение на Стамбул. Чтобы угомонить не в меру воинственных египтян, Николай I послал к Босфору подкрепления. Вскоре мощная русская группировка – 20 линейных кораблей и фрегатов и более 10 тысяч воинов – располагалась на азиатском берегу Босфора, в районе Ункяр-Искелеси.
24 апреля (6 мая) 1833 года в Стамбул прибыл личный представитель царя Алексей Орлов. Он должен был убедить Ибрагим-пашу увести свои войска, а также подписать с Турцией новый договор. Оба поручения Орлов выполнил блестяще.
Русский дипломат убедил Ибрагим-пашу увести свою армию за хребет Тавр. А 26 июня (8 июля) 1833 года в местечке Ункяр-Искелеси был подписан договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Турцией. Договор предусматривал военный союз между двумя державами в случае, если одна из них подвергнется нападению. Дополнительная секретная статья договора разрешала Порте не посылать войска на помощь России, но требовала закрытия проливов для кораблей любых держав (кроме России). Орлов действовал ловко, быстро, и так умело давал взятки, что в британских и французских дипломатических кругах шутили, что Орлов купил всех, кроме султана, да и то лишь потому, что ему это показалось уже ненужным расходом.
Это была блестящая дипломатическая победа России. Безопасность Русского Причерноморья была обеспечена, а Черное и Мраморное моря закрыты для потенциальных врагов. С южного стратегического направления Россия теперь была неуязвима. К тому же возникала угроза положению Англии и Франции в Средиземноморье – ведь договор позволял русским кораблям беспрепятственно выходить из Черного моря в Средиземное. До этого Россия была вынуждена в случае военной необходимости перебрасывать в Средиземноморье корабли из Балтийского моря, в обход всей Европы.
8 октября 1833 года Англия и Франция выразили совместный протест. Они заявили, что если Россия вздумает ввести в Османскую империю вооруженные силы, то обе державы будут действовать так, как если бы Ункяр-Искелесийский договор «не существовал».
Николай I ответил просто и грубо. Он заявил Франции, что если турки для своей защиты призовут на основе договора русские войска, то он будет действовать так, как если бы французского протеста «не существовало». Англии ответили в том же духе.
Благодарный султан Махмуд II наградил медалями всех участников похода на Босфор, от рядового до главнокомандующего. Правда, подарки понравились не всем. Адмирал Лазарев в письме другу так оценил подаренную ему медаль: «Один камушек порядочный, и ценят ее до 12 000 рублей… Чеканка дурная, но зато золота много, не дураки ли турки, выбили медали, в которых весу по 46 червонцев». Но как известно, дареному коню… Кстати, все русские офицеры получили в подарок от турецкого владыки по отличной лошади.
Договор с Турцией был заключен на восемь лет. Правда, дипломатия Николая I не смогла воспользоваться теми возможностями, которые содержались в этом договоре, и он так и не был пролонгирован. Но это уже совсем другая история.
4 (16) октября 1854 года.
Санкт-Петербург. Екатерининский канал
Студент Елагиноостровского университета Апраксин Сергей Юрьевич
– Серый, гля, а вот тут я жил! – Вася показал мне на желтое здание у канала. – В этом самом доме. Видишь, угол Спасского переулка и канала Грибоедова, или как он у них тут именуется. То ли Елисаветинский, то ли Екатерининский, хрен его знает…
– Прикольно. А куда мы идем-то? Ты ж сказал, что знаешь эти места.
– Ну, знаю – это в наше время. Что здесь сейчас находится – это другой вопрос. Только слышал я, что на Садовой у них куча клевых кабаков была. А по дороге мне захотелось на родные места посмотреть.
– То есть мы только для этого сделали крюк?
– Да какой на хрен крюк? Посмотри, вот уже Сенная. Е-мое, а что это за церковь такая красивая? Прямо какой-нибудь Растрелли[3]!
– Кто расстрелян?
– Растрелли, дебил. Архитектор был такой. Зимний дворец, Екатерининский в Царском Селе, Строгановский на Невском. Только этой церкви в мое время тут не было. Была станция метро, там еще бетонный козырек в 90-е упал и кучу народу раздавил. А вот и Садовая. По ней мы и пойдем, солнцем палимы. Ну, или дождем орошаемы… Сам знаешь, какая у нас погода в Питере.
– Это что, те самые места, по которым Мойдодыр бежал? «По Садовой, по Сенной?»
– Дерёвня! Не Мойдодыр, а бешеная мочалка! Да, именно здесь все и было. Только в моем времени тут машин было полно – не протолкнуться, а сейчас, видишь, экипажи рассекают. И лавок полно разных. Прямо как у нас в 90-е. Смотри, нищие тут везде шастают. А глаза у них так и шныркают. Ты, Серый, за карманами приглядывай – вокруг Сенной, я слышал, такие места были, что не только кошелек, но и голову легко потерять.
Давай лучше зайдем куда-нибудь, перекусим. Вчера нам стипуху выдали, так что можно кутнуть маленько. Надо взглянуть, где здесь трактир имеется поприличней.
– А почему трактир? Может, лучше в ресторан заглянуть?
– В ресторане все, наверное, дорого. А деньги надо беречь. Вдруг что-нибудь купить захочется. В трактирах же, как мне рассказывали, и на полтинник можно наесться, до отвала…
Да, Вася из Питера. А я – гопота из Ростова. После школы попал на флот, там образумился и понял, что мне нравится электроника. Поэтому и поступил в Поповку. Но вот в самом Питере бывал только на Московском вокзале и на экскурсиях для курсантов. В Поповке я и сдружился с Васей, чьи предки были СНС в каких-то институтах.
Шпану же я чуял за версту. Вот и здесь с ходу приметил троицу, очень уж внимательно нас осматривавшую. Я пристально посмотрел на того, кто, по моему разумению, был у них старшим. Тот чуть кивнул мне – мол, понял, не дурак – и дал знак своим «пристяжным», после чего те мгновенно испарились. А Вася, не заметив ничего, увлеченно вещал дальше:
– А вон твой однофамилец – Апраксин двор, «Апрашка», по-нашему. Клевое место… Говорят, что здесь можно было в наше время купить все, даже атомную бомбу, правда по частям.
– Не, Вася, мне тут как-то не по себе. Пойдем лучше по каналу ближе к Невскому. Там вроде и народ поприличней, и кабаки не такие убогие.
И мы пошли по гранитным плитам Екатерининского канала в сторону Невского проспекта. По дороге к нам пытались присоседиться несколько девиц, чей внешний вид недвусмысленно говорил о том, чем они занимаются.
– Ваше благородие, – одна из здешних «путан» схватила меня за рукав, – угостите даму винцом. Я справлю вам удовольствие.
Заметив мой нехороший взгляд, она кокетливо поправила изрядно затрепанную вуаль и попыталась меня успокоить:
– Не извольте беспокоиться, ваше благородие, я чистая, у меня билет есть, и у врача я недавно была.
Я выругался, подхватил остолбеневшего от такого напора Васю и прибавил шагу. Выйдя на Невский у Казанского собора, мы облегченно вздохнули и огляделись по сторонам.
– Серега, смотри, – Василий толкнул меня в бок локтем. – Видишь, там, где у нас гостиница «Европейская» была, здание стоит. А на нем вывеска «Ресторан». С твердым знаком даже! Давай зайдем. Хрен с ними, с деньгами, гулять так гулять.
И мы перешли на другую сторону Невского. Оказалось, что в здании находится две ресторации: дорогая – французская, и дешевая – немецкая. Мы решили зайти в немецкую. Тем более что «халдей», с почтением встретивший нас у входа, заявил, что только у них в заведении можно выпить настоящего немецкого пива.
Ну, пиво – значит, пиво. Мы заказали несколько бокалов баварского светлого, а к ним блюдо с жареными сосисками и колбасным салатом.
Вася отхлебнул пышную белую пену с бокала, втянул ноздрями запах, исходящий от сосисок, и с мечтательной улыбкой произнес:
– Ну что, Серый, устроим маленький «Октоберфест»?
– А то!
Краем глаза я заметили, что за соседний стол уселась парочка усатых мужиков, общавшихся друг с другом на каком-то языке, похожем на русский, но с большим количеством шипящих. Но пиво было преотличное, а сосиски такие вкусные, что мы не обратили на них внимания. И, как оказалось, зря.
Выпив литра полтора пива и съев все, что нам подали, мы рассчитались с официантом (похоже, что он нас чуток обсчитал – слишком уж заулыбался, когда мы оплатили счет, да еще и отстегнули ему щедрые чаевые) и вышли на свежий воздух. Мы решили продолжить прогулку по Санкт-Петербургу XIX века. Свернув на Казанскую улицу, мы пошли по ней в сторону Гороховой. Неожиданно я почувствовал что-то твердое, уткнувшееся мне в спину. Хриплый голос произнес прямо мне в ухо:
– Цо, панычи, прогуляемся мы с вами трохэ. Не балуйте, то пистолеты, и мы умеем их уживать.
– Что вам надо? Деньги? – испуганно запричитал Вася.
– И дзеньгы тоже, – мерзко хихикнул собеседник.
Краем глаза я разглядел, что это был один из той «сладкой парочки», что сидела в ресторации за соседним столом и пялилась на нас. Из чего я сделал гениальное умозаключение – за мной стоит второй бандюган.
– А пока рот замкнуть, а то буду стрелял! – прошипел мне на ухо налетчик. – Пошли, пся крев! Вон туда, – и он левой рукой махнул в сторону трехэтажного дома с портиками из восьми колонн и треугольным фронтоном. Я огляделся по сторонам, но, как на грех, поблизости не было ни одной живой души.
– Стуй! Пришли. Не оборачиваться! – И поляк (видите, какой я умный – смог-таки понять, к какому племени принадлежат эти разбойники) постучал в дверь подъезда. Три раза, пауза, два раза, пауза, один раз.
Дверь распахнулась, на пороге появился человек с усами, только не вислыми, как у «сладкой парочки», а лихо закрученными вверх. Мой польский конвойный скомандовал:
– Вовнутрь, пся… – но почему-то не успел закончить свое любимое ругательство. Всхлипнув, усатый схватился руками за промежность и плавно стек по стенке дома на тротуар. Поляк, открывший дверь, попытался ее захлопнуть, но словно из-под земли появившийся человек в мундире махнул рукой, будто кошка лапой, и поляк влетел в парадную, как футбольный мяч в ворота. Еще несколько людей – эти были в штатском – вихрем ворвались в дом, откуда вскоре раздались истошные вопли.
Наш спаситель тем временем деловито связал пластиковыми стяжками двух еще не очухавшихся поляков, забил им кляпы в рот, и лишь потом посмотрел на нас. Он ухмыльнулся и сказал:
– Ну, что, «гиляровские», начитались «Трущоб Петербурга»[4]? И кому из вас в голову пришло побродить по Сенной? Вы бы еще в «Вяземскую лавру»[5] сунулись. Оттуда даже мы не смогли бы вас вытащить.
Мы понурили головы, а он продолжал читать нравоучения:
– Вам что, не говорили на инструктаже, что в подобные районы лучше не соваться?
– Да я же питерский, – пробормотал Вася. – Из этих самых мест.
– Из этих, да не из этих. Здесь не место для студентов.
– Так мы пойдем?
– А куда спешить-то? Посидите тут, расслабьтесь чуток.
– Мы что, арестованы?
– Вот уж делать нам нечего, арестовывать каких-то балбесов. Опросить вас надо будет, чтобы разобраться с этими поляками. Сами они на вас вышли, или их кто-то навел… Да и вообще, прогулки по подобным районам Питера придется временно отменить, после таких-то страстей-мордастей. Лучше уж вернетесь вместе с нами.
4 (16) октября 1854 года, вечер.
Санкт-Петербург. Елагин остров
Мейбел Эллисон Худ Катберт, она же Алла Ивановна.
Студентка и преподаватель Елагиноостровского Императорского университета
В дверь постучали. Так как я жила в особнячке, выделенном доктору Елене Викторовне Синицыной, декану медицинского факультета нашего университета, а также капитану медицинской службы Гвардейского Флотского экипажа, то это мог быть только один человек – моя радушная хозяйка, сама предложившая мне поселиться в ее доме, ведь «для меня одной места слишком много».
– Да, Леночка, – сказала я по-русски.
Та зашла ко мне в комнату и с улыбкой протянула мне листок бумаги с текстом по-английски, где было написано:
«Darling, we are at Moscow’s Petersburg Station. Leaving soon. Arriving tomorrow around six AM. Love and kisses. Nick»[6].
Я завизжала от радости и заключила Лену в объятия.
– Пусти, Аллочка, а то еще задушишь, – пропищала она.
Аллочка… Я машинально достала из-за пазухи золотой крестик – подарок моей крестной, великой княгини Елены Павловны – и поцеловала его.
Когда я узнала, что мой Ник скоро приедет, то решила не медлить и как можно скорее перейти в православие. Меня первым делом спросили о моем теперешнем (сейчас уже бывшем) вероисповедании. Пришлось объяснять, что епископальная церковь Америки – это та же англиканская церковь, но под другим названием. Тогда мне было предложено два варианта: либо заново принять обряд Святого Крещения, либо ограничиться обрядом миропомазания. Подумав, я все же решила выбрать первое – это ознаменует мое новое рождения в качестве русской и подданной Российской империи.
И представьте себе мое изумление, когда моей крестной вызвалась стать сама великая княгиня Елена Павловна, приехавшая в университет на заседание Попечительского совета, а крестным – Владимир Михайлович Слонский, наш ректор. И позавчера я с целой делегацией отъехала в Ораниенбаум, а вчера с раннего утра я пошла в Дворцовую церковь Ораниенбаума, переоделась в шелковую крестильную рубашку – подарок Владимира Михайловича – и в какой-то момент службы очутилась в теплой воде купели.
«Крещается раба Божия Алла во имя Отца, аминь, – и священник чуть надавил на мою голову, заставив меня на секунду погрузить ее в купель, – и Сына, аминь, – и опять, – и Святаго Духа. Аминь».
Алла – это теперь я. Зовут меня Мейбел Эллисон, и мне было предложено несколько крестильных имен на выбор, но я предпочла именно Аллу – очень красивое имя, оно мне сразу понравилось. Потом была литургия, в ходе которой я впервые причастилась Святых Таинств по православному ритуалу – не из чаши, как это делалось у нас, а с ложечки. Затем Елена Павловна устроила мне праздник, в ходе которого я потолстела, наверное, килограмм на пять (что соответствует примерно одиннадцати американским фунтам – я уже отвыкла от наших мер длины и веса и привыкла к метрической системе, которая используется и на Эскадре, и в моих учебниках).
И тут я решилась попросить о том, о чем давно мечтала, но боялась получить отказ.
– Ваше императорское высочество…
– Алла Ивановна, зовите меня просто Елена Павловна, – улыбнулась та. – Ведь духовное родство столь же близко, сколь и кровное. А я теперь ваша крестная мать.
– Елена Павловна, дозвольте мне вступить в Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия!
Великая княгиня с удивлением посмотрела на меня:
– Аллочка, а зачем это вам? Вы будущая студентка, подающая, по словам Владимира Михайловича, большие надежды, и одновременно преподаватель английского…
– Елена Павловна, я возьму с собой учебники по всем предметом, и смею надеяться, что смогу подготовиться к первому семестру.
– Да, но зачем это вам?
– Если я хочу стать настоящим врачом, то мне необходима практика. Ну а где ее лучше получить, как не в полевом госпитале? А то получится, как с новым набором сестер милосердия – они хоть и состоят теперь при госпитале Елагиноостровского университета, да пациентов для практики там сейчас совсем немного, тем более раненых, среди которых остался разве что мой брат Джеймс.
– Знаю. Ко мне уже приходила одна из сестер и умоляла разрешить ей помолвку с вашим братом. По ее словам, он согласен.
Я с удивлением посмотрела на великую княгиню. Однако… Так-так-так… Вот, оказывается, почему Джимми согласился заместить меня на посту учителя на время моего отсутствия! Да и вообще в последнее время он говорил, что не хочет пока возвращаться в Саванну, разве что только для того, чтобы навестить родных. Хорошо еще, что он пока что не может обходиться без костылей, да и рука у него все еще на перевязи. Иначе, боюсь, он уже давно бы подал прошение о зачислении его в российскую армию, как он не раз уже мне намекал. Тем более, если его невеста поедет в те же края…
А ведь сердце его до недавнего времени было свободно. С девушкой с соседней плантации, которую ему в свое время подобрали наши родители в невесты, Джимми расстался полюбовно – ни он ей, ни она ему не нравились. Вышла она замуж, как я слышала, за какого-то плантатора из Атланты. Была, конечно, еще кузина Альфреда Черчилля, Диана, только она погибла у Бомарзунда от ядра французской пушки. Так что ни с кем никакими обязательствами он не связан.
Но так как нашей мамы рядом нет, то придется мне взглянуть, что это за невеста такая у него нарисовалась. На мой вопрос Елена Павловна рассмеялась:
– Не бойтесь, Алла Ивановна. Девушка она хорошая, да еще и с графским титулом. А вот как ее зовут… Пусть лучше вам об этом расскажет брат.
Я мстительно подумала, мол, все мне выложит, куда он денется, а мы еще посмотрим на эту графиню. Ведь мы с братом в последнее время стали близки, как никогда; Америка далеко, да и никого из наших английских друзей у Джимми не осталось – почти все они погибли при гибели яхты. Все, кроме Альфреда. Но после того, как я мягко сообщила тому, что дала согласие стать женой другого, и «давайте останемся друзьями», он жутко разозлился и на меня, и на Джимми, а вчера отплыл на пароходе в Копенгаген, хоть ему и советовали еще немного подлечиться и подождать, пока будет готов протез. Мы пришли к нему попрощаться, а он взял и выставил нас за дверь, наговорив кучу гадостей про «проклятых азиатов» и «вероломных янки». Мы, конечно, не янки, да и русские в большинстве своем не азиаты, но все равно обидно…
И вот сейчас я держала в руках телеграмму, а Леночка продолжала, уже по английски – все-таки по-русски я говорю пока еще не очень хорошо:
– Юра Черников сообщил мне, что сам поедет встречать своего питомца, так что тебе там быть необязательно. Хотя, зная тебя, я уверена, что ты все равно туда помчишься. Имей в виду, был какой-то инцидент со студентами в городе, и теперь нужно получать увольнительную – это разрешение на выход в город. Если хочешь, я за ней схожу. А ты подумай пока, что завтра наденешь…
– Леночка, ты самая лучшая на свете подруга, – сказала я и поцеловала ее в щеку. Та засмеялась и вышла из комнаты, бросив на прощание:
– Юра поручил передать тебе, что катер отходит от причала в двадцать минут шестого – смотри, не опаздывай! Он ждать никого не будет. Я разбужу тебя в половине пятого.
А у меня в животе, как говорится у нас, порхали бабочки. Наконец-то… Сколько раз я плакалась Лене, что он не пишет, а когда пишет, то весьма скупо. И она каждый раз меня успокаивала, что, мол, он на войне, что радиограммы передаются через несколько промежуточных станций и потому идут медленно; и, главное, что – «да, он тебя любит». И я верила ей на слово. Ну что ж, завтра увидим, так это или нет. А вдруг нет? И от этой мысли я горько зарыдала.
5 (17) октября 1854 года. Деревня Слободка, дом профессора Николая Ивановича Лобачевского
Николишин Артемий Александрович, ассистент Елагиноостровского Императорского университета
– Здравствуйте, – человек в поношенном сюртуке сделал полупоклон, подслеповато щурясь на мою визитную карточку, которую передал ему пожилой слуга.
– Здравствуйте, Николай Иванович, – приветствовал я его. – Позвольте представиться, Николишин Артемий Александрович. Спасибо за то, что вы согласились меня принять.
– У меня в последнее время мало визитеров, – невесело усмехнулся мой собеседник. – Разве что ученики мои иногда приезжают… Супруга с детьми в отъезде, я сейчас совсем один. Не угодно ли чаю? Прохор, не надо, я сам, – добавил он, повернувшись к слуге.
– Благодарю вас, Николай Иванович, не откажусь, – ответил я. Увидев, что тот практически на ощупь пытается поставить чашку под краник самовара, мягко добавил:
– Позвольте мне.
Я налил по чашечке ароматного чая, а Лобачевский спросил:
– И чем же я обязан вашему визиту, господин Николишин?
Решив начать прямо с места в карьер, я сказал: