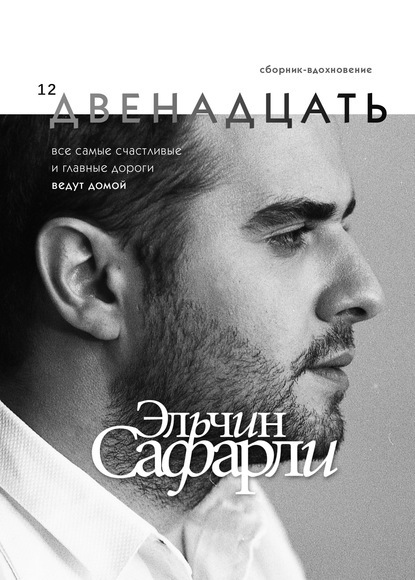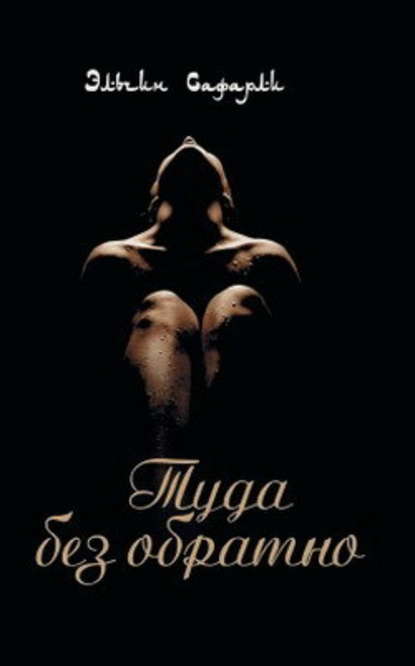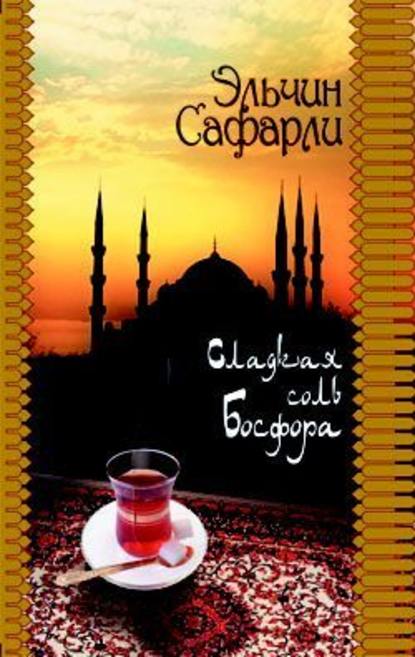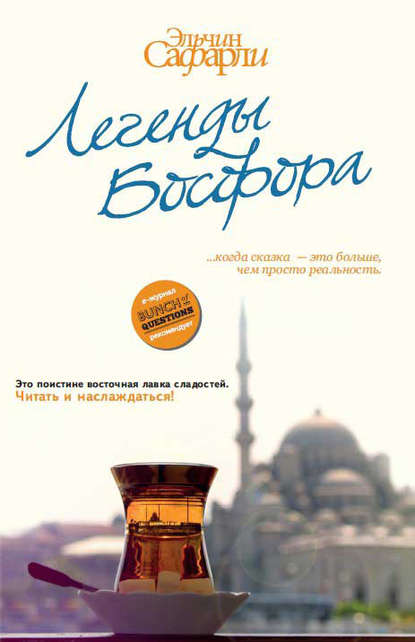Полная версия
Если бы ты знал…
Вообще-то перед смертью принято задумываться о вечном, о красоте утраченного и прелестях настоящего. Во мне нет такого предсмертного пробуждения любви к миру. Мне хочется только мира с собой. А для этого не обязательно иметь смертельную болезнь. Моя стала лишь толчком к этому; для кого-то таким же толчком может стать ничтожная причина. К примеру, угрожающе отклоняющаяся стрелка напольных весов.
Слишком долго я даже не была знакома с собой, слишком долго бежала впопыхах на поводу у стремления ухватить больше положенного. Слишком долго лила слезы над тем, что так и осталось нетронутым, несдвинутым, неприобретенным. Пора было остановиться у этого потока, присесть на берегу, неторопливыми движениями расчесать гребнем волосы. Продолжить путь маленькими шагами, не забывая радоваться: жить, дышать, смотреть, слушать. Все без спешки.
Сейчас мне, как никогда раньше, хочется быть рядом с людьми. Именно поэтому я устроилась на работу, хотя с деньгами, вырученными от продажи родительской квартиры, я могу жить в Овальном городе в роскоши несколько лет. Здесь я сняла жилье в самом шумном, переполненном доме, где из окон несется джаз и пахнет свежим лимонадом.
Как мне было тяжело с грузом исписанных тетрадей, а в Овальном городе я с легкостью дышу, теряюсь меж разноцветных домов в росписи заката, бреду домой вдоль дороги в желтом свете фонарей и чуть ежусь от ветра с моря. Внутри меня сейчас одна негасимая лампочка. Раньше она то затухала, то зажигалась снова. Давала свет урывками. А сейчас не меркнет ни на минуту. Мой внутренний маяк.
* * *Я объедаюсь жареными персиками. Они растут круглый год в Желтой деревне, расположенной в ста пятидесяти километрах от Овального города. Поэтому здесь персики продаются на каждом шагу и просто неприлично дешевы. По будням уже в шесть утра мальчишки из Желтой деревни приезжают с полными ведрами и, слоняясь по улицам, выкрикивают: «Медовые персики сорваны, медовые персики сорваны!» Я, не покидая своей уютной квартирки, спускаю с балкона веревку, к которой привязана корзинка с деньгами за килограмм, и маленький продавец складывает в нее отборные «медовики». Они действительно такие сладкие, что даже в горле першит.
Недавно повариха Сома из нашего ресторана объяснила мне, что жители Овального города не едят зимние персики в свежем виде. Они их жарят. «Девочка моя, ты с ума сошла? Диабет заработаешь! Персики из Желтой деревни можно есть свежими только в летние месяцы. Зимой их обжаривают и подают с соусом. При жарке сахар из персиков вытекает».
Сома родом из Желтой деревни, где солнца вдоволь все двенадцать месяцев. Там теплую гущу крепкого кофе наносят на волосы, отчего совсем нет седых людей. А еще там недолюбливают белокожих, хоть «желтые» и говорят, что внешнее не выражает внутренней сути. Я спрашиваю у Сомы: «Значит, и ты недолюбливаешь меня?» Она, нарезая цукини кружочками, отвечает: «Совсем нет, я же еще в детстве оттуда уехала! Но я все равно не люблю слишком часто употреблять слово “люблю”. К нему нельзя привыкать».
Дома сильно нагреваю сковороду, обжариваю персики на оливковом масле. Предварительно разрезаю их на половинки, аккуратно вынимаю косточку и втираю в мякоть молотый красный перец. Взбиваю густые сливки, поливаю ими жареные «медовики» и сверху посыпаю козьим сыром. «Ты только подавай их теплыми и сыра на жалей. К персикам мы обычно предлагаем несладкие булочки с изюмом. Получается еще вкуснее».
Сома обещает поделиться со мной еще парочкой рецептов, если я приглашу ее на «наши» пирожки с капустой: «Я их однажды давно попробовала, у нас татарка работала… Вкуснятина! Но у меня так не получается». Мы договариваемся о встрече в конце следующей недели, и я усиленно пытаюсь вспомнить, как же бабушка готовила пирожки.
8
Давно не плачу. Я не давала себе установок «ты должна быть сильной», не боролась с печальными мыслями, не бодрила себя искусственно. За время пребывания в Овальном городе я заметила, что освободилась от страха опустить руки. Пусть они находятся в том положении, в каком удобнее в тот или иной момент. Наверное, в этом и есть настоящая сила, которую обретаешь через позволение себе слабости.
Невозможно проснуться утром сильным человеком – я хотела бы так, но невозможно. Зато можно перестать биться головой об одну и ту же стену и сменить направление движения. Если нет дороги на запад, тогда лучше ехать на восток. Земля в любом случае круглая – рано или поздно каждый придет к тому, к чему должен прийти. Правда, пока я не знаю, где моя конечная остановка.
Но зато знаю, чего хочу, – может, это и есть самая главная цель, итог, точка в конце сложноподчиненного предложения? Освободиться. От упущенного, неразделенного, невысказанного и, казалось бы, непреодолимого. Это мое лекарство от самой что ни на есть настоящей болезни, которую не способен вылечить ни один врач. Никто, кроме меня самой.
Конечно, эксперименты над собой стоят очень дорого, никто ведь не знает, каким будет результат, но лично мне терять нечего…
Я всегда была веселой. Это я к тому, что еще каких-то десять лет назад на меня не давил груз подобных мыслей. Однако я не была легкомысленной и не избегала грусти с помощью болтовни в компаниях и прослушивания зажигательных песен. Я задумывалась о том, что происходит вокруг меня, но не зацикливалась на этом. Храбро плыла по течению, не пытаясь менять курс. Решала по ходу мелкие ежедневные задачи, а все более масштабные постепенно разруливались сами собой.
Я будто наполовину рассы́палась, когда потеряла бабушку с дедушкой, а следом и маму. Потом полюбила и рассталась, а еще позже – полюбила и ушла. Рассыпалась еще на четверть. Так и живу оставшейся четвертинкой – изрядно утратив легкости бытия.
Сейчас, когда смотрю на свою фотографию из прошлого – улыбающаяся рыжая девушка в обнимку с дедушкиной таксой, – не могу вспомнить, каково мне было тогда. Будто это долгое время существовал какой-то параллельный мир, гармонично вплетенный в реальный. И вот однажды утром я открыла глаза, встала с кровати, пошла умываться и, посмотрев на себя в зеркало, поняла, что другого, параллельного, мира больше нет. И даже, может быть, никогда и не было.
Наверное, это хорошо, и так и должно было случиться, чтобы, встретившись лицом к лицу с тяжелым диагнозом, принять его достойно, без крайностей, без попыток – всегда тщетных – найти утешение в чужом сочувствии.
* * *Утром в Овальном городе звучат патефоны. Звуки старых песен раскатываются по узким улочкам колесами пластинок, чуть исцарапанных иглами времени. Пожилая дама из дома напротив начинает свой день балладами Ламинсы – смуглой певицы с золотистыми бусами на гусиной шее, поющей о «радостной тоске». Когда Начо рассказала мне о Ламинсе, я подумала: как можно радоваться тоске? С ней либо смиряются, либо сражаются. Но радоваться? Нет, такое мне еще не знакомо!
А потом я ее услышала и согласилась, что тоска может радовать. У нее есть песня «Saria Ilorando»[1]. Моя и словно для меня написана. Начо тоже больше всех ее любит. В ней поется о судьбе ткачихи Сарии, которая с трудом вырастила дочь, желая ей другой судьбы, отличной от своей. Чтобы ее не бросали мужчины, чтобы она не видела войны и убитых слонов.
Но дочь Сарии повторяет судьбу матери. Теряет мужа во время волнений в Чили, остается одна с ребенком и идет работать к матери, потому что в стране война, голод и кондитеры никому не нужны – в городе давно нет праздников. И пожилая Сария плачет, вымаливая для своей дочери силы, которые той понадобятся в жизни, так похожей на материнскую.
«Иногда просто не верится, что все, пережитое тобой так остро, может повториться еще в чьей-то жизни… Об этом Ламинса поет в “Saria Ilorando”, ты уловила, Север? Мы же всегда уверены в исключительности своих чувств и опыта. Нам кажется, что только нам так не везет, только нам такое дается и только у нас это продолжается так долго. А в жизни все поровну. Если ты обретаешь любовь – значит, кто-то где-то ее потерял. А когда ты ее теряешь, то, значит, опять-таки для кого-то. Поэтому я не верю в любовь долгую, предположим, на шестой год совместной жизни. Это уже давно не любовь. Она преобразовывается во что-то другое. Уважение, близость, сопереживание».
Начо заваривает для меня кофе, и я думаю о том, что моя последняя любовь не успела во что-либо преобразоваться. Она осталась во мне. Раз и навсегда. Пожизненно.
9
Когда врач поставил мне диагноз, я не знала, как себя вести. Как выйти из больницы, доехать на метро до работы, зайти в офис и улыбаться как всегда, как обычно, когда мы с девочками собирались в послеобеденное время в курилке.
Я стояла в полупустом больничном коридоре, прислонившись к холодной стене, и пыталась вернуться в реальность. В жизнь, которую отнимает у меня болезнь. Я не плакала, не звонила двоюродной сестре, не думала о лечении. В тот момент я почему-то ушла в воспоминания о детстве.
Когда мне было пять лет, мама отправила меня к бабушке. Она жила на нижней Волге, под Астраханью. Спокойная деревенька, по которой круглый год носится лихой ветер, а воздух такой сладкий, что его хочется собрать про запас, в банки и ведра. Чтобы хватило надолго, до следующего приезда.
А еще там по осени перерабатывали помидоры. Протирали их через сито в томатную пасту. Она славилась в Союзе. Так вот, после обработки помидоров красные шкурки высыхали и, сворачиваясь в тонкие трубочки, разлетались по тамошним улицам. Сколько бы их ни убирали, все равно ветер, играя, перекатывал их по земле, и дороги около бабушкиного дома были красно-оранжевые, шелестящие.
В тот самый миг мне так захотелось вырваться из мрачной больницы и вернуться на нижнюю Волгу, к бабушке! К каждому моему приезду она пекла вафли с медом.
Я вышла из здания больницы, села в автобус и поехала домой. Проспала шесть дней, а на седьмое утро проснулась и снова пошла к врачу. Он посоветовал пообщаться с людьми, которым медицина бессильна помочь: «Надо говорить об этом, а не замыкаться в себе».
Я взяла координаты нескольких его пациенток, но встретилась только с одной из них. Валентина. Сорок два года, рак мочеполовой системы. Я приехала к ней домой, где-то в районе Каширки. Она лежала бледная, но улыбалась. Вокруг нее – две дочери и сын, самый младший в семье. Восьми лет. Увидев меня, он спросил: «А мама умирает?» Я присела на корточки, обняла его: «Мамы всегда с нами. Вот здесь, в сердце». Мальчик прижался ко мне крепче, прошептал на ухо: «Я тебе верю». Это был мой четвертый год без мамы.
Валентина не пила воду ей только смачивали губы. Химия лишила ее волос. Она не спросила моего имени, не поинтересовалась моей жизнью. Называла меня «девочка» и сжимала мою руку, когда говорила: «Знаешь, чего мне хочется, девочка? Отправиться к берегу океана, забыть о лекарствах, врачах, процедурах. Гулять по набережной, думать, что я еще могу и должна сделать в жизни. И воздух пусть там будет влажный, чтобы не мучила эта жажда. Если у тебя есть такая возможность – плюнь на все, уезжай, девочка».
Два месяца я продавала квартиру, месяц получала визу, еще полторы недели не решалась купить билет. В один конец.
* * *Купила поводок для Пако. Надела на его мохнатую шею, и пес заскулил, завилял хвостом. Наверное, тоже вспомнил детство, хозяйку, дом, где любили не из жалости, как брошенного, а по-настоящему, как члена семьи. Накормила его сухим кормом. Сначала он ел из вежливости, без особого аппетита, а потом, видно, вспомнил давно забытый вкус и энергично умял второй стакан.
Сегодня поговорю с соседями, если они не против, заберу Пако к себе. Мы привязались друг к другу, мы нужны друг другу – два случайных одиночества.
Сегодня выходной. На работу не нужно. На улице совсем не холодно, словно повернули рубильник, включающий весну. Утреннее солнце играет в темных волосах прохожих, лакируя их. Я несу в руке стаканчик горячего американо с сиропом, порывисто шагаю в сторону набережной. Пако радостно прыгает рядом, улыбается до ушей. Неужели бывает любовь с первого взгляда по отношению к городу? Такая глубокая любовь, а не туристическая очарованность? Как это происходит у меня? Когда иду по незнакомым улицам и полностью присутствую в них, не улетаю мыслью куда-то еще. Наоборот, ощущаю покой и гармонию с окружающей средой – хочется много гулять по утрам, все отчетливо видеть, вникать и оставлять на воображаемой карте кварталов, закоулков пометки «мое место». Я давно так делаю. У меня с Овальным городом сложилось сразу – может, из-за того, что я здесь ненадолго?..
Он не ревновал меня к городам, полюбившимся в прошлом. Не просил предъявить документы, не пугал трудностями. Сразу принялся демонстрировать свою красоту, правда, не раскрываясь до конца, интригуя, намекая, что все самое красивое – впереди.
Я полюбила Овальный город еще и за то, что здесь каждый может найти что-то свое. Не обязательно свое дело, но уж точно – своих людей.
10
«Я не особо общительная в последнее время. Но по молодости любила рассказать о наболевшем. Молчать не могла, хотя понимала, что молчание никогда не обернется против меня. Внутри кипело, да и слушателей вокруг было немало. Они вроде сопереживали, держали за руку, что-то советовали. Я при них же ругала себя за назойливость, а они меня крепко обнимали: мол, Начо, не неси чушь, мы тебе рады!
С годами только стала понимать, что мало кто кому-то до конца рад. Это не говорит о том, что люди подлые, а время плохое. Просто у каждого своя жизнь, в большинстве своем люди эгоисты, никто не хочет делить печаль ближнего – своей хватает! Теперь я редко кому открываюсь, а если и открываюсь, то сама себя останавливаю. Даже и так легче. Буквально пару слов скажу, слезу пущу вином запью, закурю – и проходит. Когда ничего ни от кого не ждешь, помощь приходит как чудо, а если рассчитывать на других – сплошное разочарование».
Посуда в квартире Начо, как и стены, фиолетового цвета. Даже турка с кофейными чашками. «На мое совершеннолетие Игнасио, мой циркач, подарил мне бирюзовые гиацинты. Можешь себе представить? Не знаю, где он их откопал, но такой красоты я никогда не встречала. И томик Лорки к цветам. Когда я сбежала из цирка и ехала на поезде в Овальный город, я всю дорогу читала стихи – и плакала, плакала, плакала. Навзрыд. Спустя двое суток добралась сюда. Умылась, вышла из вагона, оставив маленькую книжку у окна. Шла по городу, а в голове вертелись строки: “Не дари мне на память пустыни – все и так пустотою разъято”. С тех пор больше не плачу».
У моей соседки глаза большие и тревожные, как у оленя, длинные черные брови и высокая шея, на которой завязан бордовый шарфик. Под ним прячет послеоперационный шрам – удаляли зоб. Она отрезает мне кусок виноградного пирога и громко, хрипло кричит на непонятном языке в комнату. «Оболтусы, им завтра в школу, а они все еще перед телевизором! Вот сейчас встану да выброшу его с балкона! И волосы всем повыдергаю!»
Я не привыкла к подобным мерам воздействия, удивляюсь, но молчу. Южные женщины другие, резкие на слово, беспощадные в отношениях с мужчинами, могут поколотить детей, но при этом остаются щедрыми в любви и всегда готовы расправиться с тем, кто угрожает их семье.
«Я, когда полоснула Грека по животу, чуть за решетку не угодила. Повезло, что судья женщиной оказалась, – прониклась, оправдала. Я увидела, как этот сукин сын щиплет за задницу мою старшую. Сначала я устроила головомойку ей – за то, что не рассказала мне об этих приставаниях. Потом заперла детей дома и пошла выяснять отношения с этим ублюдком. С ножом. И убила бы, но потом вспомнила, что в ответе за своих сопляков, пожалела их. Красивый он был, как бог, но гнилой внутри оказался».
Начо курит крепкие сигареты без фильтра, красит длинные ногти вишневым лаком и носит маленький складной нож на роскошной груди: «У нас здесь мужики с избытком тестостерона. На белокожую, да еще и приезжую, полезут, как медведи на мед. Будь осторожна. Если что, зови меня, я им быстро рога пообломаю».
Она не расспрашивает о моей болезни, о причинах приезда сюда. Всегда зовет к себе, угощает чем-нибудь вкусненьким, а сегодня подарила томик стихов. Лорки. Новое издание, на русском языке. Откуда взяла – один Бог знает. Книжку Начо подписала размашисто фиолетовыми чернилами: «Сестра! Черная полоса иногда становится взлетной. Я рыжих терпеть не могу, а ты стала первым и последним исключением. Прорвемся! Твоя старая клоунесса с картонным мечом. Начо».
Я стояла в тесной прихожей под угрюмой люстрой, вертела в руках книгу Лорки и ревела. Начо вытирала мои слезы рукавом своей безразмерной блузки, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Хорош реветь, Север! И давай быстрее проваливай, а то я в штаны надую». Я сажусь на лестницу в подъезде, и Пако просыпается, подбегает ко мне. «Привет, малыш! Завтра после работы сходим с тобой к ветеринару, а оттуда прямиком ко мне, домой. Теперь ты не будешь спать на холодных лестницах. Усыновляю тебя».
Закуриваю сигарету, выхожу на ночную улицу. Тишина. Еле слышно дыхание набережной. Все же есть люди бесконечные, как космос. Много с кем можно улыбаться, смеяться от души, говорить всякое-всякое. А вот большая редкость, когда с кем-нибудь рядом можешь себя забыть. С Начо и еще с несколькими женщинами Овального города это получается даже у меня.
11
Мама называла меня Севером. Хотя в документах у меня другое имя. Обычное. Четыре буквы, из них две одинаковые. Бабушка возмущалась: «Ну что это за имя, доченька?! Как можно называть Севером рыжую веснушчатую девочку, да еще такую ласковую?» Мама ухмылялась, не отвечала и уходила на кухню, где курила любимый «Беломорканал», выдыхая дым в форточку.
Она почему-то запомнилась мне именно такой. Прямая спина, темный костюм, белая рубашка с пышным воротником, сухая английская худоба, волосы заправлены за уши. На фоне нашего кухонного окна с приоткрытой форточкой.
Мы жили в двухкомнатной «сталинке» с протекающими кранами, почти в центре Москвы. Мама была человеком трудным, конфликтным, вся из углов, локтей, подозрений. Обеденный стол в гостиной всегда был завален ее бумагами, папками, журналами. Она была суетлива и вдумчива, вся в работе. Завкафедрой МГУ. Это не шутки. Не было у нас ни шумных посиделок с друзьями, ни воскресных пирогов – было не до домашнего уюта.
Меня вырастили бабушка с дедушкой. Маму я тоже любила – именно «тоже». Мы не были близки, похожи. «А ты – вся в бабушку! – роняла она будто с упреком. – Веселишься, смеешься, живешь одним днем. Совсем не думаешь об образовании, карьере. Анна Павловна уже научила тебя месить тесто?»
Бабушка никогда не отвечала маме, лишь обиженно супилась, шепча под нос молитву. Если наталкивалась на мой недоуменный взгляд, то принималась оправдывать резкость единственной дочери: «У нее работа тяжелая. Все одна да одна. Сама выучилась, вырвалась из Архангельска, переехала в Москву, квартиру получила. Она сильная. И работа тяжелая. Да, тяжелая… работа».
Я, маленькая пампушка с веснушками по всему лицу, не понимала, что значит «вырваться из Архангельска», что такое тяжелая работа и почему она влияет на отношения в семье. Мне было обидно за бабушку. О себе я как-то не думала. Я просто привыкла к такой маме, особенной, с тяжелой работой, хотя и жалела, что она у меня не такая, как мама Тани Кудрявцевой с третьей парты, которая на большой перемене подкармливала дочку картошечкой в масле, вареными яйцами и сочно хрустящими огурцами. До сих пор помню их запах.
В девять лет я написала маме записку и положила ей под подушку. В записке спросила о том, о чем не решалась спросить вслух. Боялась даже не реакции мамы, а чего-то другого – странного и необъяснимого. Боялась самого ответа? Боялась открыть форточку в своем мире, куда ворвется ледяной ветер и все самое теплое, полученное от бабули с дедулей, покроется инеем?
В записке я написала: «Мамочка, почему ты называешь меня Севером?» Ответа не было. Зато на следующий день я услышала, как мама ругалась с бабушкой по телефону: «Стоит ей побыть у тебя неделю, как она становится… инфантильной! Да, мама, именно! Из-за тебя моя дочь отдалилась от меня. Вчера она написала мне записку и спросила, почему я называю ее Севером. Я узнаю ваши ходы, Анна Павловна! Молчишь, молишься, а своего все равно не упускаешь».
Тогда я не получила ответа на вопрос. Только за два дня до смерти мамы я снова спросила ее об этом. «Ты всегда была вдалеке от меня. Между нами всегда было холодно».
Я ведь любила ее. Какие бы сложности ни пролегали между нами, я чувствовала, что и она меня любит. По-своему – молчаливая, с угрюмым взглядом, стоящая у кухонного окна родная женщина. И я никогда не была недолюбленной – благодаря бабушке, буквально затопившей меня океаном тепла, внимания. Она постоянно напоминала мне: «Мама у тебя умница. Целый день работает, ее уважают, на конференции приглашают. Она старается для тебя. Потому что любит тебя и хочет, чтобы ты хорошо училась. Каждую ночь, когда ты спишь, звонит, спрашивает о тебе, о твоих оценках. Я ей говорю, что Север нас не подводит, она тоже умница».
Бабушка прижимала меня к себе, целовала в затылок, а я дышала ее нежным дрожжевым запахом и рассматривала крестик на белоснежной груди с россыпью красных родинок. А когда наше объятие размыкалось, я видела ее мокрые сиреневые глаза, из которых вытекали прозрачные крупные слезы: «Бабуль, ты плачешь?!»
«Не обращай внимания, солнышко! Я всегда плачу, когда молюсь. За Катю».
12
Я почти научилась не думать о тебе. Порою все-таки тянет позвонить, сказать об этой моей победе. Чтобы ты не обольщался относительно своей исключительности. Чтобы не думал, что я уехала в другую страну, потому что боялась жить там, где легко встретить тебя. Я бы сказала тебе это, нажала «отбой» – и разом выдохнула бы из себя то странное время, когда ты заслонял собой весь мир.
Между прочим, за годы с тобой я так ни разу и не услышала «Я люблю тебя». А ведь ты говорил, что я тебе дорога, что ты беспокоишься, когда я не рядом с тобой. Ты вообще неразговорчивый, больше молчал. Я связывала эту сдержанность с тем, что ты не такой, как все.
Совсем-совсем другой – мужественный, далекий от проявлений сентиментальности: «Любит, конечно, но не говорит об этом». Ты же был заботливым, учтивым. И я уговаривала себя: «Север, угомонись, зачем тебе слова, если есть поступки?»
Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом уронил упрямо: «Мне с тобой хорошо. Этого недостаточно?» В тот момент я еще раз убедилась, что способна по-бабски приукрасить абсолютно все – свою жизнь, чувства любимого мужчины, окружающий мир. Женщины – прирожденные художники-декораторы. С кистью в руках и мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою чистые холсты – рисуем, раскрашиваем, где-то подтираем, что-то замазываем. Только вот, как правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не с натуры, а идя на поводу у фантазий, желаний: и вот оно – сплошное несоответствие с действительностью. У меня так и получилось. Хотя я ни о чем не жалею. Было много хорошего.
Помню, как мы развлекались в вечерней давке метро, определяя по поведению человека, на какой станции он сойдет. Я ошибалась – ты угадывал. А еще помню калейдоскоп приключений в Италии, куда мы сбежали тайно, никого не предупредив. Даже на работе не сказали об отъезде: знали же – все равно не отпустят. Да и нам было плевать. Выгребли последние деньги, купили билеты, оформили визы и уехали, не задумываясь, что будет после нашего возвращения и на какие деньги проживем остаток года.
Гуляли по Риму, пили лимончелло, объедались таким количеством пасты, что на четвертый день с трудом застегивали пуговицы на джинсах. Мы сидели на камнях с тысячелетней историей, вели один дневник на двоих, где ты писал черными чернилами, а я красными, и безуспешно старались заниматься любовью беззвучно – стены в квартире, которую мы сняли, были будто из папиросной бумаги.
Я ушла с высоко поднятой головой, легкой походкой. Автоматическим движением нажала на кнопку лифта, зашла в кабину. Двери закрылись, и я разревелась. Не хотела, чтобы ты видел мое поражение. На тот момент я, дура, считала это своим поражением: меня вдруг стало так мало, что еще чуть-чуть – и совсем растворилась бы в собственном горе.
Неделю просидела дома. Курила на подоконнике, плакала над фотографиями, закладывала белье в стиральную машину. Перестирала весь гардероб. Вытаскивала из барабана мокрые вещи – и мне казалось, что это частички обновленной меня, свободные от пыли воспоминаний. Все же я оплакивала потерю не любимого человека – скорее надежд и планов, которым предавалась в твоих объятиях, к которым страстно привязалась. А это было всего лишь хорошее время, многому меня научившее.
Мне осталось собрать все, что к нему относится, и выпустить из себя на волю. Что меня держит в прошлом? Да ничего. Наверное, привычка. Или груз отношений. Жаль потраченных сил – так не хочется оставлять на пляже замок из песка, который ты целый день строил под палящими лучами. Но, как бы ни тянуло назад, какой бы неизменной в сомнениях и нерешительной в поступках ты ни была, все равно наступает день, когда делаешь то, что давно было пора сделать.