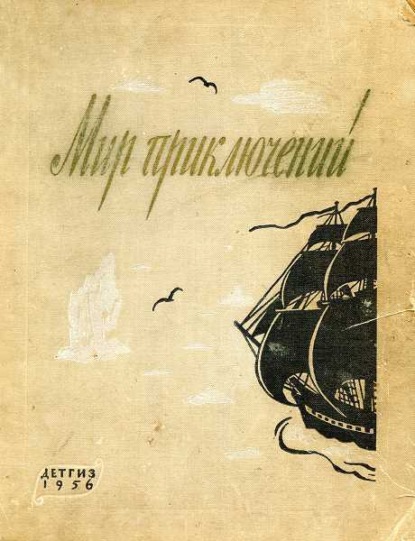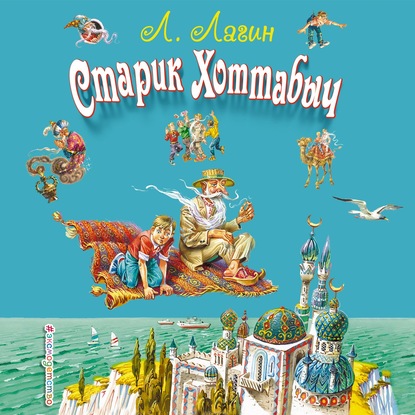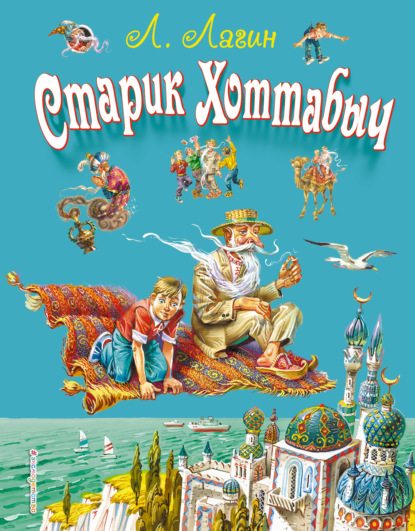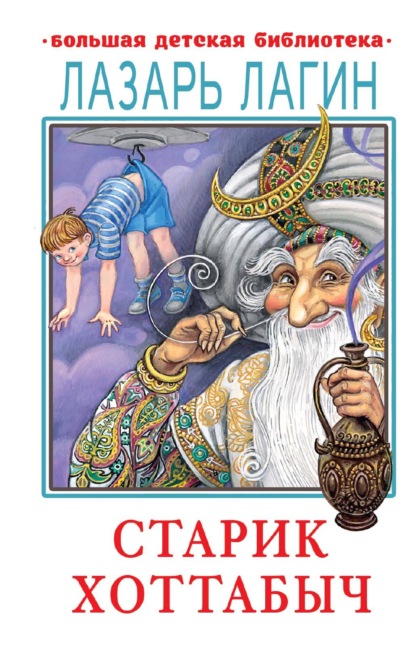
Полная версия
Старик Хоттабыч
– Я попросил бы не тыкать, – устало возразил Степан Степанович и после непродолжительного молчания добавил: – Завтра я не смогу. Завтра я работаю в ночной смене.
Хоттабыч посмотрел на него так многозначительно, что Степан Степанович еле смог выдавить из себя вопрос:
– А, извините за назойливость, как часто мне придется лазить по утрам через окошко к этому молодому товарищу?
– Пока у него не перестанет расти борода, – сурово ответил старик, и Степан Степанович с тоской подумал, что борода у этого молодого человека, очевидно, еще только начала расти и вряд ли перестанет расти до самой его смерти.
Тогда у Степана Степановича от горя подкосились ноги, он тяжело упал на стул и пролепетал:
– В таком случае, мне придется перейти на такое предприятие, где работают в одну смену.
– Меня это не касается, – сухо ответил старик.
– Разрешите второй вопрос, – сказал Степан Степанович, с трудом поворачивая язык, – может быть, все-таки лучше будет вам попробовать средство для удаления волос, которое можно приобрести в любой аптеке? Это избавило бы нашего молодого товарища от необходимости бриться каждый день.
– Я не завидую твоей судьбе, если ты нам врешь про это средство, – зловеще проговорил Хоттабыч и, отпустив перепуганного насмерть Степана Степановича, отправился в ближайшую аптеку.
Вскоре он вернулся с аккуратно завязанным пакетиком.
– Мы испробуем это средство, когда закатится солнце, о благородный отрок, – сказал он повеселевшему Вольке, который поджидал его у подъезда, уписывая за обе щеки огромный кусок пирога с капустой.
Что же касается Степана Степановича Пивораки, который уже больше не появится в нашей глубоко правдивой повести, то доподлинно известно, что он после описанных выше злоключений совершенно изменился.
Раньше болтливый, он стал сейчас скуп на слова и каждое из них тщательно взвешивает, перед тем как произнести. Недавно еще большой любитель выпить, он решительно прекратил после этого дня потреблять алкогольные напитки и даже, если верить слухам, переменил фамилию Пивораки на более соответствующую его теперешнему настроению – фамилию Ессентуки.
Интервью с легким водолазом
Всю ночь родители Сережи Кружкина и Жени Богорада провели на ногах. Они звонили по телефону всем своим знакомым, объездили на такси все отделения милиции, все больницы, побывали в уголовном розыске и даже в городском морге. И все безрезультатно. Ребята как в воду канули.
Наутро директор школы вызвал к себе и лично опросил одноклассников Сережи и Жени, в том числе и Вольку Костылькова. Волька честно рассказал про вчерашнюю встречу с Женей Богорадом в кино, благоразумно умолчав, конечно, про бороду. При этом он страшно волновался, как бы директор или кто-нибудь из присутствующих не обратил внимания на его бритые щеки. Но директору было не до Волькиных щек.
Одна из девочек, немножко поплакав, вспомнила, что часов около восьми вечера она встретила Сережу на Пушкинской улице. Сережа был в превосходном настроении и спешил домой обедать. Такие же показания дали еще несколько учеников, но ни одно из них не помогло найти нити для дальнейших поисков.
Уже школьники, задумчивые и невеселые, собирались разойтись по домам, когда вдруг один мальчик вспомнил, что Сережа с Женей собирались после школы пойти купаться. И тогда все похолодели от страшной мысли.
Ну, конечно, ребята пошли купаться и утонули.
Через полчаса все наличные силы Освода были брошены на розыски юных утопленников. Сотрудники спасательных станций старательно обшарили баграми всю реку в пределах черты города, но ничего не нашли. Водолазы добросовестно обходили русло реки, подолгу прощупывая омуты, и также ничего не обнаружили.
Так они и доложили своему начальнику. Начальник снял свою форменную фуражку, вытер носовым платком лоб, вспотевший от жары и забот, и приказал продолжать поиски вплоть до наступления темноты.
Уже спускалась над рекой огненная стена заката, слабый ветер доносил из Парка культуры низкие звуки сирены – знак того, что в летнем театре начинался вечерний спектакль, а на реке еще виднелись темные силуэты осводовских лодок, разыскивающих Сережу и Женю.
В этот прохладный и тихий вечер не сиделось дома. Тем более что Волька только что натер свои щеки средством для удаления волос, и лицо действительно стало почти совсем гладким.
– Ничего, о Волька ибн Алеша, – успокоил его Хоттабыч, – на сегодня вполне достаточно, а завтра к вечеру истечет срок колдовству, и тогда растительность на твоем лице исчезнет, как будто ее и не было вовсе. Ибо, к счастью, я заколдовал тебя малым колдовством.
– Пойдем погуляем, что ли, – сказал Волька, и вскоре они уже шагали вдоль широкой асфальтированной набережной.
– Что это за люди со странными головами стоят в этих утлых суденышках? – спросил старик, указывая на осводовские лодки.
– Это легкие водолазы, – печально ответил Волька, вспомнив о своих пропавших друзьях.
– Мир с тобою, о достойный легкий водолаз, – величественно обратился тогда Хоттабыч к одному из водолазов, высаживавшемуся из лодки на берег. – Что ты разыскиваешь здесь, на дне этой прохладной реки?
– Утонули два мальчика, вот мы их и ищем, – ответил водолаз и быстро взбежал по ступенькам в помещение спасательной станции.
– Я не имею больше вопросов, о высокочтимый легкий водолаз, – промолвил ему вслед Хоттабыч.
Затем он вернулся к Вольке, низко поклонился и произнес:
– Целую землю у ног твоих, о достойнейший из учащихся неполной средней школы.
– В чем дело?
– Правильно ли я понял этого легкого водолаза, что он разыскивает двух отроков, имеющих высокую честь быть твоими товарищами?
Волька вместо ответа молча кивнул головой.
– И один из них лицом круглолиц, телом коренаст, носом курнос, и волосы его подстрижены не так, как это подобает отроку?
– Да, это Женя. У него прическа «бокс». Он был большой франт, – сказал Волька и очень грустно вздохнул.
– Мы его видели вчера в кино? Это он что-то тебе кричал, и ты был опечален, что он всем расскажет о твоей бороде?
– Да, верно. Откуда ты узнал, что я об этом подумал?
– И теперь ты боишься, что найдут твоего приятеля Женю? – продолжал старик, не ответя на Волькин вопрос. – Так не бойся этого.
– Неправда! Совсем не то, – обиделся Волька. – Совсем я не этим опечален. Мне, наоборот, очень грустно, что Женя утонул.
Хоттабыч с сожалением посмотрел на Вольку и, победоносно ухмыльнувшись, сказал:
– Он не утонул.
– Как не утонул?! Откуда ты это знаешь?
– Мне ли не знать! – сказал тогда, торжествуя, старик Хоттабыч. – Я подстерег его вчера, когда он выходил из кино, и продал в рабство в Индию. Пусть там кому хочет рассказывает о твоей бороде…
Намечается полет
– То есть как это – в рабство? – спросил потрясенный Волька.
Старик понял, что опять получилось не так, как надо, и его лицо сразу приняло кислое выражение.
– Очень просто, обыкновенно, как всегда продают в рабство! – нервно огрызнулся он. – Взял и продал в рабство. Чтобы не трепался.
– И Сережку ты тоже продал?
– Вот уж кого не продавал, того не продавал. Кто это такой Сережка, о прелестнейший?
– Он тоже пропал. Женя пропал, и он пропал.
– Я не знаю мальчика по имени Сережка, величайший в мире балда!
– Это кого ты назвал балдой? – полез Волька в амбицию.
– Тебя, Волька ибн Алеша, ибо ты не по годам мудр, – сказал Хоттабыч, очень довольный, что ему удалось так кстати ввернуть слово, которое он впервые услышал от Вольки в парикмахерской.
Волька сначала хотел обидеться, но вовремя вспомнил, что обижаться в данном случае нужно только на самого себя. Он покраснел и, стараясь не смотреть в честные глаза старика, попросил Хоттабыча не называть его балдой, ибо он не заслуживает этого звания.
– Хвалю твою скромность, бесценный Волька ибн Алеша, – молвил Хоттабыч и устало добавил: – А теперь не говори мне больше ничего об этом Сережке, ибо я ослаб от множества вопросов и умолкаю.
Тогда Волька сел на скамейку и заплакал от бессильной злобы. Старик всполошился, он не понял, в чем дело. Робко усевшись на самый край скамейки, он умоляюще заглянул в Волькины заплаканные глаза и прошептал:
– Что означает этот плач, тебя одолевший? Отвечай же, не разрывай моего сердца на куски, о юный мой господин!
– Верни нам, пожалуйста, обратно Женю.
Хоттабыч внимательно посмотрел на Вольку, пожевал губами и задумчиво произнес, обращаясь больше к самому себе, нежели к Вольке:
– Я сам себе удивляюсь. Что бы я ни сделал, все тебе не нравится. В другое время я бы тебя давно наказал за такую строптивость. Мне для этого стоит лишь двинуть пальцем. А теперь я не только не наказываю тебя, но даже чувствую себя в чем-то виноватым. Интересно, в чем дело? Неужели в старости? Эх, старею я…
– Что ты, что ты, Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, ты еще очень молодо выглядишь, – сказал сквозь слезы Волька.
Действительно, старик для своих трех с лишим тысяч лет сохранился совсем неплохо. Ему нельзя было дать на вид больше ста, ста десяти лет. Скажем прямо: любой из нас выглядел бы в его годы значительно старше.
– Ну, уж ты скажешь – «очень молодо», – самодовольно ухмыльнулся Хоттабыч и, доброжелательно взглянув на Вольку, добавил: – Нет, вернуть сюда Женю я, поверь мне, не в силах.
У Вольки снова появились слезы.
– Но, – продолжал Хоттабыч многозначительно, – если ты не возражаешь, мы можем за ним слетать.
– Слетать?! В Индию?! На чем?
– То есть как это на чем? Конечно, на ковре-самолете. Не на птицах же нам лететь, – ехидно отвечал старик.
– Когда можно вылететь? – всполошился Волька.
И старик ответил:
– Хоть сейчас.
– Тогда немедля в полет, – сказал Волька и тут же замялся: – Вот только не знаю, как быть с родителями. Они будут волноваться, если я улечу, ничего им не сказав. А если скажу, то не пустят.
– Пусть это тебя не беспокоит, – отвечал старик, – я сделаю так, что они тебя ни разу не вспомнят за время нашего отсутствия.
– Ну, ты не знаешь моих родителей.
– А ты не знаешь Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба.
В полете
В одном уголке ковра-самолета ворс был в неважном состоянии – это, наверное, постаралась моль. В остальном же ковер отлично сохранился, а что касается кистей, украшавших его, то они были совсем как новые. Вольке показалось даже, что он уже где-то видел точно такой ковер, но никак не мог вспомнить где. Не то на квартире у Сережи, не то в школе, в учительской.
Старт был дан в саду, при полном отсутствии публики. Хоттабыч взял Вольку за руку и поставил его рядом с собой на самой серединке ковра. Затем он вырвал три волоса из своей бороды, дунул на них и что-то зашептал, сосредоточенно закатив глаза. Ковер затрепетал, один за другим поднялись вверх все четыре угла с кистями, потом выгнулись и поднялись вверх края ковра, но середина его продолжала покоиться на траве под тяжестью пассажиров. Потрепетав немножко, ковер застыл в неподвижности. Старик сконфуженно засуетился:
– Прости меня, о любезный Волька. Случилось недоразумение. Я это все сейчас исправлю.
Хоттабыч с минутку подумал, произведя какие-то сложные вычисления на пальцах. Очевидно, на сей раз он пришел к правильному решению, потому что лицо его сразу прояснилось. Он бодро выдрал из своей бороды еще шесть волосинок, половинку одной из них оторвал и выбросил как лишнюю, а на остальные, как и в первый раз, подул и произнес, закатив глаза, заклинания. Теперь ковер выпрямился, стал плоским и твердым, как лестничная площадка, и стремительно рванулся вверх, увлекая на себе улыбавшегося Хоттабыча и Вольку, у которого голова кружилась не то от восторга, не то от высоты.
Ковер поднялся выше самых высоких деревьев, выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над городом, полным сияющего мерцания огней. Снизу доносились приглушенные человеческие голоса, автомобильные сирены, пение гребцов на реке, отдаленные звуки духового оркестра.
Вечерняя темнота окутала город, а здесь, наверху, еще виден был багровый солнечный диск, медленно катившийся за горизонт.
– Интересно, – промолвил Волька задумчиво, – интересно, на какой мы сейчас высоте.
– Локтей шестьсот-семьсот, – отвечал Хоттабыч, продолжая что-то высчитывать на пальцах.
Между тем ковер лег на курс, продолжая одновременно набирать высоту, и Вольке надоело стоять неподвижно. Он осторожно нагнулся и попытался сесть, поджал под себя ноги, как это сделал Хоттабыч, но никакого удовлетворения, а тем более удовольствия от этого способа сидения не испытал. Тогда, зажмурив глаза, чтобы побороть противное чувство головокружения, Волька уселся, свесив ноги с ковра. Так сидеть было удобнее, но зато немилосердно дуло в ноги, их относило ветром в сторону.
Ковер вошел в полосу облаков. Из-за густого тумана Волька еле мог различать своего спутника, хотя тот сидел рядом с ним. Ковер, кисти ковра, Волькина одежда и все находившееся в его карманах набухло от сырости.
– У меня есть предложение, – сказал Волька, щелкая зубами.
– М-м-м? – вопросительно промычал Хоттабыч.
– Я предлагаю набрать высоту и вылететь из полосы тумана.
– С любовью и удовольствием, любезный Волька. Сколь поразительна зрелость твоего ума!
Ковер, хлюпая набухшими кистями, тяжело взмыл вверх, и вскоре над ними уже открылось чистое темно-синее небо, усеянное редкими звездами, а под ними покоилось белоснежное море облаков с застывшими округлыми волнами.
Теперь наши путешественники уже больше не страдали от сырости, они теперь страдали от холода.
– Х-х-хор-рро-шо б-было б-бы сейчас д-до-стать чего-нибудь т-теплень-кого из одежды, – мечтательно сказал Волька, у которого зуб на зуб не попадал.
– П-по-пожалуйста, о блаженный Волька ибн Алеша, – ответствовал Хоттабыч и прикрыл свернувшегося калачиком Вольку неведомо откуда появившимся халатом. Халат был из чудесной тонкой материи, превосходной расцветки и имел только один – правда, довольно существенный – недостаток. Он был рассчитан на пользование им в Багдаде или в Дамаске, и поэтому при температуре в четыре градуса мороза он не столько заменял собою одеяло, сколько создавал красивую, но не греющую видимость его.
И все же Волька уснул. Он спал, а ковер-самолет неслышно пролетал над горами и долинами, над полями и лугами, над реками и ручейками, над колхозами и городами. Все дальше и дальние на юго-восток, все ближе и ближе к таинственной Индии, где томился в цепях юный невольник Женя Богорад.
Волька проснулся через два часа, когда еще было совсем темно. Его разбудили стужа и какой-то тихий мелодичный звон, походивший на звон ламповых хрустальных подвесков. Это звенели сосульки на бороде Хоттабыча и обледеневшие кисти ковра. Вообще же весь ковер покрылся противной, скользкой ледяной коркой. Это немедленно отразилось на его летных качествах и, в первую очередь, на скорости его полета. Кроме того, теперь при самом незначительном вираже этого сказочного средства передвижения его пассажирам угрожала смертельная опасность свалиться в пропасть. А тут еще начались бесчисленные воздушные ямы. Ковер падал со страшной высоты, нелепо вихляя и кружась. Волька и Хоттабыч хватались тогда за кисти ковра, невыносимо страдая одновременно от бортовой и килевой качки, от головокружения, от холода и, наконец, просто от страха.
Старик долго крепился, но после одной особенно глубокой воздушной ямы пал духом и робко начал:
– О отрок, подобный обрезку луны, одно дело было забросить твоего друга в Индию. Для этого потребовалось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сосчитать до десяти. Другое дело – лететь на ковре-самолете. Видишь, мы уже сколько летим, а ведь пролетели едва одну десятую часть пути. Так не вернуться ли нам обратно, чтобы не превратиться в кусочки льда?
– Ну, знаешь, я тебя просто не узнаю, старик. Как это у тебя язык поворачивается предложить оставить друга в беде?
С этими словами Волька укутался в халат и снова уснул. Через некоторое время его разбудил Хоттабыч, посиневший от холода, но чем-то очень довольный.
– Неужели нельзя дать человеку спокойно поспать? – забрюзжал Волька и снова накрылся с головой.
Но старик сорвал с него халат и крикнул:
– Я пришел к тебе с радостью, о Волька! Нам незачем лететь в Индию. Ты меня можешь поздравить: я уже снова умею расколдовывать. Бессонная ночь на морозе помогла мне вспомнить, как снимать заклятия. Прикажи возвращаться обратно, о юный мой повелитель.
– А Женя?
– Не беспокойся, он вернется домой одновременно с нами или даже чуть раньше.

– Ну, тогда я не возражаю, – ответил Волька.
И вот продрогшие, но счастливые пассажиры ковра-самолета финишировали наконец в том же месте, откуда они вчера отправились в свой беспосадочный перелет.
– Волька, это ты? – услышали они тотчас же мальчишеский голос, доносившийся из-под старой развесистой яблони.
– Женька! Ой, Женька! Боже мой, ведь это Женя! – закричал Волька Хоттабычу и побежал к своему приятелю. – Женя! Это ты?
– Я, а то кто? Конечно, я.
– Ты из Индии?
– А то откуда? Ясное дело, из Индии.
– Ой, как это интересно, Женька! Скорее иди расскажи, что с тобой там было.
И тут же под яблоней Женя Богорад рассказал своему старинному приятелю Вольке Костылькову о своих приключениях на чайной плантации в одном из заброшенных уголков Индии.
Поверьте автору на слово, что Женя вел себя там так, как надлежит вести себя в условиях жестокой эксплуатации юному пионеру.
Автор этой глубоко правдивой повести достиг довольно преклонного возраста и ни разу не обострил своих отношений с вице-королем Индии. Поэтому ему не хотелось бы испортить эти с таким трудом наладившиеся отношения. А рассказ Жени Богорада, совсем еще юного гражданина Советского Союза, о том, что он видел в Индии, придирчивые дипломаты могли бы определить как вмешательство во внутренние дела жемчужины британской короны.
Аллах с ней, с этой жемчужиной! Вернемся лучше к нашим баранам.
Опять все хорошо
Примерно в то время, когда возвращавшийся ковер-самолет был уже где-то в районе Серпухова, безутешные родители пропавших ребят снова собрались на квартире у Кружкиных и в тысячу первый раз обдумывали, что им еще предпринять. Чай в стаканах давно остыл. Разговор не клеился. Иногда кто-нибудь произносил со вздохом что-то вроде:
– Подумать только, наш подрался как-то с ребятишками – они на него напали, он пришел домой ободранный и расцарапанный. А я ему говорю: «Почему это на меня не нападают мальчишки?» Не правда ли, глупо?
И снова наступала томительная тишина.
Похудевший за эти три дня Александр Никитич нервно шагал по комнате из угла в угол. Он так тяжело переживал исчезновение сына, что Татьяна Ивановна не выдержала наконец и сказала:
– Знаешь что, Шура, сходил бы ты в институт, проведал бы своих баранов. И для работы польза, и развлекся бы немножко.
Минут через десять после его ухода раздался телефонный звонок, и Татьяна Ивановна услышала в трубке неуверенный мальчишеский голос:
– Это квартира Кружкиных?
– Да, – ответила Татьяна Ивановна, – Кружкиных. А в чем дело?
– У вас здесь нет случайно кого-нибудь из Богорадов?
– Есть. А кто их спрашивает?
– Передайте им, пожалуйста, что их просит Женя.
– Какой Женя?
– То есть как это какой Женя?! Обыкновенно какой. Их сын Женя.
– Женечка, миленький, дорогой мой Женечка… – залепетала тогда Татьяна Ивановна в трубку. – Разве ты не утонул? То есть, Боже мой, что это я говорю! Ну, конечно, ты не утонул. Как я рада, Женечка, что ты не утонул! А где мой Сережа?
– Не знаю, – донесся издали голос, – я его сам три дня уже не видел.
– Как же это так? – еле выдавила из себя, глотая слезы, Татьяна Ивановна.
Но тут подбежал побледневший от волнения Николай Никандрович, вырвал у нее из рук трубку и закричал страшным голосом:
– Женька, это ты?
– А то кто? Конечно, я.
– Где же ты, разбойничья твоя душа, пропадал?
– Я… я… я гостил у одного товарища… в Можайске…
– В Можайске?! – залился счастливым смехом Богорад-старший. – Ах ты, такой-сякой, по гостям разъезжать задумал! Скажите, пожалуйста, какой мистер Пиквик! Ну мы, Женечка, сейчас придем домой. Смотри, сиди и жди нас, не вздумай снова уезжать в свой Можайск.
Наскоро попрощавшись с еще более погрустневшей Татьяной Ивановной, Богорады помчались домой.
Как раз к этому моменту Александр Никитич входил в ворота своего института. Постепенно невеселые мысли о сыне вытеснялись мечтами о молниеносной научной славе. Он с удовольствием вспомнил, что за три дня все еще не объявился хозяин баранов. Еще денечка два наблюдений, и можно приступать к статье.
С этими приятными мыслями Александр Никитич направился к хлеву.
Но что случилось? Оттуда доносился гул человеческих голосов и громкий прерывистый лязг цепей.
«Воры!» – промелькнула в мозгу Александра Никитича тревожная мысль.
Дрожавшими от волнения руками он отпер двери хлева, ворвался внутрь помещения и застыл как пораженный громом. Бараны бесследно пропали!
Вместо баранов в стойлах металось около двух десятков мужчин, прикованных цепями за ноги к стене.
– По-позвольте, – грозно закричал тогда Александр Никитич, – а где же бараны?
– Это мы и есть бараны, – зло ответил ему мужчина лет сорока пяти с наполовину побритым лицом. – То есть, вообще говоря, мы, конечно, не бараны, а, конечно, как вы видите, люди, а вот вы нас трое суток держите в этих дурацких стойлах. Да снимите вы наконец эти идиотские цепи с наших ног! – заорал он без всякого перехода, и со всех сторон к Александру Никитичу понеслись возмущенные голоса:
– Это безобразие! Мы жаловаться будем!
– Человеку не дают спокойно побриться! Обязательно превращают его в барана!
– Дома волнуются, а нас тут на пробу резать собираются!
– Снимите немедленно цепь, а то я весь хлев разнесу!
Ничего не понимавший и изрядно перетрусивший Александр Никитич извлек из шкафа ключи от замков, которыми были скреплены цепи. Но в это время из самого отдаленного стойла донесся очень знакомый голос:
– Папа! Папочка!
– Сережа! Сынок мой милый! – закричал, не веря своему счастью, Александр Никитич и бросился тормошить и обнимать сына. – Вот это здорово! Нет, это просто здорово! Как ты сюда попал, а? Мы тебя ищем по всему городу. Ты, отказывается, здесь, под самым моим носом, и даже виду не показываешь!
– Я же еще третьего дня на улице прыгал вокруг тебя, – оправдывался Сережа, – ты даже сказал тогда милиционеру, что уже давно ведешь наблюдения над этим молодым барашком – надо мной, значит. Вот я и думал, что ты меня узнал.
– Да нет же, – отвечал счастливым голосом Александр Никитич, – я тогда, сказать тебе правду, здорово врал.
Но, тут же поняв, что выставляет себя перед сыном в невыгодном свете, он смущенно закашлял и сказал:
– Вот мама обрадуется! Побегу позвоню ей.
Так и не сняв цепи с Сережиной ноги, он побежал к выходу. Тогда остальные пленники, с интересом наблюдавшие драматическую встречу отца и сына Кружкиных, подняли такой гвалт, что Александр Никитич, торопливо произнося неуклюжие извинения, бросился отпирать замочки на цепях и, чтобы показать свою полную беспристрастность, освободил Сережу самым последним.
– Где тут у вас жалобная книга? – приставал в это время к Александру Никитичу мужчина с наполовину выбритым лицом, которого Кружкин, кстати говоря, освободил первым. – Нет, я вас категорически спрашиваю, где жалобная книга?
Посоветовавшись немного, жертвы Хоттабыча решили дело замять и взяли друг с друга торжественные клятвы, что никто никогда никому и ни под каким видом не расскажет об удивительном их превращении из людей в баранов.
– Как ты попал в эту компанию? – спросил Александр Никитич у Сережи, когда они возвращались домой. – Ты разве тоже был в этой злосчастной парикмахерской?
– Да нет же, – отвечал Сережа, крепко держась за руку отца, – я как раз проходил мимо. Вдруг слышу – внутри парикмахерской люди прямо помирают со смеху. Я, конечно, полез в парикмахерскую смотреть, в чем дело, почему смеются. И уже сам смеюсь. Засунул я голову в залу, смотрю, а там только два человека нормальных – Волька Костыльков и какой-то старичок в смешных туфлях. А остальные все – и мастера, и остальные граждане – ну прямо на моих глазах превращались в баранов.
Тут я, как дурак, еще громче стал смеяться и в ладоши хлопать. И вдруг я слышу – что-то не тот звук получается. Не похожий на аплодисменты. Смотрю, а у меня вместо рук – копыта и сам я уже не человек, а барашек! Только ты, пожалуйста, папа, никому не рассказывай.