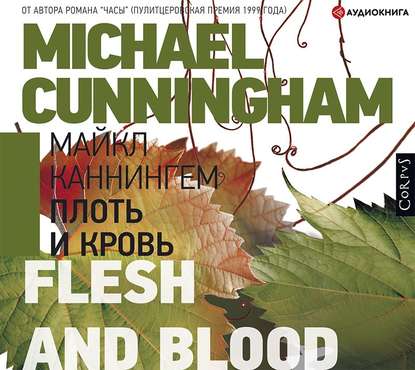Полная версия
Плоть и кровь
Конь все падал и падал. Ну не желал он стоять, и Билли раз за разом поднимал его и ставил на ноги. Если постараться посильнее, если не сдаваться, конь наконец останется стоять, уступив напору его воли. Билли сгибал и разгибал ноги коня, пока одна из них вдруг не переломилась в колене, издав окончательный, хрусткий звук. Билли, не веря в случившееся, держал отломанную ногу в одной руке, а искалеченного коня в другой. Нога была тоненькая, изящная, с шедшим поперек копыта неровным заусенцем.
Билли опустил ногу на ковер, осторожно, словно боялся сделать ей больно. И, держа в руке трехногого коня, подошел к отцовскому креслу и замер рядом с ним, нервно подрагивая. Так он и стоял, пока отец не заметил его.
– Ну? – спросил отец.
Говорить Билли не мог. Сквозь тонкую ткань просторных серых брюк отца проступали очертания его сложно устроенных шишковатых колен. Поверхность бедер, широких, как корпус корабля, отражала свет, а сами они покрывали неровными тенями зеленые глубины кресла. Билли находился в личном пространстве отца, дышал кислыми корпускулами его пота и табака.
– Так что? – спросил отец.
Билли пожал плечами, отец сердито нахмурился:
– Говори же.
– Мне нужен новый конь, – наконец выдавил Билли.
– Что?
– Этот конь сломался, – объяснил Билли и удивился, различив в своем голосе слезливую нотку. – У него нога отвалилась.
– А больше тебе ничего не нужно? – спросил отец.
– Он сломался, – повторил Билли.
Отец кивнул, он очень старался остаться спокойным и добрым.
– Твой конь все еще ничего себе, – сказал он. – Ну, помяли беднягу в бою. Но, главное, он здоров. Трех ног коню за глаза хватит.
– Нет, не хватит, – возразил Билли. Он понимал, что вот-вот заплачет, и понимал, что унизит себя, но ничего поделать не мог.
Отец шумно втянул в себя воздух.
– А если я тебе вместо коня футбольный мяч куплю? – спросил он. – Давай завтра сходим в “Айкз” и купим футбольный мяч, а? Как насчет этого?
Билли поколебался. Конечно, ему хотелось пойти утром с отцом в магазин, перепробовать все мячи, выбрать самый лучший. Но хотелось также получить и то, о чем он просил – маленького, мускулистого коня, исправного, способного стоять, как ему и положено.
– Я не хочу мяч, – ответил он, хоть это и было неправдой. Мяч Билли хотел. Он хотел всего.
Отец покачал головой.
– Ну тогда забудь об этом, – сказал он и повернулся к телевизору, на экране которого счастливая блондинка пела о чем-то, очень похожем на сыр, но намного лучшем.
Билли отдал бы все, лишь бы удержаться от слез, однако справиться с горем и возмущением было ему не под силу, и слезы взяли над ним верх, как, впрочем, и всегда. Плач был для него унижением. Он отвернулся от отца, не зная, куда теперь идти. Хорошо бы – в такое место, куда слезы за ним не увяжутся. Потом он вышел бы оттуда, сел бы рядом с отцом и стал смотреть телевизор, спокойно, не как сейчас, когда оба они недовольны и раздражены витающими вокруг звуками плача.
В комнату вошла мать Билли.
– Что тут у вас? – в руках она держала влажное кухонное полотенце, черные волосы ее блестели.
Билли, словно вынырнув из создаваемого им шума, беспомощно взглянул на нее.
– Твой сын хочет нового коня, – сказал отец. – Футбольный мяч ему не нужен. Я сказал, что куплю ему мяч, он не хочет. Он хочет нового игрушечного коня.
Билли уже ощущал себя испорченным, жадным, неблагодарным мальчишкой. Чем громче он ревел, тем сильнее становилось это ощущение, отчего он ревел еще громче. Если бы он мог, то ускользнул бы, как суслик, под землю и прорыл себе путь в Германию или в Японию – в любую страну, воздух которой он еще не успел замарать своими ничтожными желаниями.
Мама подошла к нему, присела на корточки. И с нею приблизились ее краски, решительное шуршание одежды.
– Что случилось с твоим конем, лапушка? – спросила она.
Билли не шелохнулся и ничего не сказал. Плач продолжался уже против его воли. Мама взяла из его ладони коня, оглядела полученное животным увечье.
– Не так уж и многого он хочет, – прошептала она. А потом сказала погромче: – Он же не просил купить ему футбольный мяч, верно? Насколько я понимаю, он попросил купить пластмассового коня, который стоит десять центов и сделан здесь, в Соединенных Штатах Америки.
– У него этих животных миллион, – ответил отец. – Ему нужен миллион и еще одно?
– Господи, услышал бы ты себя со стороны.
– Он хочет американскую игрушку – я куплю ему мяч.
– Об этом мы после поговорим, – сказала мама. – Пойдем, Билли. Пойдем со мной на кухню, поможешь мне с тарелками.
Билли последовал за ней, ничего другого ему не оставалось, потому что он был себе не хозяин. Он чувствовал, как молчание отца давит ему на затылок. На кухне мама вытерла Билли нос испускавшим ее запах платочком.
– Завтра пойдем и купим тебе нового коня, – сказала она. – Ладно? Мало ли какие беды случаются. Ничего страшного не произошло. Мы просто купим нового коня. Хорошо?
Он закивал изо всех сил. Мама улыбнулась, очень довольная, и сказала, что он хороший мальчик, сокровище. Сказала, что он заслуживает самых лучших вещей, а если кто-то говорит иначе, так этот человек просто ничего не понимает. Билли смотрел на нее с благодарностью. Она улыбнулась ему заученной улыбкой, которую Билли видел тысячи раз: уголки губ чуть вздернулись, глаза закрылись – так, точно улыбка причинила ей острую, непереносимую боль. И что-то взволновалось в его груди – ощущение до того неприятное, что Билли испугался, как бы его не стошнило. Мама была тем, кто все позволяет. Как же можно ее не любить? И он вдруг снова услышал хруст, который раздался, когда переломилась нога коня.
1963Все произошло очень быстро. И произошло, во-первых, потому что Константин был греком, а во-вторых, потому что он надумал выпить в баре пива. Случившееся опрокинуло все, что он знал, как ему представлялось, о причинах и следствиях. В один влажный, пропитанный золотистым светом день – сразу после летнего солнцестояния, – он познакомился с человеком по фамилии Казанзакис, тощим мужчиной с золотыми пуговицами на блейзере. У Константина был обеденный перерыв, и он вспомнил о находившемся неподалеку от стройки баре, заполненном в этот час мужчинами, которые смотрели бейсбол. Большой экран черно-белого телевизора помаргивал над рядами подсвеченных бутылок. Сбоку от него висела реклама пива – фотография льдисто-синего горного озера. Константин сел на свободный табурет, рядом с Казанзакисом, который смотрел матч и грыз арахис с жадностью нимало не голодного человека, которому хочется не столько набить живот орешками, сколько увидеть дно занимаемой ими чашки. Между двумя подачами Константин и Казанзакис разговорились. Поболтали о бейсболе, потом о строительстве. Константин работал тогда десятником на уже завершавшейся стройке. А Казанзакис был застройщиком, только-только приступившим к возведению состоявших из дешевых домов поселков – он называл их “населенными пунктами” – к северу и к западу от города. Они представились друг к другу, и каждый из них, услышав имя нового знакомого, сразу же назвал и место, в котором родился. Выяснилось, что дед и бабка Казанзакиса жили в деревне, стоявшей меньше чем в тридцати милях от места, в котором родился Константин. Оба перешли на греческий. Оба расхохотались и потребовали еще пива. И к концу третьего периода Константин получил новую работу. Ему предстояло надзирать за строительством самого последнего из “населенных пунктов”, который был уже заложен на осушенном болоте, лежавшем в двадцати милях от города. Они обменялись рукопожатиями, заказали еще по пиву. Казанзакис тощей рукой обнял Константина за плечи и объявил на весь бар: “Эй, болельщики, представляю вам моего нового партнера. Он грек, человек, которому я могу доверять”.
Случайность, бросок игрального кубика. Работа, на которой последние пятнадцать лет горбатился Константин, не значила почти ничего, если не считать того, что она научила его разбираться в потолочных балках и оконных рамах. Константин разбогател только потому, что решил заглянуть во вторник после полудня в пивную.
Ну и потому, что был греком. И ведь сколько лет Мэри твердила: “Мы американцы, Кон. Америка-нцы”. А греческое счастье его, раз заработав, останавливаться уже не желало. Казанзакис оказался обладателем острого чутья на человеческие потребности, уверенного знания того, что именно люди хотят покупать. Дома обходились ему недорого, хоть он и приукрашивал их оградами из штакетника и ложными мансардами. И рекламировал шикарные особенности этих жилищ: наисовременнейшие бытовые приборы, комнаты для танцев, гаражи на две машины. Константин же знал, на чем можно неприметным образом сэкономить. Знал, где и как использовать невыдержанную древесину и пластиковые трубы; знал, сколько времени удастся сберечь, если не высверливать отверстия для дюбелей, на которых крепится проводка, а просто приколачивать ее молотком. Дома расходились почти с той же быстротой, с какой Казанзакис их строил. Константин, выросший в обстановке жесткой бережливости, ухитрялся держать накладные расходы на уровне до того низком, что Казанзакис нередко обнимал его и называл волшебником. Он и представить себе не мог, что строительство типовых домов может оказаться столь прибыльным.
Когда в семью потекли деньги, Мэри поверила в это не сразу. Теперь она могла наконец покупать детям красивые вещи, даром что дочери ее упорно отдавали предпочтение дешевым, безвкусным. Сьюзен потребовались новые платья для Барби и игрушечная плита, в которой обычная электрическая лампочка выпекала из жидкого теста крошечные, похожие на коросту блины. Зои захотела получить деревянный строительный конструктор, игрушечное ружье и жалкую “енотовую” шапку с кисточкой, сделанную из крашеного кроличьего меха, чуть отдававшего мочой. Мэри купила им и это, и многое другое, надеясь, что дочери все же научатся когда-нибудь понимать, какой блеск сообщают жилищу вещи действительно качественные. Она покупала золотые браслеты, мохеровые свитера, шкатулочки для драгоценностей, открывая которые, видишь крошечную балерину, кружащуюся под звуки “Für Elise”[1]. Эти подарки вызывали недолгий восторг, а затем впадали в немилость. Плиссированные платья неуважительно разбрасывались по полу. Импортные куклы забывались во дворе, и их нежные, ручной работы личики благосклонно улыбались струям дождя.
Из всех детей Мэри только Билли желал получить то, что желала дать ему она. Он был мечтательным мальчиком, приносившим домой библиотечные книги, находившим для себя укромные уголки, в которых ей ничего не стоило его отыскать. Она купила ему пальто из альпаковой шерсти, которое он надевал по воскресеньям в церковь, приобретая обличье миниатюрного, серьезного мужчины, отчего сердце Мэри омывалось волной любви. Нет, она любила всех своих детей, но Билли был единственным из них, кого она видела насквозь, до донышка. Она покупала ему мягкие шотландские пуловеры с треугольным вырезом. Когда Билли пошел в школу, Мэри купила для него бордовый кожаный портфель и темно-зеленую шапку-ушанку. А для девочек обставила кукольный домик, стоявший сначала в комнате Сьюзен, а после у Зои. На затейливую мебель домика оседала пыль, в нем имелось самое настоящее, действительно работавшее освещение. Мэри раз за разом наводила в домике порядок, а временами, испытывая тайное наслаждение, переставляла в нем мебель.
1964Сьюзен вела их по полю для гольфа. Прежде здесь тянулись один за другим огороженные пустыри, простиралась спортивная площадка, стояли вдоль улочки, от которой веяло гнилью, несколько домов да заброшенная фабрика с пробивавшейся между бетонными плитами кудрявой травой. А теперь – яркое зеленое поле. Над грудами опавших листьев поднимался дымок, и птицы снова и снова выпевали свое “Кии-кии-клара?”.
Сьюзен знала: отец создал все это для нее. Она была польщена и напугана.
– Идем, Билли, – строго позвала она брата.
Замечтавшийся Билли плелся футах в двадцати сзади, вороша теннисными туфлями листву.
– Иду, – ответил он.
Зои уже убежала вперед. Оглянувшись, Сьюзен увидела, как Билли неторопливо перебирает ногами, а палая листва, принимая его тень, то ярко окрашивает ее, то темнит. Гибельная красота брата пронзила ей грудь и резко сдавила легкие. Временами она воображала, как выносит Билли из горящего дома, как сбивает огонь, уже охвативший его одежду и волосы.
Да, она спасла бы его. А потом они вдвоем бежали бы в леса и жили там, вдали от большого, безупречного дома, который купил для нее отец. Где-то должны же быть леса.
– Идем же, – повторила она. Перед нею лежала ее собственная тень, иззубренная палой листвой.
– Что за спешка? – спросил Билли. – Мы же гуляем, так? И никуда не опаздываем.
– Я боюсь, что Зои заблудится, – сказала Сьюзен. – Бежит во все стороны сразу, я не могу ее остановить.
– Не заблудится, – ответил Билли. – Вон она, впереди, на дерево лезет.
Повернувшись, Сьюзен увидела, как Зои, цепляясь за нижние ветви огромной сосны, продвигается по ним вверх. Сосновые иглы словно резали на кусочки одежду Зои, бледно-желтую рубашку и индиговые джинсы.
– Зои, прекрати, – закричала Сьюзен.
– Зачем же ей прекращать? – сказал Билли. – Хочет залезть на дерево, пусть залезет.
Сьюзен стояла между Билли и Зои и ощущение собственного многообещающего будущего понемногу покидало ее. Она ведь всегда была бы молодой, неприметной, отстаивающей правила поведения, которые никого другого, похоже, нисколько не волновали. А правила эти могли сделать жизнь такой простой. Они и требовали-то всего-ничего: каждому надлежит говорить негромко, но внятно, избегать драк и ходить не слишком быстро, но и не слишком медленно.
– Она же упадет, – сказала Сьюзен, хоть и верила, что Зои поднимается навстречу опасности, которой грозит ей не столько земля, сколько небо.
– Зои! – снова крикнула она. – Спускайся.
И тут же представила, как ловит на руки падающую сестру.
– Отсюда наш дом виден, – сказал Билли. – Смотри. Вон то белое пятнышко. Видишь?
Но Сьюзен уже направлялась к сосне.
– Зои, я серьезно говорю, – крикнула она.
– Теперь это наш дом, – продолжал Билли, хоть Сьюзен и отошла слишком далеко, чтобы услышать его. – Мы богаты. Вернее, полубогаты.
Подойдя к подножию сосны, Сьюзен замерла, упершись кулачками в бедра. Стоя на ровной траве, по которой косо тянулась ее тень, вглядываясь, сощурясь, в полог сосновых игл, она вполне могла быть юной прислужницей богини семейных распрей. Одета Сьюзен была в белую ветровку, розовые бриджи и короткие носки с рубчиками на пятках, не позволявшими носкам соскальзывать внутрь теннисных туфель.
– Зои, – крикнула она, – немедленно вниз!
Зои тем временем старалась забраться на раздвоенную ветвь, отходившую от ствола на высоте в тридцать примерно футов. Она не ответила, чего, собственно, Сьюзен и ожидала. Сьюзен вздохнула, и звук, получившийся у нее, ей понравился. Взрослый такой звук, свидетельствующий о серьезности ее намерений. Она провела в этих местах меньше месяца, а уже знала трех мальчиков, чьи глаза – карие, темно-карие и иссиня-зеленые – старались проникнуть во все подробности ее жизни.
Ей представилось, как мальчики крадут ее из нового дома и приводят сюда, на поле для гольфа. А она наставляет их, успокаивает, учит вести себя правильно.
– Я серьезно, – крикнула она еще раз.
И подумала мельком о том, как ее голос уходит отсюда своим путем, огибая стволы деревьев. Может быть, именно сейчас где-то неподалеку бродит мальчик с разбитым сердцем, заблудившийся среди деревьев и песочных бункеров.
Подошел и встал рядом с ней Билли. От него попахивало – не сильно, но отчетливо – белильной известью и черствым хлебом, и Сьюзен погадала, часто ли он моется.
– Не слезет она, пока сама не захочет, – сказал он. – Ты же знаешь.
– Она себе шею сломает, – ответила Сьюзен. – А я обещала присматривать за ней.
– Я, пожалуй, тоже наверх залезу, – сказал Билли. – Оттуда наверняка весь город видать.
– Нет, Билли. Ты останешься здесь.
Однако он уже забрался на самую нижнюю ветвь и пополз, извиваясь, к развилке дерева. Сьюзен смотрела снизу, как тощий зад брата подрагивает под его саржевыми штанами, и гадала в который раз, какого рода девушке захочется, когда придет время, облегчить его боль.
– Биллиии, – закричала она. – Чтоб тебя!
Он поднимался быстро и вскоре уже подтянулся и сел на ветку, выросшую прямо под той, на которой устроилась Зои. Она сидела, подтянув к подбородку колено и ероша грязными пальчиками волосы.
– Привет, Зо, – немного запышливо произнес Билли.
Грубая кора расцарапала ему ладони, и теперь ветерок покусывал ссадины. Зои не ответила. Он вглядывался в нее, пока не убедился, что устроилась она надежно, а затем отвернулся, чтобы взглянуть сквозь сетку сосновых игл на Гарден-Сити.
– Если вы оба не спуститесь ровно за одну минуту, я поднимусь к вам, – крикнула снизу Сьюзен.
– И прекрасно, – ответил Билли.
Он хорошо различал отсюда координатную сетку ближайших к их новому дому улиц, красную и желтую листву выстроившихся вдоль них деревьев. Он увидел повисшего над птичьей кормушкой воробья, увидел расплывчатое коричневатое пятнышко, создаваемое в воздухе его трепещущими крыльями. За улицами бледнели в синей дали колокольни и кирпичные корпуса магазинов и банков.
– Нас могут видеть зверушки, – сказала Зои. – Они залезают сюда и смотрят на наш дом.
– Тебе от этого страшно? – спросил Билли.
– Нет. Мне нравится.
Она подергала себя за волосы, почесала коленку. Зои никогда ему этого не говорила, но Билли знал, что она и себя считает зверушкой. За столом она набрасывалась на еду, торопливо откусывая маленькие кусочки. А спала Зои в гнезде, которое сооружала из простынок и одеял.
– Вот здесь мы теперь и живем, – сказал Билли наполовину сестре, наполовину самому себе. – Теперь мы люди полубогатые и живем здесь.
Зои кивнула.
– Это королевство деревьев, – отозвалась она. – А тут у нас – коттедж, в котором живут люди.
– Мне немного боязно, – продолжал Билли. – Знаешь, новая школа и прочее. Тебе-то повезло, ты всего во втором классе учишься.
Зои наблюдала за тем, как через город проходит время. А Билли вдруг понял, что может разговаривать с ее зверушкой, рассказывать ей все то, чего никогда никому не рассказывал. Зои создавала вокруг себя узкую зеленую лощину, в которой он мог дышать одним воздухом с ней.
– Ну все, – крикнула Сьюзен, – я поднимаюсь.
– Наша няня, – сказал Билли.
Зои улыбнулась. Девочка она была жилистая, черноволосая, густобровая. И носила – сейчас, в октябре – резиновые пляжные шлепанцы.
– Как по-твоему, мы станем другими оттого, что разбогатели? – спросил Билли. – Это что-нибудь изменит?
– У нас еще остались два желания, – ответила Зои.
– Может изменить, – сказал Билли.
Он прислонился спиной к стволу, почувствовал как сосна слегка подрагивает от усилий поднимавшейся Сьюзен.
– Чтоб вы пропали, – донесся наконец снизу ее голос. – Пропали, оба. Я из-за вас штаны порвала.
– Посмотри, – сказал Билли. – Отсюда школа видна.
– Пора возвращаться, – сказала Сьюзен. – Время уже позднее.
– Рано, – ответил Билли, – думаю, пока там небезопасно. Дадим им, ну, скажем, еще полчаса.
– Да все там в порядке, – заявила Сьюзен. – Не понимаю, честное слово, почему ты из всего историю делаешь.
– Иди домой, – ответил он. – А мы немного побудем здесь. Может, шалаш построим.
– Тут шалаши строить нельзя. Это частная собственность.
– И переедем в него на жительство, Зои и я.
– Нет, правда, надо идти, – взмолилась Сьюзен. – Пойдем, наверное, и ужин уже готов.
– Так иди, – повторил Билли. – А мы с Зо побудем здесь.
– И пойду. Будь уверен.
Однако она осталась сидеть на ветке. Белка, скакавшая под деревом, привстала на задние лапки и вдруг исчезла, словно ее рывком утянули под землю. Сьюзен оторвала взгляд от земли, взглянула на дом, который построил для нее отец. Сьюзен знала, как она выглядит: тонкая, стройная четырнадцатилетняя девочка, сидящая верхом на ветке, вдыхая аромат палых листьев. Она хотела, чтобы у нее был собственный дом, хотела жить в нем, молчаливая и безудержная, как юная мать-дикарка. Тени облаков плыли по ровной земле. Одно из деревьев словно погасло, и сразу же вспыхнула, точно поднятая со дна океана огромная драгоценность, медная кровля колокольни. И наблюдая за сменой теней, Сьюзен на недолгий миг осознала, насколько она всесильна. Осознала, сколь многое можно построить ради нее и сколь многое разрушить. Волна возбуждения окатила ее. Она думала о прорванной плотине. О серебристой стене воды, падающей на магазины, на церкви, на аккуратные улицы. Она словно видела это. Видела, как вода поглощает все, разбивает окна, срывает крыши домов, кружит самые обычные вещи – чашку, парик, кусок мыла, – выбрасывает их на поверхность и снова втягивает в себя. Видела, как вода, пенясь, поднимается все выше и, наконец, останавливается на середине их сосны, прямо под веткой, на которой она сидит. Уцелеют только она, Зои и Билли. Потом наступит коричневатое, поблескивающее безмолвие. Над ним будет возвышаться лишь колокольня с верхней половинкой остановившихся часов да верхушки нескольких дубов и вязов. Стаи гусей и уток станут садиться на воду. И понемногу вода начнет отступать, оставляя на ветках кольца и ожерелья. Она, Сьюзен, поведет Зои и Билли вниз, в мокрый пустой мир, украшая себя, пока они, теперь уже сироты, кроткие и горестные, станут спускаться с ветки на ветку, глядя в будущее, в котором может случиться все что угодно. И на землю она соступит обвешанной драгоценностями.
1965Отправляясь в свои ночные поездки, Константин воображал, что рядом с ним сидит Мэри. Не та, с которой он теперь жил, но Мэри семнадцатилетняя, загадочная девушка, проворно задвигавшая за собой щеколду калитки. Мэри, которой удавалось сочетать здравомыслие с не замаранными ничем женскими надеждами. Которая еще не начала подсчитывать его изъяны. Он по-прежнему любил ту Мэри, любил то, что от нее уцелело – самообладание, преданность порядку, прямизну осанки. И в ночных поездках спутницей его была молодая Мэри, иногда мешавшаяся в его сознании со Сьюзен. Умненькая девушка, сидевшая надежно пристегнутой на пассажирском сиденье, вглядываясь в пейзаж – скептически, но и со взыскательной любовью.
Он показывал ей свою стройку, ряды и ряды домов, целый городок, выдержанный в мягких тонах и в простых, спокойных формах. Иногда он останавливал машину на одной из улиц и позволял себе посидеть, откинувшись на бордовый плюш “бьюика” и впитывая окружающее. Весь этот городок построен им и Казанзакисом. И теперь кровли его домов определяли линию горизонта, их окна лили в сумерки свет. В такие ночи Константин ощущал себя действительно добившимся многого человеком.
Городок был само совершенство – чистенький, опрятный. Дома Константина повторялись тройками. Первый – с остроконечной кровлей; второй – с небольшой верандой; третий, он нравился Константину больше всех, – с парой эркерных окон, аккуратных и симметричных, как груди девушки. Дома поднимались в небо, следуя сдержанному ритму, и Константин неизменно удивлялся тому, что действительно создал их. Дни его состояли из мелочей и препирательств. “Да говорю же тебе, Джерри, никаким войлоком выстилать изнутри кровлю мы не будем. И кто велел тебе закупить этот дурацкий камень? Канализационные трубы можно и землей засыпать.” Только в такие ночи, во время поездок, он до конца понимал: дома стоят здесь потому, что это он купил товарный вагон гипсокартона, пять тысяч рулонов изоляционного материала, сосновые доски, на которые пошел целый лес. Иногда Константин выбирал какой-нибудь дом и наблюдал за ним, с разумного расстояния, разумеется. Курил сигарету за сигаретой и смотрел, как освещаются или темнеют окна, как в дом впускают лающую у двери собаку. В некоторые ночи у выбранного им дома останавливалась машина, и из нее вылезал подросток; в другие из другого дома выходили, чтобы полить лужайку, мужчина и женщина. А как-то вышел и простоял на лужайке, пока в небе не угас последний свет и не проглянули звезды, крепкого сложения мужчина в свободных брюках из зеленой шотландки. Константин наблюдал за ним, пока мужчина не вернулся в дом – из тех, что с остроконечной крышей, обошедшийся его хозяину хорошо если в пятую часть того, что Константин заплатил за свой собственный. На краткий срок он проникся к этому мужику любовью и состраданием. Мужик вполне мог быть его младшим братом – или старшим сыном. Константин не очень-то понимал, зачем приезжает сюда, что хочет увидеть. Он не мог бы сказать, почему раз или два в месяц обращается, уходя с работы, в соглядатая. И каждый раз воображает, что рядом с ним сидит молодая Мэри или кто-то похожий на нее, как воображает и жизнь, идущую за стенами домов. Когда он снова включал двигатель и направлял машину к своему дому, им овладевал хаос томительных желаний. Слишком часто он себе такие поездки не позволял – раз в месяц, самое большее два. Он твердил себе, что просто хочет посмотреть, как живет его городок, не отстать от этой жизни. Он видел девушку, сидевшую на бордюрном камне, ожидая кого-то, так и не появившегося. Видел украшенную оранжевыми полосками кошку, поймавшую дрозда, и видел, как трепетная жизнь выпорхнула из тельца птицы с быстротой взлетающего в небо воздушного шарика. Слышал разговоры и музыку, а однажды различил, так ему показалось, крики двух любивших друг дружку людей. И домой он ехал полный возвышенных, словно бы арочных, почти болезненных в их силе надежд. Он построил для своей семьи крепкий новый дом, занявший целый акр. Он дал ей два настоящих камина, тридцать восемь окон и парадную дверь с резными деревянными колоннами по бокам, белыми и желобчатыми, как свадебные торты. Нажимая на кнопку пульта, управлявшего дверьми гаража, он сознавал, что над головой его висят созвездия – Орион, Овен, Большая Медведица, – а за спиной тянется федеральная автострада, по которой и сейчас катят к определенным для них местам гвозди, продукты, ботинки и тракторы. Сознавал, что под землей раскинулась сеть труб, по которым течет сквозь мир норных животных и древесных корней вода. И когда двери гаража разъезжались на роликах, оттягиваемые намасленными цепями, он прощался с обычными тревожными мыслями и попадал в царство блаженства. Объяснить это ощущение он не мог. Ощущение неотвратимости, титанических плит, сдвигавшихся в ночном небе, меняясь местами во исполнение плана, слишком простого, чтобы его смог постичь человек. Наполненный счастьем, Константин заводил машину в гараж. Здесь в совершенном порядке висели на колышках белой доски его инструменты. Здесь размещались его газонокосилка, его тиски, его шурупы и штифтики, разложенные по банкам с ярлычками. Сегодня он позволил себе посидеть с минуту в прохладном безмолвии машины. А потом прошел боковой дверью на кухню, где Мэри держала теплым его ужин. На холодильнике красовались старые рисунки Билли и Зои, прикрепленные магнитиками-фруктами. Пластмассовое яблоко, апельсин, банан.