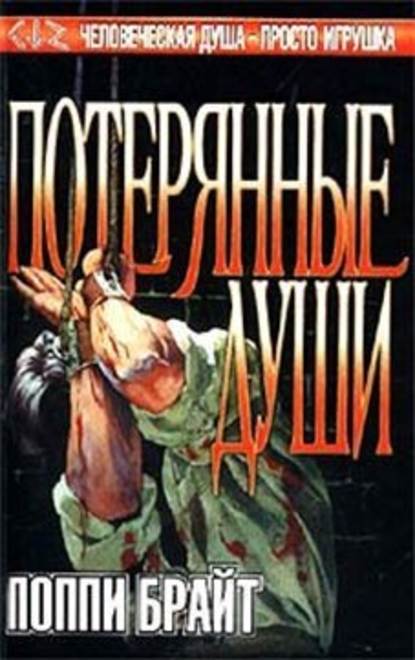Изысканный труп
Все относительно. В Квартале тоже бывают грабежи и убийства, но все это приключается с туристами, которые умудряются поздней ночью забрести на пустынные участки: Рампарт, Бэррэкс, жуткая узкая улочка около канала, над которой возвышается выжженный фасад старого здания Д.Х. Холмса. Если знаешь, где находишься и что за люди вокруг тебя, с тобой все будет хорошо.
– Мы думали показать тебя доктору.
Тран закрыл глаза. За веками медленно накатывала горячая волна.
– Я не пойду ни к какому, на хрен, доктору! – сказал он. – Со мной все в порядке.
– Ты сам не понимаешь, что болен. Болен головой. Такой умный, столь многообещающий... и все же ты все делаешь неправильно.
Тран отвернулся от отца и начал снимать с полки книги, складывая их в стопки на пол.
– Мы хотим помочь тебе.
То же самое мне однажды сказал Люк, подумал Тран, а сам имел в виду, что я должен умереть вместе с ним.
– Ты проходил тест на СПИД?
Спроси меня что угодно. Спроси, как я проблевался чуть не до желудочного сока, когда первый раз разрешил ему вставить мне. Спроси, как он вошел мне в рот и я чувствовал вкус смерти, расплескавшийся на языке, текущий вниз по гортани, проникающий во все ткани. Спроси меня про телефонные звонки, которые длились до рассвета, а клейкая от слез и пота трубка липла к уху. Спроси все, что хочешь. Пожалуйста, пап, спроси что угодно, кроме этого.
– Да, – сказал Тран, создавая видимость спокойствия. – Я проходил тест. Результат отрицательный.
Он не врал; один негативный показатель он получил. Однако это было только три недели спустя после последнего контакта с Люком. Ему велели прийти через полгода, а потом еще через полгода и еще...
Тран видел распростертую перед собой жизнь, которая поделена на шестимесячные промежутки, равные временные отрезки. В каждом из них – по стеклянной бутылочке с красной крышкой. А сверху маленькая бирка с аккуратно выведенными инициалами. И они на три четверти наполнены темной кровью. Тран разбил бы их вдребезги, опустошил все в слепом поиске отравленного пузырька. А когда нашел бы нужный, внутри была бы лишь его смерть.
И что же мне делать с оставшейся жизнью? Жить на шее у родителей, писать дневники, ходить на танцы, ловить кайф, ложиться под кого попало? Звучит неплохо. А что, если мне осталось, скажем, пять лет?
Нет, Трану недостаточно того, что он познал до сегодняшнего момента. Неприятная сцена с отцом только укрепила его решимость. Он сделает следующий шаг в своей авантюре, шаг, который сохранит его живым. Как же можно умирать в самой середине великого действа?
Интересно, приходили те же самые мысли в голову Люку? Но ему все равно, абсолютно все равно, о чем думал Люк.
– Результат отрицательный, – повторил он. – Я не болен СПИДом, и я ничем не занимался с близнецами. Теперь убирайся.
– Винх, если ты...
– Папа. – Тран подошел к отцу, забрал у него из рук письма. – Ты меня не знаешь. Вот кто я на самом деле. Здесь. В этих письмах. – Он махнул листками перед лицом Вана. – Теперь оставь меня в покое.
Отец задержал на нем взгляд. В темных глазах скользило сожаление вместе с безмятежностью, словно он смотрел на труп сына уже в гробу. Тран словно видел в них свое отражение: изнуренный, бледный, в коробке из красного дерева, поставленной на козлы в католической церкви, кругом белые цветы и скорбящие родственники. Если он умрет через пять лет, если умрет завтра, то так оно и будет.
На несколько мгновений Трану показалось, что он проваливается в отцовские глаза, в то будущее. Затем Ван повернулся и вышел из комнаты, и Тран остался один.
Он все еще сжимал в руке смятые письма. Посмотрел на них, затем положил на этажерку поверх стопки книг. Долгое время у Трана мурашки по коже бегали от одного вида почерка Люка. В малиновых каракулях, как и в его голосе, раздававшемся в три часа утра из телефонной трубки, прослеживалось большое количество виски и жалости к самому себе. Зигги Стардаст после того, как порвалась веревка, он трет изрезанное стеклом лицо и клянется, что видел звезды. Задирать смерть, ходить за ней, соблазнять ее на каждом углу, но никогда не доходить до конца, если есть выбор.
Тран окинул взглядом комнату, думая, что положить в первую очередь, и на него нахлынула новая волна беспомощности. Одежда, чистая и грязная, дневники, наброски, всякие книги и бумаги.
Расставь приоритеты, сказал он себе. Начни с самого важного. Он подошел к книжной полке, вытащил толстый глянцевый том о смерти. Он знал, что родители видели много покалеченных трупов во Вьетнаме – соседей, учителей, родственников. Они никогда бы не взяли в руки такую книгу. Тран пролистал страницы с цветными фотографиями во весь лист, на которых застыли люди на разных стадиях истерзанно-сти, разложения и страданий от прочих увечий. Наконец он нашел припрятанный мешочек с пятьюдесятью дозами ЛСД и пятью хрустящими зелеными портретами Бена Франклина.
Тран сел на край кровати, держа в руках все свои ценности и проклиная про себя имя Лукаса Рэнсома и все слова, которые этот человек когда-либо написал на бумаге. Когда это надоело, он ругал себя, пока не стало противно. Затем встал и начал упаковывать вещи.
4
Так вспомни же, вспомни тот день в ноябре, Предательство, порох и смерть!
В 1605 году известный предатель Гай Фокс и группа отъявленных головорезов подготовили заговор с целью поджечь здание Парламента в Лондоне. Фокс был всего лишь посредственным наемником, простофилей, которому хорошо заплатили богатые католики, затаившие обиду на короля. Однако его имя вошло в историю, а люди сохранили его образ. Установив взрывчатку под Палатой общин, заговорщики бежали на юго-восток Хампстед-Хит, чтобы оттуда наблюдать фейерверк. Эта возвышенность, кстати, примечательна жертвами чумы, которых там хоронили в братских могилах.
Стоя на земле, скрывающей миллионы ядовитых костей, негодяи смотрели, как разрушается их мечта. Самого Фокса поймали в подвале перед кучей пороха с ярко пылающим факелом в руке. Его пытали в лондонском Тауэре, судили в Вестминстер-Холле, затем вытащили во двор Старого дворца около здания Парламента, четвертовали и повесили. Фундамент, который Фокс планировал взорвать и сжечь, пропитался кровью из его внутренностей, и будущие поколения английских детей получили повод для вымогательства и пиромании.
Жаль. А представьте все эти острые пики и шпили, все высоченные стены с окнами, похожими на дыры в заплесневелом сыре, и треклятые часы – и все это великолепие крошится и соскальзывает в Темзу! Конечно, Парламент выглядел иначе в 1605-м. Но он впечатан в память любого лондонца таким, как сейчас: восемь акров припудренных париков, косная плоская резьба, каменные оси, окутанные в серо-сизый туман. В нашем воображении неизменно рождается прекрасный цветок пламени, вырывающийся из темного нутра строения. Остается гадать, перебросился бы он на Вестминстерский мост.
Даже не кивнув в одобрение настоящим зачинщикам заговора, сентиментальные англичане установили праздник в честь Гая Фокса, и его чучело мучают и сжигают из года в год. И при этом католики утверждают, что искоренили язычество!
День Гая Фокса трогает многие чувствительные души, образ преследует людей, которые бросают неловкие взгляды через плечо и остаются на хорошо освещенных улицах. Стаккато фейерверка щекочет нервы, можно задохнуться в воздухе, насыщенном дымом костров. Горожане ворчат при виде шумной толпы разношерстных школьников, говорят, что терпеть не могут издевок типа "Дайте пенни для пугала, мистер! Пенни для пугала!".
Но понаблюдайте за этими чувствительными душами, когда к ним пристают дети, и вы заметите, что они не могут смотреть – точней, не могут не смотреть именно на чучело. Соломенный человек в старом пальто, штанах, бесформенной шляпе, распростертый на кровати из медных монет, на грубой повозке... беспомощное, невинное пугало устрашает их. Вчера он рожден из кучи лохмотьев, сегодня умрет на костре. Но им не нравится видеть его нелепо разрисованное лицо.
Мне кажется, они ощущают, что в этом создании обрел телесную форму гнев – неверие души, которую заставляют гореть бессчетное количество раз за преступление, которое она не совершала. Я надеюсь на то, чего боятся встревоженные люди: что однажды поруганные восстанут и покончат с этим парламентом.
Когда я вернулся к жизни, был день Гая Фокса. Я слишком долго пролежал на повозке в качестве пугала, полагая, что радостно сгорю до рассвета, а к утру останусь лишь в памяти тех, кто насмехался надо мной, стану пеплом, разлетевшимся по ветру.
Приехав в Лондон, я оставил "ягуар" на тихой жилой улице рядом с метро "Куинсбери". Затем спустился в скрипящие, пыльные кишки подземки. Это была старая станция без автоматов по продаже билетов. Если заговорить с человеком в окошке, он может запомнить меня. На мне все еще были зеленые штаны Уорнинга с пятнами крови и белый лабораторный халат, а марлевую повязку я снял. В конце концов я поднял воротник, прикрыв подбородок, подошел к окошку и купил билет на Пиккадилли. Кто угодно может ехать на Пиккадилли, абсолютно кто угодно. Продавец даже не взглянул на меня.
Раскатистое эхо на платформе, вкрадчивые надписи на плакатах и торговых автоматах, убаюкивающее движение вагона, гул малочисленной толпы посреди дня, туннели и мелькающие станции – все это чуть не усыпило меня. Но я сопротивлялся Морфею, который был мне преданным любовником последние пять лет. Когда я поднялся наверх, вокруг уже была площадь Пиккадилли, и весь мир словно взорвался в неоновом вихре, в котором кружили сверкающие точки красных двухэтажных автобусов. Здесь сногсшибательный эпицентр Лондона, пересечение дорожного риска и ярмарки с аттракционами и балаганом. С балконов викторианского мюзик-холла, похожего на свадебный торт, смотрят поблекшие восковые рок-звезды; за богато украшенными фасадами хитро скрываются современные торговые центры.
Можно оглохнуть от гула машин, с ума сойти от запахов: бензин, выхлопные газы, пикантная смесь из ресторанов. Я купил навынос сувлаки и проглотил его за три укуса. Это было самое вкусное, что мне когда-либо доводилось пробовать: мягкий душистый хлеб, нежное мясо с соусом и приправой, словно кто-то позаботился о высочайшем качестве, изысканное подсоленное масло, капающие на язык соки, запачкавшие уголки рта. И аромат от людей: чистой кожи, духов, дорогого мыла и шампуней, пота, в котором нет привкуса отчаяния!
Поддавшись порыву, я остановился у газетной лавки просмотреть объявления в "Лондон гей таймс". Помню времена, когда эту газету старались незаметно поместить среди журналов с глянцевыми цветными фотографиями, на которых пестрели смазанные жиром зады и набухшие обрезанные члены. И то далеко не в каждом магазинчике. А теперь стоит себе на виду посреди других городских газет.
Помимо горячих линий по вопросам СПИДа и центров консультации по ВИЧ, которых развелось как грибов после дождя, открылось еще и много пабов и танцевальных клубов, которые возвещали эру разврата один громче другого. Мне не подходили эти шумные заведения, сверкающие дворцы плоти. Там ты на глазах у кучи людей, всем хочется поболтать, их мозги взвинчены стимуляторами или притуплены выпивкой. Я положил газету обратно на полку и направился вверх по Ковентри-стрит к Лестер-сквер, в Чайна-таун, к мерцающему Сохо. Моя старая охотничья зона.
В 1988-м я знал магазин поношенной одежды, в котором можно было купить пальто, джемпер и старые брюки за три фунта стерлингов. Теперь эти же затхлые вещички обошлись мне чуть ли не в десятку. – Считайте, что вам очень повезло: штаны так хорошо сидят, – сказал продавец, когда я поднял бровь, удивленный ценой. – У нас почти ничего не осталось. День Гая Фокса, знаете ли, дети покупают.
Я обменял уродливые туфли Уорнинга с резиновой подошвой на блестящие остроносые башмаки, которые прекрасно подошли мне, и старик подбросил пару носков. (Носки Уорнинга, к сожалению, были так изношены, что уже давно просились в мусорный бак.) Скальпель остался привязанным к ноге, я его не тронул.
Я оделся в основном в черное – удобный цвет для пятен крови и легко слиться с толпой. Не слишком изысканный, чтобы тебя заметили в модных барах Сохо, но и не стыдно показаться. С новой стрижкой и в очках с золотой оправой я казался себе вполне стильным.
Никто не догадается, что за сегодняшний день я уже убил двух человек и намереваюсь найти третьего. В этом и состоит основная задача, верно?
Снаружи магазина ко мне подошла свора мальчишек, за ними катилась повозка с бесформенной грудой барыша.
– Пенни для пугала! Пенни для пугала!
Я высыпал в их грязные тонкокостные ручки все свои монеты. Ничего не мог с собой поделать. В свежем воздухе чувствовался ноябрь, стоял запах фейерверка и костра, глаза ребят сверкали, щеки походили на спелые яблоки, запыленные тонкими золотистыми волосками, заляпанные золой.
На Лестер-сквер сидели детки иного толка, курили сигареты. Все накрашенные, вероятно, по субботам они прогуливаются по Кингз-роуд и пялятся сквозь витрины на виниловые плащи в полоску, как на зебре, на ботинки "Доктор Мартене", покрытые малиновым блеском, на кружевные чулки для любого пола – и на самые яркие симпатичные... свои же отражения в стекле.
Ниже шеи на них были черные, серые и белые одежды из разных тканей и материалов, скрепленных кусочками металла. Выше шеи они походили на абстрактные картины, выполненные неистовыми цветами радуги. Техноколорный фонтан замученных волос, большие пятна лазури или шартреза вокруг глаз, алый мазок по нежному юному рту, и готово.
Бывало, я завидовал этим подросткам, их свободе, даже если они жили на шее у родителей или на подачки. Они могут позволить себе походить на помесь райской птицы и ходячего трупа. Могут плевать на тротуар, нагло торчать, где их не хотят видеть, хамить туристам, которые пялятся на них. Они могут быть у всех на виду, бросаться в глаза. Им нет нужды сливаться с толпой, нет и желания.
Именно из-за таких отпрысков, хотя и не напрямую, я бросил последнюю работу на государственной службе за три месяца до ареста. Я сидел за столом в городском департаменте водоснабжения. Гражданская служба в Англии позволяет человеку подняться на самый высокий уровень некомпетентности. Меня уже уволили с трех-четырех подобных должностей, но с радостью нанимали снова и снова, чтобы посмотреть, сколько я продержусь на этот раз. Они смутно знали, что я образован и умею печатать. Согласно истории моей трудовой деятельности, я могу безупречно выполнять работу до того момента, когда посылаю к черту какого-нибудь мелкого начальника.
В один прекрасный день, почти такой, как сегодня, когда город подернула осень и небо было ясно-голубым, я взглянул на стопку бессмысленных бумаг на своем столе и скомканную обертку жирной курицы навынос, которую я съел час назад, во время обеда, хоть и проголодался, как обычно, задолго до него. Я слушал разговоры, разворачивающиеся вокруг, и услышал цитату прямо из пьесы Джо Ортона: "Как смеешь ты втягивать меня в ситуацию, для которой не написано докладной записки". Я подумал о мальчике, которого видел предыдущим вечером на Кингз-роуд, его черные дразнящие волосы, улыбка, открытая и свободная. Вероятно, у него в кармане не хватит денег на обед, но ему никто не приказывает, когда поесть, когда нет. Во мне что-то переломалось и восстало – тихо, но твердо.
Я встал. Выбросил жирную обертку в мусорное ведро; я никогда не думал даже о том, что за мной кто-то должен убирать. И навсегда покинул офис. Никто не заговорил со мной, никто не заметил, как я выходил. Остаток дня я провел в Челси, выпивал в пабах. Наблюдал, как гарцуют друг перед другом подростки, окидывают взглядом себе подобных (и чаще всего недовольно отводят глаза). Я ни с кем не заговаривал, никого не повел с собой, когда, шатаясь, отправился домой. У меня уже накопилось двое, от которых следовало избавиться: один, запихнутый в шкаф, уже начинал вонять, другой достаточно свеженький, чтобы разделить со мной ложе.
Передо мной не было никаких жизненных перспектив, только небольшая сумма на счету и неутолимый аппетит убивать юношей. Оказалось, мне этого вполне достаточно, чтобы прожить оставшиеся месяцы. Однако теперь мне не подойдут одичавшие ребята с Лестер-сквер. Нужен некто незаметный, анонимный, иными словами – похожий на меня. Но больше всего я жаждал выпить. Я скользнул в поток людей на Чаринг-Кроссроуд, поддался непреодолимому порыву и заглянул в книжный просмотреть новинки отдела криминалистики. Я красовался на трех ярких обложках: цвета свежей крови и мимолетной любви, на заляпанных фотографиях в центре: моя ванная, чулан, мои кухонные ножи, лестница, ведущая к квартире, – все с душещипательными надписями ("Двадцать три человека поднялись по этим ступеням, не подозревая, что это их последний путь!"). Я вышел из магазина с чувством удовлетворенности, повернул на Лайл-стрит и пошел по Чайна-тауну, дивясь странному сочетанию запахов, экзотическим буквам, светящимся на вывесках лавок, живым азиатским лицам мальчишек. Затем пересек широкую шумную Шафтсбери-авеню и очутился в той части Сохо, которую помнил лучше всего.
Голубой Лондон несет печать усердной чистоплотности, некоей отполированной гигиены. Даже в секс-шопах и видеомагазинах работают деловые молодые люди, которые с вежливым добродушием отвечают на любой ваш вопрос, будь он о том, как пройти к ближайшей кофейне или как правильно вставить анальный вибратор. Я направился в небольшое мрачное заведение, куда захаживал нечасто. Темные дерево и арматура из тусклой меди придают ему атмосферу подлинного британского паба, поэтому там всегда много американских туристов.
Я положил на стойку бара пятифунтовую банкноту, получил вдвое меньше сдачи, чем ожидал, и пинту моей первой и истинной любви – холодного светлого пива. Я никогда не был любителем традиционного английского пива, темного и теплого, со вкусом, более походящим для пойла скота.
Я отнес свой стакан на угловой стол, сел, обозревая его: пышная шапка пены, мелкие пузырьки поднимаются сквозь чистое золото, капельки собираются на стенках, затем стекают поверху вниз, образуя мокрый круг на подставке. Люди губят репутацию, крушат браки, жертвуют трудом жизни ради красоты такого зрелища. В Лондоне семь тысяч пабов.
Наконец я поднял стакан и очень медленно выпил полпинты, не останавливаясь. Горло ощутило себя кактусом под проливным дождем в пустыне. Язык задрожал в подобии оргазма. Вкус казался жидким бархатом, пивоваренной радостью.
Высшая мера наказания никогда не останавливала убийцу. Большинство из нас готовы принять смерть. Но попробуйте сказать человеку, что он больше никогда не насладится холодным светлым пивом! Я поклялся, что скорей умру и останусь мертвым, чем вернусь в заключение.
Сегодня я должен сдержаться. Когда я уже наверняка проскользну меж железных пальцев Ее Величества, у меня будет куча возможностей напиться так, чтобы все поплыло перед глазами. А пока надо присматриваться к туристам, которые начинают валом валить. От них зависит следующая часть моего плана или от одного из них. Все же после пяти лет воздержания любого слегка развезет. Я только начал третью пинту и дивился приятной слабости в ногах, когда в паб вошел Сэм.
Тогда я, конечно, еще не знал, что его зовут Сэм. Я лишь видел, что он мужчина примерно моего роста, комплекции, возраста и расы и что он смотрит на представителей сильного пола пристальней, чем на разбросанных по залу женщин. Лицом мы мало походили друг на друга, ну да сойдет. Если он местный или приезжий из Европы, то я забуду его, даже не запомнив имени. Но если он американец, то ему предстоит стать на этот вечер моим собеседником.
Я решил подождать, пока он закажет первую выпивку (он выбрал "Гиннесс", в чем наши вкусы расходились), проследил, как он расплачивается деньгами из коричневого кожаного бумажника, который носит во внутреннем кармане пиджака. Я стал наблюдать, как он потягивает пиво, стоя у бара. Мой избранник окидывал взглядом паб, наши глаза пару раз встретились, но я отводил их первым.
Когда в его кружке остался один глоток отвратительного черного варева, я подошел к бару. Он допил "Гиннесс", махнул бармену таким широким жестом, какой не позволил бы себе ни один англичанин, и произнес с невыносимой гнусавостью, которая не могла родиться нигде, кроме как на американском юге: "Дайте мне еще крепкого, пжалста".
Внутри я возрадовался, но ему лишь сказал:
– На такую шапку можно спичку поставить. Темные глаза засверкали от удовольствия, когда он понял, что я разговариваю с ним. Интересно, был ли хоть кто-то дружелюбен к нему за все путешествие или ему попадались только недоумки, которые сразу же отсылали его как тупого янки. Конечно, лучше бы он связался с одним из таких недоношенных ублюдков, чем со мной. Но пока ему не надо этого знать. Ему вообще не придется это узнать, если я все сделаю правильно.
– А? – выдал он, широко улыбаясь.
Я, кажется, понял, как происходит восприятие у пустоголовых янки. Хотя я как-то работал в туристическом бюро и встречал нескольких американцев. Мне они отнюдь не показались глупыми. Их просто не обучили выражать свои мысли. Или они робели перед нашим произношением, которое звучит для них просто роскошно, и не могли ничего сказать или, наоборот, из кожи лезли вон, повторяя одно и то же пятью-шестью способами. Слишком рьяные – да. Косноязычные – да. Но вовсе не обязательно глупые.
Я оперся о стойку бара, прижав левую руку к груди, рядом с бесконечной болью в ране. Под новым черным джемпером сердце металось как дикий зверь в клетке. Беспокойное, неприятное ощущение.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Район ресторанов и ночных клубов в Лондоне, район богемы.
2
Дословно: «Нижняя бойня».
3
Grimsby – от англ. Grim (жестокий, беспощадный, мрачный), Kattle Crag (Скотский утес), Fitful Head (Судорожная вершина), Mousehole (Мышиная нора), Devil's Elbow (Плечо дьявола).
4
Junior – младший (англ.).