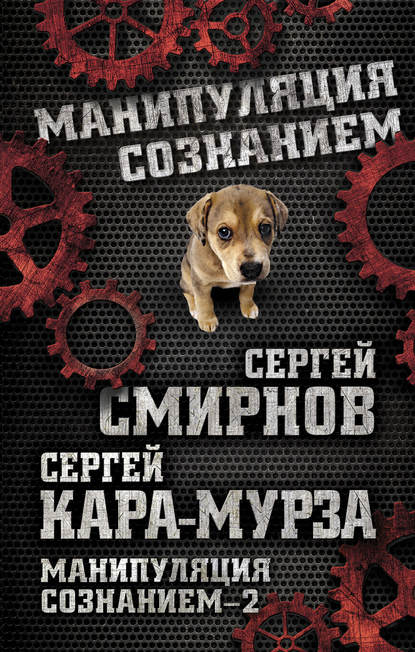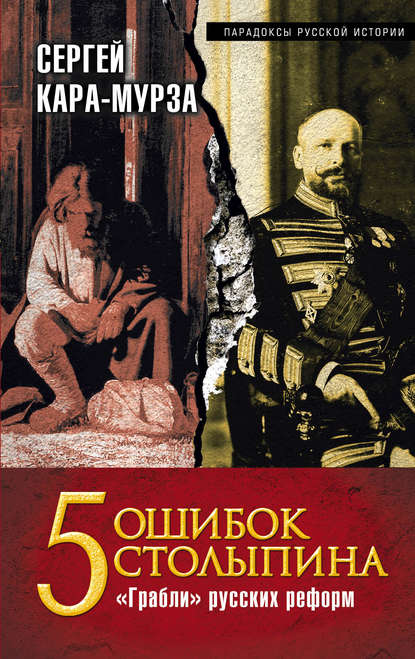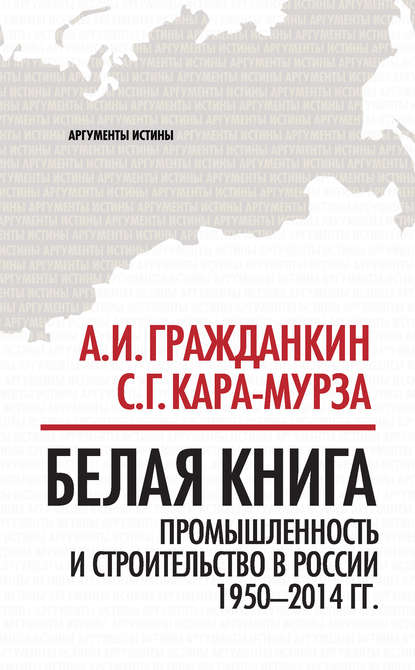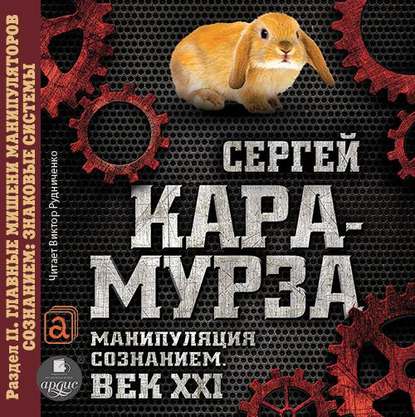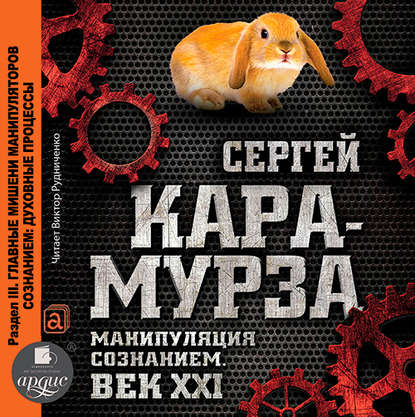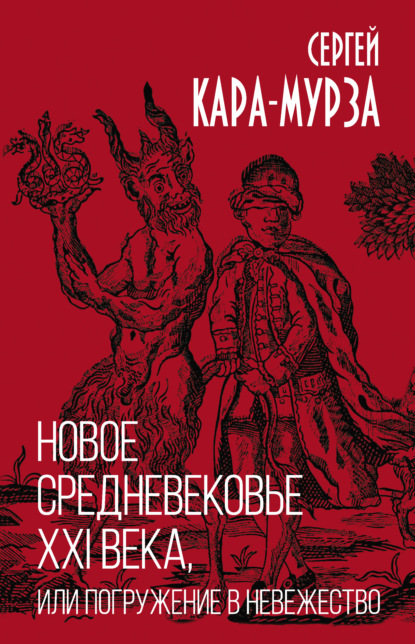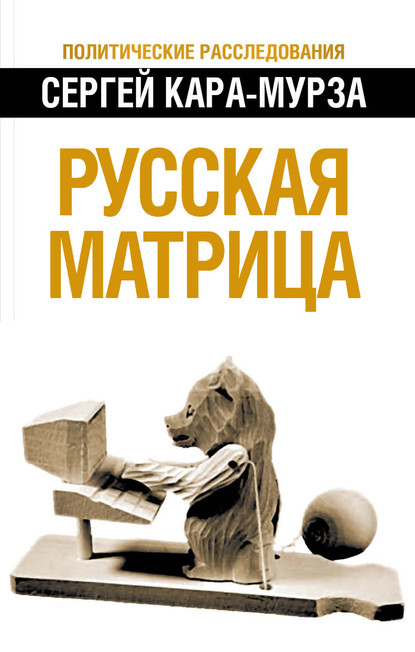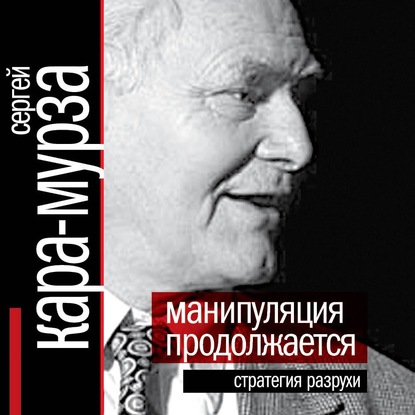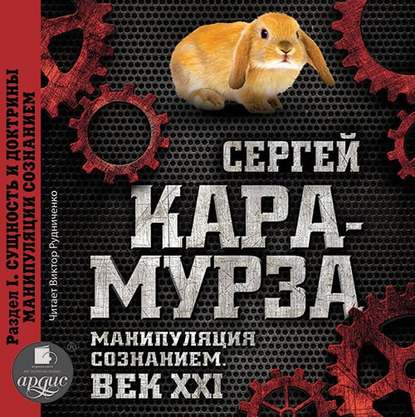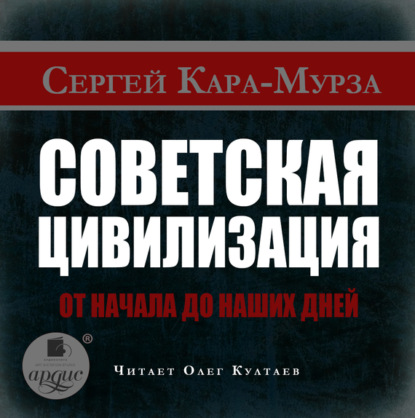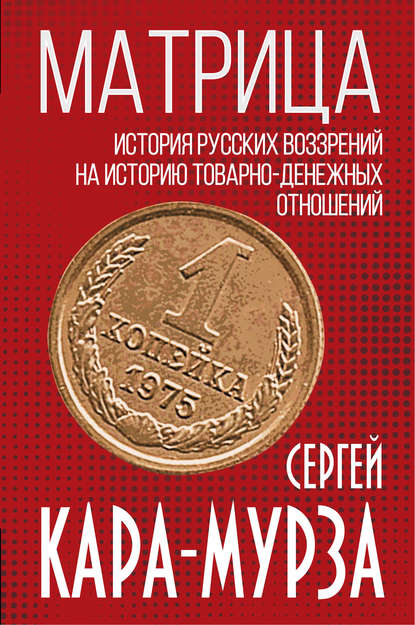
Полная версия
Матрица. История русских воззрений на историю товарно-денежных отношений
Так была создана трудовая теория стоимости, фундаментальный блок политэкономии. Позже А. Смит превратил политэкономию в науку о законах экономики, согласно доминирующих представлений о хозяйстве в культуре Англии.
Возникновение и развитие современного капитализма произвело тектонические изменения в народном хозяйстве в Западной Европе, а затем в колониях и во все странах, которые старались сохраниться в ходе экспансии Запада. Эти страны были вынуждены изучать западные институты и учреждения, создавать собственную тяжелую промышленность, свои армию и флот – на своей культурной почве. Государствам, купцам и образованным сословиям надо было иметь представления о хозяйстве стран, с которыми были отношения. Во время потрясений и сдвигов в нарождающемся капитализме соседям было необходимо понимать новые приемы механизмы и торговли и передвижений товаров и денег. Эти процессы надо было «видеть и чувствовать», изучать признаки и следы этих процессов, цели и последствия их действий.
В истории был драматический период: Испания, не включенная в интенсивный процесс монетаризма, но «открытая» европейскому рынку, ввозила из Америки огромную массу золота и серебра – и непрерывно беднела, ибо это золото и серебро уплывало в Англию, созревшую для монетаризма и имеющую политэкономию, которую в других странах не понимали.
Тенденции традиций, привычек и решений в экономической деятельности обычно соединяются в речах и диалогах, литературе, трактатах и книгах ученых. Сгустки этих смыслов становятся тем, что называют (или называли) политэкономией. Изменения их смысла и попытки внедрить их в жизнь для начала можно отследить по текстам известных философов и экономистов, таких как А. Смит, Ф. Лист, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, В. Ойкен и современных авторитетов. Прислушаемся к суждению Кейнса, крупного мыслителя прошлого века. Он сказал: «Идеи экономистов и политических философов, правы они или нет, гораздо более могущественны, чем это обычно осознается. На самом деле вряд ли миром правит что-либо еще. Прагматики, которые верят в свою свободу от интеллектуального влияния, являются обычно рабами нескольких усопших экономистов».
В разных вариациях эта мысль встречается и у многих других мыслителей. Те идеи и утверждения, которые мы изучали в школе и вузе, загоняют наш ум в определенные рамки.
В общем, чтобы овладеть смыслами процессов хозяйственной деятельности, государство и общество любой страны должны были иметь «образы» собственного народного хозяйства и экономики тех стран, с которыми ведутся коммерческие отношения или от них исходят угрозы. Для этого надо сделать эти образы видимыми (в форме текстов и документов, расчетов и схем, карт и таблиц). Эта операция называется визуализация. В принципе, эти операции выполняются непрерывно в самых разных формах, большинство об этом и не думает. Но часто приходится помучиться, чтобы найти способ.
Я помню, как в 1960-е годы в химии произошел прорыв в визуализации молекул и их структур. Какой был подъем! Сначала стали доступны образы молекул вещества посредством облучения его электромагнитным полем – ультрафиолетовым и инфракрасным. Получали спектры: один позволяет увидеть связи атомов электронами, а другой – расположение ядер атомов в молекуле. Потом освоили спектроскопию ядерного магнитного резонанса – получили три «портрета» молекулы, сделанных в разном свете и с разных ракурсов. Набор таких методов быстро расширялся, счастливое время! Сложные проблемы разрешались быстро, как будто нам помогала магия. Возможность видеть предмет исследования в каком-то смысле преобразовала картину мира. И не только в химии, я бы даже сказал, что именно в общественной науке такой подход обладает более широкими возможностями, чем в естественных науках.
Ведь мы научились из всей нашей среды, даже Вселенной, выделять какую-то вещь или явление, назвать их именем и охватить их мышлением как отдельные целостности. Чтобы их мысленно рассмотреть и проникнуть в их сущность, мы на время отодвигаем в сознании другие вещи и явления, концентрируем разум на данном объекте. Но в общественных процессах надо увидеть большую систему со множеством элементов и связей, очень подвижную.
Почти всегда мы думаем о частичке хозяйства – она влияет, в малой или большой мере, на нашу личную жизнь и часто на жизнь народа. Но иногда необходимо задуматься не о частичке, а обо всем калейдоскопе мозаики этих частичек. Например, в тот момент, когда наше народное хозяйство как целость расчленяется и переделывается, а то и уничтожается. Представить себе образ такого хозяйства трудно, но все-таки каждый человек имеет некоторый образ.
Была такая притча. Шестеро слепых изучали слона. Один потрогал ногу и сказал: «Слон – это колонна». Второй схватил за хвост: «Слон – это веревка». Третий потрогал хобот: «Да нет же! Это толстый сук дерева». Так все спорили. Шел мимо мудрец и сказал: «Вы трогали разные части слона, а слон – это все то, о чем вы говорите».
Но все же лучше создавать этот образ, используя инструменты и методы, которые уже были изобретены и опробованы – они экономят время и усилия, а главное, с ними легче обсуждать проблемы с друзьями и скептиками. Например, можно представить «портрет» хозяйства в виде сети или ткани множества институтов, которыми покрыта хозяйственная деятельность, включая распределение и потребление. Атомов хозяйства слишком много, и их движение трудно рассмотреть невооруженным глазом, а институты изучают большие сообщества ученых.
Короткое отступление, оно поможет представить образ хозяйства в политэкономии (и других подобных инструментов сознания). Вспомним, как изменилась картина мира с появлением постклассической науки, когда нам представили мир элементарныхчастиц и космологии.
Древние люди (и наши дети) представляют мир как упорядоченное целое, все частицы которого связаны невидимыми нитями, струнами. Это – Космос. Добавляли: с ним воюет Хаос (боги помогают превратить хаос в порядок и вернуть его в Космос). Человек, проникнутый космическим чувством, ощущает единство Бытия, а себя считает обитателем огромного и прекрасного дома. Научная революция представила мир как машину. Этот образ упорядочил механицизм декартовского рационализма. Становление механистической картины мира, утверждение атомизма и рационализация сознания разрешили задачи идеологии восходящего буржуазного общества и легитимации нового политического порядка. Из этой картины мироздания идеологи английской революции непосредственно выводили естественность конституционной монархии как наилучшей из форм политического порядка. Разрушались иерархические структуры власти, скрепляющие людей солидарностью, основанной на образе жизни, традициях, религии. Возникало гражданское общество, основанное на индивидуализме людей-«атомов».
Человек же традиционного общества видит мироздание как Космос – упорядоченное целое, с каждой частицей которого человек связан мириадами невидимых нитей, струн. Хабермас так излагает разные формы легитимации власти – в новом обществе и в традиционных обществах: «Старые концепции мироздания: мифические, религиозные и философские – подчиняются логике взаимодействия людей. Они отвечают на фундаментальные вопросы коллективного существования людей и истории жизни отдельной личности. Их темами являются справедливость и свобода, насилие и гнет, счастье и благодарность, болезни и смерть. Их категории – победа и поражение, любовь и ненависть, спасение и приговор» [5].
Космос был дегуманизирован механической картиной мира, но его смысл в одних культурах ужился с механицизмом, в других восстановили статус Космоса на новом уровне. И. Пригожин писал: «Согласно известной формуле Фрейда, история науки есть история прогрессирующего отчуждения – открытия Галилея продемонстрировали, что человек не является центром планетарной системы, Дарвин показал, что человек – всего лишь одна из многочисленных биологических особей, населяющих землю… Однако [в постклассической науке] представления о реальности предполагают обратное: в мире, основанном на нестабильности и созидательности, человечество опять оказывается в самом центре законов мироздания» [6].
Незападные культуры освоили метод европейской науки, космическое чувство сохранили. Для нас надо освоить навык «видеть» большие сущности, которые покрывают наше жизнеустройство, как политэкономия. Можно сказать стихами Н. Заболоцкого (1936) о чувстве целостности:
И нестерпимая тоска разъединеньяПронзила сердце мне, и в этот мигВсе, все услышал я – и трав вечерних пенье,И речь воды, и камня мертвый крик.…И все существованья, все народыНетленное хранили бытие,И сам я был не детище природы,Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!Для примера подхода к визуализации большой системы (конкретно, общества) приведем короткую выжимку из книги шведского социолога П. Монсона, которую стоит прочитать. Вот дайджест кусочка первой главы:
Представьте себе, что вы в вертолете над городом. Внизу большой парк, и вы внимательно разглядываете его. Вам видны зеленые газоны, ухоженные рощицы и непроходимые заросли кустарников, маленькие озерца и целая сеть широких асфальтированных аллей, от которых разбегаются более узкие, посыпанные гравием тропинки. Вдоль широких аллей стоят садовые скамейки для отдыха.
Но вот появляются первые люди. Они быстро входят в парк по самым широким аллеям и торопливо проходят насквозь кратчайшим путем. За ними следуют новые посетители. Большинство продолжает двигаться по широким асфальтовым аллеям, но некоторые сворачивают на боковые тропинки, под деревья, где на некоторое время пропадают из виду. Попадаются и такие, что бредут, спотыкаясь, не разбирая дороги, топчутся прямо по клумбам. А кое-где некоторые граждане покидают и широкие аллеи, и узкие тропинки и лезут напролом через заросли кустарника. Большинство из них пропадает из виду и больше не показывается, но отдельные упрямцы все же ухитряются пробиться и выныривают на изрядном расстоянии по другую сторону кустарника, ободравшись и исцарапавшись в кровь об острые ветки шиповника. День проходит, и людской поток, нараставший вначале, становится теперь все меньше. Большинство пришедших в парк в сумерки придерживаются широких асфальтовых аллей и движутся по тропинкам в ожидании наступающей темноты. Наконец вам видны только светящиеся огни полицейских машин, а все, кто в течение дня пропал из виду и затерялся, так и остаются невидимыми. Когда тьма окончательно поглощает парк, он кажется полностью опустевшим.
Картина поведения посетителей парка является своего рода моделью и характеризует то направление в социологии, что изучает общество независимо от тех или иных основополагающих образцов поведения, которых отдельный человек придерживается в течение своей жизни.
Люди, пришедшие в парк, воспринимали его как некий заранее установленный порядок – аналогичным образом человечество воспринимает социальную структуру общества. Большинство пришедших в парк двигались по асфальтированным аллеям, символизирующим то, что в социологии называется социальными институтами. Примерно так же, как можно представить парк в виде канвы, образованной аллеями и тропинками, можно представить и общество в виде канвы из социальных институтов.
Основные институты общества – те «аллеи», по которым идет большинство людей, однако имеются менее значительные группы тех, кто «выбирает тропинки». И подобно тому, как в парке встречались посетители, топтавшие клумбы, в обществе есть люди, «спотыкающиеся на ровном месте». Это явление в социологии называется отклоняющимся поведением, и во множестве как теоретических, так и прикладных исследований содержатся попытки объяснить, почему люди определенного сорта непременно будут «вытаптывать клумбы». Однако важно заметить, что «отклоняющееся поведение» является «отклоняющимся» на фоне «нормального» и, следовательно, отклонения изначально заложены в общественные структуры.
В парке были и такие, кто не только не удовлетворился прогулкой по ранее проложенным тропинкам или даже вытаптыванием клумб, а ринулся в непролазный кустарник. Они не признали существующую канву парка и пошли туда, откуда впоследствии нельзя будет выйти. Возможно, они пытались найти кратчайший путь или протоптать новые дорожки, которые – если следом двинутся другие люди – со временем превратятся в широкие асфальтированные аллеи. Посетители парка будут гулять по ним и думать, что эти аллеи были всегда. В таком случае, возможно, прежние аллеи начнут зарастать и вскоре станут непроходимыми. Феномен «протаптывания тропинок» и «зарастания аллей» в социологии обозначается термином социальные изменения. (См.[7].)
Институты не слишком трудно выявлять с помощью социологии, а поскольку практически все социальные институты представляют те или другие аспекты хозяйства, можно создать образы советской экономики и рыночной экономики РФ (или, например, Украины). Подобные «портреты» не высвечивают все главные стороны такой большой системы, но они приближают нас к реальности.
Сейчас наблюдения из космоса на движение стихий, техники, энергии и людей дают нам серию частичных «портретов» человечества или народа страны. Рассмотреть и обдумать эти «портреты» – это уже важный шаг к тому, чтобы представить себе хозяйство как целостность. Нам доступны карты ночной освещённости Земли и стран, интенсивности хозяйства в форме международной торговли и движения товаров, лесных пожаров и т. д.
Интегральной карты еще нет. Но можно в воображении представить, что откуда-то из Космоса мы смотрим на Землю в потоке особого света и видим человечество в поле хозяйства. Человечество – не пыль, оно организовано в племени и народы, нации и цивилизации. Людей связывает их земля и культура, память и будущее. Вариантов комбинации всех форм деятельности и связей элементов систем хозяйства – большое множество, поэтому хозяйство каждой общности обладает неповторимым своеобразием. С момента появления человека его этнос – творец своей самобытной системы хозяйства. А в свою очередь, хозяйство – творец своего этноса. Хозяйство, воплощая в себе все стороны культуры, становится важной частью той матрицы, на которой этнос собирается и воспроизводится.
Можно представить, что, глядя сверху на страну, можно увидеть сеть или ткань институтов, которые регулируют народное хозяйство, а каждый человек связан с этой тканью множеством невидимых нитей. Сверху видна эта ткань, каждая со своими особенностями, она соединяет и защищает народ и его хозяйство. Ее ткали и ткут, штопают и обновляют – все сородичи и земляки, потом соотечественники и граждане, шаманы и священники, власти и ученые. Образ такой ткани или пленки – это аллегория и модель.
Далее рассмотрим подробнее.
Раздел I
Гл. 1. Хозяйство и этнос
Хозяйство (экономика) – один из важнейших «срезов» жизнеустройства народа. В нем сочетаются все элементы культуры – представления о природе и человеке в ней, о собственности и богатстве, о справедливости распределения благ, об организации совместной деятельности, технологические знания и умения. Вариантов комбинации всех этих элементов большое множество, поэтому хозяйство каждой этнической общности обладает неповторимым своеобразием. Этнос – творец своей самобытной системы хозяйства. Но хозяйство, воплощая в себе все стороны культуры, становится важной частью той матрицы, на которой этнос собирается и воспроизводится. То есть, в свою очередь, хозяйство – творец своего этноса.
Поскольку между этносами идет непрерывный взаимный обмен элементами культуры, то наиболее острые различия сглаживаются. В результате исторически складываются разные типы хозяйства. Их изучением занимаются экономисты, а сохраняющиеся особенности и различия – предмет этнографов. Сложилась и особая научная область – этноэкономика.
Формационный подход, положенный в основу исторического материализма, исключал из рассмотрения этническую специфику хозяйственных укладов, он оперировал с небольшим числом «чистых» моделей. Что касается незападных стран, то эти модели Запада были настолько далеки от реальности, что Маркс даже сделал попытку выделить особую, туманно определенную формацию, которую назвал «азиатским способом производства». Эта попытка оказалась малопродуктивной и, по сути, была предана забвению. Здесь же нас интересуют не абстрактные «общечеловеческие» экономические формации, а именно специфическое для нашего народа взаимодействие хозяйства с культурой.
Когда человек ведет хозяйственную деятельность, на него воздействуют практически все силы созидания народа – от языка и религии до системы мер и весов. О. Шпенглер утверждал даже: «Всякая экономическая жизнь есть выражение душевной жизни». Но в душевной жизни и коренятся особенности разных народов, а материальный мир («вещи») есть лишь воплощение этих культурных особенностей.
Поэтому хозяйство, в котором преломляются эти силы, само является мощным механизмом выработки национального самосознания и скрепления людей этими связями. Даже волны экономической глобализации – и колониальной экспансии Запада, и стандартизирующего наступления капиталистического производства и рынка, и нынешних информационных технологий – не могут преодолеть взаимовлияния хозяйства и национальной культуры.
Например, все незападные страны начиная с XVIII века испытывают процесс модернизации – освоения созданных на Западе технологий и хозяйственных институтов. Внешне нередко кажется даже, что при этом возникает западный тип хозяйства, в котором не воспроизводятся национальные черты – они как будто вытесняются в сферу внешних «этнографических проявлений». Но это ошибочное впечатление. Суть многих сторон хозяйства возникает как синтез, как продукт национального творчества.
Археология, изучающая самые древние из сохранившихся свидетельств жизни ранних человеческих общностей, показывает, что роль хозяйства как механизма этнизации людей проявилась с самого начала, с возникновения человека. Найденные в группе технические приемы и способы организации хозяйства воспроизводились в следующих поколениях и отличали эту группу от других[4].
Например, изобретение молотка (и молотка с долотом) сыграло огромную роль в развитии человечества, но некоторые, даже современные, народы не применяли молотка, предпочитая обработку материала нажимом. Большое многообразие этнических особенностей обнаруживается в хозяйственном применении огня, в обработке земли и скотоводстве, в способе перемещения тяжестей и грузов, в изготовлении оружия. Совокупность технических приемов и материальных средств представляет собой систему, устойчивую (и изменяющуюся) часть культуры этнической группы (племени, народа и даже нации).
Даже индустриальное развитие в хозяйстве этноса не приводит к культурной конвергенции и стиранию различий. После Второй мировой войны американский антрополог В. Брандт вел в течение 30 лет этнологическое изучение промышленного развития ряда стран Юго-Восточной Азии. Он пришел к выводу, что «культурные различия остаются решающими на основных уровнях человеческого взаимодействия, придавая якобы универсальным последствиям модернизации вид, согласующийся с местной культурной конфигурацией» [9]. Культурные различия народов – вот решающее условие развития, а вовсе не имитация чужих методов.
Процесс создания и развития образа желанного и возможного хозяйства – непрерывное усилие мышления и чувства общности (рода, племени, народа, нации). Этот образ – важная часть культурного ядра. В Новое время этот образ стали оформлять трактатами или даже теориями (политэкономией), но и в древности имели формы, чтобы запечатлеть эти образы. История показывает, насколько разные эти образы и теории создаются в разных культурах. Сравним особенности классической политэкономии Англии раннего капитализма и традиционных принципов ряда азиатских культур.
В западной цивилизации, как пишут, кровожадность «естественного» человека была усмирена правом – «война всех против всех» приняла форму конкуренции. Так, движущей силой, соединяющей людей в общество, являлся страх. Родоначальник теории гражданского общества Гоббс вводит такой постулат: «Следует признать, что происхождение многочисленных и продолжительных человеческих сообществ связано… с их взаимным страхом» [10, с. 302.]. То есть под той положительной мотивацией, какой А. Смит считал поиск выгоды на рынке, лежит страх быть побежденным в конкуренции. При этом страх должен быть всеобщим. Кроме того, должно существовать равенство в страхе. Гоббс пишет: «Когда же частные граждане, т. е. подданные, требуют свободы, они подразумевают под этим именем не свободу, а господство» [10, с. 367]. Этот порядок на несколько веков придал Западу большую силу.
А вот востоковед А.Н. Ланьков пишет о Корее: «Конфуцианство воспринимало государство как одну большую семью. Вмешательство государства в самые разные стороны жизни общества считается в Корее благом – хотя образованные корейцы прекрасно знакомы с европейскими воззрениями на государство и гражданское общество. В докладе о южнокорейской экономике, подготовленном по заказу Всемирного банка, говорится: “Озадачивающим парадоксом является то, что корейская экономика в очень большой степени зависит от многочисленных предприятий, формально частных, но работающих под прямым и высокоцентрализованным правительственным руководством”. Другой американский экономист пишет: “Корея представляет из себя командную экономику, в которой многие из действий отдельного бизнесмена предпринимаются под влиянием государства, если не по его прямому указанию”» [11].
Люди с высоким уровнем «индивидуализма» стягиваются в нации другими типами отношений, раньше мощным страхом – по законам отправляли бедняков в работные дома, благотворительность запрещалась. А сейчас, например, соединяют посредством их рациональной деятельности по организации социальной помощи и благотворительности – даже если это делается не из любви, а из расчета и права.
Эту целостную внутреннюю среду, соединяющую материальный и духовный миры, этническая группа оберегает, отказываясь даже от выгод «эффективности». Традиции ведения хозяйства очень устойчивы почти у всех народов, их стремятся сохранить даже ценой больших дополнительных затрат. Русские переселенцы XVII – начала XX в. на юге Украины строили рубленые дома из бревен, которые с чрезвычайными усилиями и затратами привозили за сотни километров. Неимущие семьи предпочитали по нескольку лет жить в землянках, копя деньги на «дом», но не строили саманные мазанки, как местное население. Русские переселенцы XVII-XIX вв. в Сибири прилагали огромные усилия по приспособлению традиционных для Европейской России приемов хлебопашества к новым условиям. А в Забайкалье чересполосно проживают три народа – русские, буряты и эвенки. И до сих пор на селе они сохраняют свою специализацию: русские – земледелие, буряты – животноводство, эвенки – оленеводство (в сочетании с охотой и рыболовством).
Понятно, что устойчивость традиций и пережитков таит в себе важное противоречие. Многие пережитки не просто снижают эффективность хозяйства, но и приводят к тяжелым последствиям. В России, например, была очень высока детская смертность – в 1901 г. доля младенцев, умерших в возрасте до 1 года, составляла 40,5 %. Врачи выяснили, что причина кроется в особенностях вскармливания грудных детей в православных крестьянских семьях – прикармливанием детей с первых недель жеваным хлебом через соску. В семьях мусульман, даже живших в худших условиях, младенческая смертность была в 2,5 раза ниже, т. к. здесь обязательным считалось грудное вскармливание [12]. Силами врачей и комсомольцев женщинам-крестьянкам объяснили причины болезни младенцев. Люди поняли, и этот пережиток был удален.
Заметим, что с началом Первой мировой войны младенческая смертность в России повысилась и стала снижаться только в 1921 г., в условиях НЭПа и культурной революции. А в ходе Великой Отечественной войны, напротив, младенческая смертность снизилась. В 1946 г. ее уровень был почти вдвое (на 74 %) ниже, чем в 1940 г.
Сохранение пережитков необходимо потому, что каждая вещь и каждая хозяйственная операция имеют не только функциональный, но и символический смысл. Это наглядно выражается в изготовлении оружия. Национальные представления о красоте воплощаются и в изделиях, достигших максимума функциональной эффективности (или имеющих примерно одинаковый ее уровень с иностранными изделиями). Думаю, большинству читателей кажутся очень красивыми автомат Калашникова, советская каска или танк Т-34. Об этом в 1964 г. писал и Леруа-Гуран: «Поразительно видеть, до какой степени американские и русские ракеты и спутники, несмотря на очень узкие функциональные требования, носят на себе отпечаток создавших их культур».
Это явление известно историкам техники и ее создателям. Академик В.А. Легасов, изучавший причины чернобыльской катастрофы и указывавший на ее прямую связь с дестабилизацией «культурного ядра» общества в ходе начавшейся перестройки, сказал (в интервью Ю. Шевчуку в повести «Чернобыль»): «Та техника, которой наш народ гордится, которая финишировала полетом Гагарина, была создана людьми, стоявшими на плечах Толстого и Достоевского… Они выражали свою мораль в технике. Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так, как их учили относиться ко всему в жизни Пушкин, Толстой, Чехов».