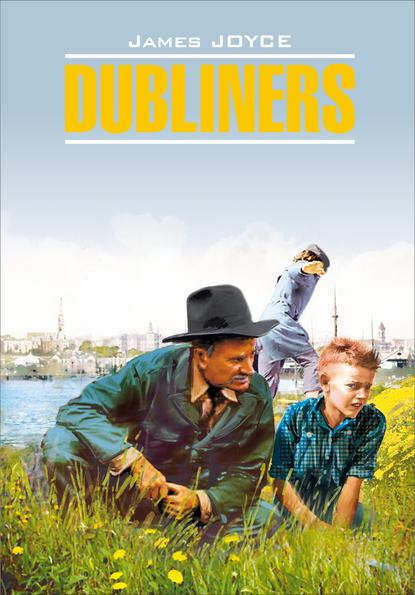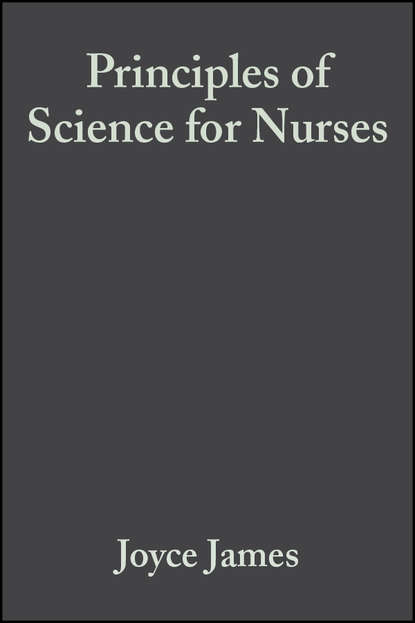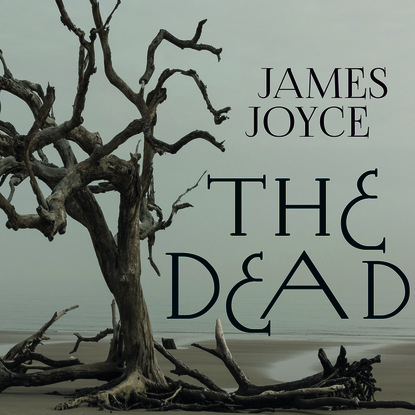Полная версия
Портрет художника в юности
Шум, шум…
Был слышен шум занавесок, как их кольца отдергивались по стержням, плеск воды в тазиках. Шум, как кругом в дортуаре вставали, одевались, мылись; шум, как надзиратель хлопал в ладоши, прохаживаясь и подгоняя мальчиков. В бледном солнечном свете виднелись желтые отодвинутые занавески, раскиданные постели. Его постель была совсем горячая, его лицо и тело совсем горячие.
Он поднялся и сел на край постели. Он чувствовал слабость. Попытался натянуть чулок, он на теле казался противно грубым, шершавым. Свет солнца был чужой, холодный.
Флеминг сказал:
– Тебе что, нездоровится?
Он сам не знал, и Флеминг тогда сказал:
– Давай обратно в постель. Я Макглэйду скажу, тебе нездоровится.
– Он заболел.
– Кто?
– Скажите Макглэйду.
– Давай обратно в постель.
– Он что, заболел?
Один мальчик поддерживал его за руку, пока он стаскивал приставший к ноге чулок, и потом он залез обратно в постель.
Он съежился между простынями, радуясь, что они еще теплые. Ему было слышно, как мальчики, одеваясь и собираясь к мессе, разговаривают между собой. Это подло было так делать, спихнуть его в жолоб в уборной, говорили они.
Потом голоса их затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал:
– Дедал, ты на нас не наябедничаешь, правда же?
Там было лицо Уэллса. Он взглянул на него и увидел, что Уэллс боится.
– Я это не нарочно. Ты ж не наябедничаешь, правда?
Папа сказал ему, что бы он ни делал, никогда не доносить на товарищей. Он покачал головой и ответил нет, и ему стало радостно. Уэллс сказал:
– Я не нарочно, вот клянусь. Я только так, для смеха. Ты извини.
Голос и лицо удалились. Извинился потому что боится. Боится, это какая-то болезнь. Звери болеют раком или может чем-то другим. Это было давно-давно в сумерках тогда на площадке, он переступал с места на место в хвосте команды, и тяжелая птица низко летала в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет. Уолси там умер. Он был погребен аббатами.
Это было не Уэллса лицо, а надзирателя. Он не притворяется. Нет-нет, он правда заболел. Он не притворяется. И он почувствовал у себя на лбу руку надзирателя, и под этой рукой, холодной и влажной, почувствовал, какой у него горячий и влажный лоб. Это было как почувствовать крысу, она скользкая, влажная, холодная. У каждой крысы два глаза, чтобы смотреть. Шкурки гладкие, скользкие, лапки крохотные поджаты, чтоб прыгать, глазки черные, блестящие, чтоб смотреть. Они понимают как это надо прыгать. А вот тригонометрии крысиный ум не может понять. Когда они дохлые, то лежат на боку, и шкурки тогда у них высохшие. Это тогда просто падаль.
Опять появился надзиратель, и голос его теперь говорил, что он должен встать, что это отец помощник ректора сказал, ему надо встать, одеться и пойти в лазарет. И пока он одевался, стараясь как можно быстрее, надзиратель приговаривал:
– Ничего не поделаешь, надо перебираться к брату Майклу, раз пузик у нас болит! Ух как несладко, когда пузик болит! Уж такой бледный вид, когда пузик болит!
Он так говорил, потому что добрый. Это всё, чтобы он смеялся. Только он смеяться не мог, у него все щеки и все губы дрожали, и раз так, надзирателю пришлось самому смеяться.
И надзиратель крикнул:
– Живенько марш! Сено-солома!
Они спустились вместе по лестнице, прошли по коридору и мимо ванной. Минуя дверь в ванную, он с чувством смутного страха вспомнил теплую и болотистую, торфяного цвета воду, теплый и сырой воздух, шум от плюханий в воду и запах от полотенец как от лекарств.
Брат Майкл стоял в дверях лазарета, и из двери темного чулана по правую руку от него шел запах как от лекарств. Он шел от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, а тот отвечал и обращался к надзирателю сэр. У него были волосы рыжеватые с сединой и какой-то чудной вид. И чудно тоже, что он так и будет всегда братом. И потом еще чудно, что его нельзя было называть сэр, раз он был брат и у него был вид не такой, как у остальных. Он что, не такой святой, почему он не мог сравняться со всеми?
В комнате были две кровати, и на одной лежал мальчик; и когда они вошли, он крикнул:
– Привет! Да это малыш Дедал! С чего это ты сюда?
– Со второго этажа, – сказал брат Майкл.
Это был из третьего класса мальчик. Пока Стивен раздевался, он все просил брата Майкла дать ему поджаренного хлеба с маслом.
– Ну, ломтик, пожалуйста, – говорил он.
– Не умасливай! – отвечал брат Майкл. – Завтра утром, когда доктор придет, мы тебя выпишем из лазарета.
– Выпишете? – переспросил мальчик. – А я еще не поправился.
Брат Майкл повторил:
– Завтра утром мы тебя выпишем из лазарета.
Он наклонился и стал шуровать уголь в камине. Спина у него была длинная как у лошади, что возит конку. Он двигал усердно кочергой, а головой кивал мальчику из третьего.
Потом брат Майкл ушел, а еще погодя немного мальчик из третьего отвернулся к стенке и заснул.
Это лазарет. Значит, он заболел. А они написали домой, маме с папой? Хотя еще быстрей было бы, если бы кто-то из священников поехал и им сказал. Или он бы сам написал письмо, а священник бы передал.
Дорогая мама
Я заболел. Я хочу домой. Ты приезжай, пожалуйста, и меня забери домой. Я в лазарете.
Твой любящий сын,
СтивенКак они далеко! За окошком холодным светом светило солнце. Он подумал, а вдруг он умрет. В солнечный день все равно же умирают. Может, он умрет раньше, чем мама приедет. Тогда по нему отслужат заупокойную мессу в часовне, так было, когда Литтл умер, ему мальчики рассказывали. Мальчики все придут на мессу, все будут в черном, лица у всех печальные. Уэллс тоже придет, но на него никто даже смотреть не захочет. Ректор будет в черной с золотом мантии, и свечи будут гореть высокие, желтые, на алтаре и вокруг катафалка. И потом медленно гроб вынесут из часовни, и его похоронят на том маленьком кладбище общины, за главной аллеей липовой. И Уэллс будет жалеть, что он сделал. И колокол будет медленно звонить.
Он даже слышал звон. Он стал повторять про себя песню, которой его научила Бриджет.
Динь-дон! Слышен звон!Прощай навеки, мама!Тихим сном мне спать сужденоСо старшим братцем рядом.Гроб с черною каймою,Шесть ангелов за мною,Молятся двое, а двое поют,Двое мою душу на небо несут.До чего это красиво и грустно! Какие слова красивые, вот эти, где говорится Тихим сном мне спать суждено! По телу его прошла дрожь. Так грустно, так красиво! Ему захотелось поплакать тихонько, но не о себе, а над этими словами, что были грустные и красивые как музыка. Слышен звон! Слышен звон! Тихий сон! Тихий сон!
Свет солнца был уже не такой холодный, и у его кровати стоял брат Майкл с чашкой бульона. Он обрадовался, потому что во рту было горячо и все пересохло. Слышно было, как там на площадках играют мальчики. В колледже шел обычный день, как если бы он по-прежнему там был.
Потом брат Майкл стал уходить, а мальчик из третьего ему сказал, чтобы он непременно пришел опять и рассказал бы ему все новости, что в газете. Он сказал Стивену, что его фамилия Этай и что отец его держит скаковых лошадей, целую кучу, классные скакуны, и отец всегда был бы рад подсказать хорошую ставочку брату Майклу, потому что брат Майкл такой добрый и всегда ему рассказывает новости из ежедневной газеты, которую получают в замке. Там новости какие хочешь, происшествия, кораблекрушения, спорт, политика.
– А теперь в газетах сплошь про одну политику, – сказал он. – У тебя дома как, тоже про это все?
– Да, – ответил Стивен.
Мальчик подумал потом минуту и сказал:
– У тебя чудная фамилия, Дедал, а у меня тоже чудная, Этай. Это название города, моя фамилия. А твоя как латинская.
Потом он спросил:
– А ты загадки отгадывать умеешь?
– Не очень хорошо, – ответил Стивен.
Тогда мальчик спросил:
– А вот такую ты отгадаешь: чем графство Килдер отличается от Азии?
Стивен поискал в уме отгадку, потом сказал:
– Не знаю, сдаюсь.
– А тем, что в Азии – Китай, а в графстве Килдер – Этай, вот чем!
– А, понятно, – сказал Стивен.
– Это старинная загадка, – сказал мальчик.
Через минуту он снова заговорил:
– А знаешь?
– Что? – спросил Стивен.
– Эту загадку можно еще по-другому загадать.
– Можно по-другому? – переспросил Стивен.
– Ту же самую, – подтвердил мальчик. – А ты знаешь, как по-другому?
– Нет, – отвечал Стивен.
– И не можешь сообразить, как по-другому?
Говоря, он приподнялся на своей постели и смотрел на Стивена. Потом снова откинулся на подушку и сказал:
– Есть другой способ ее загадать, только я тебе не скажу какой.
Почему он не хочет сказать? Наверно, папа его, у которого скаковые лошади, тоже мировой судья, как папы у Сорина и у Крысы Роуча. Он стал думать про своего папу, как тот пел, когда мама играла на рояле, и как давал ему всегда шиллинг, если попросишь шестипенсовик, и ему стало жалко папу, что он не мировой судья, как папы у других мальчиков. А тогда почему его сюда отдали учиться, вместе с ними? Но ведь папа говорил ему, что он тут не будет чужаком, потому что его двоюродный дед пятьдесят лет назад подносил адрес освободителю. Людей того времени узнаешь всегда по старинной одежде. Ему казалось, тогда все было торжественно – и он подумал, что это, может быть, как раз в те времена ученики в Клонгоузе носили голубые шинели с медными пуговицами, желтые жилетки и шапки из кролика, и тогда они пили пиво как взрослые и держали своих гончих для охоты на зайцев.
Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет потускнел заметно. Над площадками сейчас, наверно, серое пасмурное небо. Шума с площадок не доносилось. Наверно, его класс сейчас пишет упражнения или же отец Арнолл читает им вслух.
Как странно, что ему тут не дали никакого лекарства. Может быть, брат Майкл его принесет, когда вернется. Мальчики говорили, когда ты в лазарете, то какую-то микстуру вонючую заставляют пить. Но он уже себя чувствовал лучше. Хорошо бы лежать и медленно выздоравливать. Тогда можно здесь книжки получать. В библиотеке есть книжка про Голландию. В ней такие чудесные иностранные имена, картинки с какими-то необыкновенными городами, с кораблями. Рассматриваешь их, и так здорово.
До чего тусклый свет за окном! Но так тоже хорошо. На стенке огонь подымается и опадает. Как будто волны. Кто-то подбросил угля, и ему послышались голоса. Они разговаривали. Это был шум волн. Или это волны разговаривали одна с другой, меж тем как они подымались и опадали.
Он увидел море в волнах, длинные темные валы подымались и опадали, темные в безлунной ночи. Слабый огонек мерцал на пирсе, там, куда приближался корабль – и он увидал целую толпу людей, собравшихся у кромки воды, смотрящих, как корабль входит в гавань. На мостике корабля стоял высокий человек, глядя в сторону темной и плоской земли: и при свете огонька с пирса он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла.
Он увидел, как высокий человек протянул руку к народу и услышал, как он произносит громким и скорбным голосом, разносящимся над водой:
– Он умер. Мы видели его на смертном одре.
Скорбный плач раздался в толпе.
– Парнелл! Парнелл! Он умер!
Они пали на колени, рыдая в глубокой скорби.
И он увидел Дэнти в коричневом бархатном платье и зеленой бархатной накидке, ниспадающей с плеч. Безмолвно и гордо она шествовала мимо людей, стоявших на коленях у кромки воды.
* * *Высокая груда угля в камине вовсю пылала ярко-алым огнем, и под люстрой, рожки которой увиты были плющом, был накрыт рождественский стол. Они вернулись домой, слегка задержавшись, но ужин все равно был еще не готов: вот-вот готов будет, сказала мама. Они поджидали, когда распахнется дверь и войдут служанки, держа большие блюда, закрытые тяжелыми металлическими крышками.
Все ждали: дядя Чарльз сидел поодаль у окошка в тени, Дэнти и мистер Кейси сидели в креслах по разные стороны от камина, а Стивен – между ними на стуле, положив ноги на мягкую подставочку. Мистер Дедал поглядывал на себя в зеркало, висящее над камином, и подкручивал кончики усов, а потом раздвинул руками фалды фрака и стал к камину спиной, но время от времени он отнимал руку от фалды и снова подкручивал то один, то другой кончик. Мистер Кейси голову склонил набок и с улыбкой себя постукивал пальцами по шее. И Стивен улыбался тоже, он же ведь знал теперь, что это неправда, будто бы у мистера Кейси в горле кошелек с серебром. Он улыбался, вспоминая, как это его так обманывал этот серебряный звук, что умел делать мистер Кейси. А когда он раз попытался разжать у мистера Кейси руку и поглядеть, не спрятан ли там этот кошелек, то оказалось, что пальцы не разгибаются, и мистер Кейси ему сказал, что у него три пальца на руке остались скрюченными с тех пор, как он делал подарок королеве Виктории на день рождения.
Мистер Кейси постукивал себя пальцами по шее и сонно улыбался Стивену; а мистер Дедал сказал:
– М-да. Ну что ж, все прекрасно. Неплохо мы прогулялись, верно, Джон? М-да… Интересно, есть ли шансы получить ужин сегодня. М-да… Но мы-таки отлично наглотались озона в округе мыса. Готов божиться.
Он обернулся к Дэнти и спросил:
– А вы вообще никуда сегодня не двигались, миссис Риордан?
Дэнти нахмурилась и кратко ответила:
– Нет.
Мистер Дедал отпустил фалды фрака и направился к буфету. Подойдя, он достал из закрытого отделения большой глиняный кувшин с виски и стал медленно наполнять графин, то и дело наклоняясь увидеть, сколько налилось уже. Потом поставил кувшин обратно и плеснул понемногу виски в два стаканчика, прибавил в них немного воды и вернулся с ними к камину.
– Всего наперсточек, Джон, – сказал он, – для возбуждения аппетита.
Мистер Кейси принял стаканчик и, отхлебнув из него, поставил на каминную полку. Потом он сказал:
– А мне все вспоминается друг наш Кристофер, как он там варганит…
Тут его одолел смех вместе с кашлем, и он закончил с трудом:
– …варганит этакое шампанское для тех парней.
Мистер Дедал громко расхохотался.
– Это Кристи-то? – переспросил он. – Да у него в каждой бородавке на лысине больше хитрости, чем у целой стаи лисиц!
Он наклонил голову набок, прикрыл глаза и, усиленно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы:
– И когда с вами говорит, уж такая у него сладость во рту, вы просто не поверите. Обслюнявит все свои индюшачьи сережки, дай ему Бог здоровья.
Мистер Кейси все еще не мог справиться со своим кашлем и смехом. А Стивен, увидев и услышав хозяина гостиницы в отцовском лице и голосе, тоже засмеялся.
Мистер Дедал вставил в глаз монокль и, пристально посмотрев на сына, проговорил ласково и спокойно:
– Ну, а ты-то чему смеешься, несмышленый малыш?
Тут вошли служанки и поставили на стол блюда. Следом за ними появилась миссис Дедал и, приведя в порядок места для всех, сказала:
– Прошу садиться.
Мистер Дедал уселся во главе стола со словами:
– Миссис Риордан, прошу вас. Джон, присаживайтесь, голубчик.
Посмотрев вглубь, где сидел дядя Чарльз, он добавил:
– Пожалуйте, сэр, тут вас птичка ждет.
Когда все расселись, он положил было руку на крышку блюда, но тут же отдернул ее и проговорил:
– Давай-ка, Стивен.
Стивен поднялся и прочитал молитву перед едой:
Благослови, Господи, нас и благослови даяния сии, кои по милости Твоей ниспосылаеши нам чрез Христа Господа нашего. Аминь.
Все перекрестились, и мистер Дедал с удовлетворенным вздохом поднял с блюда тяжелую крышку, по краям ожемчуженную блестящими каплями.
Стивен глядел на жирную индейку, которая на столе в кухне лежала перевязанная для жарки и проткнутая спицей. Он знал, что папа заплатил за нее гинею у Данна на Д’Ольер-стрит, и продавец много раз тыкал ее в грудку, показать, какая она хорошая, и ему припомнился голос продавца, как он говорил:
– Возьмите эту вот, сэр. Товар высший класс.
Почему это в Клонгоузе мистер Барретт называет индюшкой свою линейку для наказания по рукам? Но Клонгоуз был сейчас далеко – а от блюд и тарелок шел густой теплый запах индейки и окорока и сельдерея, и в камине ярко-ало пылала высокая груда угля, и от зеленого плюща и алого остролиста повсюду было так радостно – а когда ужин кончится, то еще принесут большой плам-пудинг, обсыпанный чищеным миндалем, украшенный остролистом и маленьким зеленым флажком на верхушке, и по нему будет бегать голубой огонек.
Это был первый его рождественский ужин, и он подумал про своих младших братьев и сестер, которые оставались в детской и там ждали до пудинга, как и он раньше ждал. В итонском костюмчике с низким отложным воротником он себя чувствовал как-то непривычно, чуть ли не стариком; а когда утром он оделся, чтобы идти к мессе, и вместе с мамой вышел в гостиную, папа прослезился. Он это потому что он вспомнил про своего папу. Дядя Чарльз так и сказал.
Мистер Дедал снова закрыл блюдо крышкой и принялся есть с большим аппетитом. Потом он сказал:
– Бедняга Кристи, его сейчас уж вовсе перекосило от его плутней.
– Саймон, – заметила миссис Дедал, – ты не подал соуса миссис Риордан.
Мистер Дедал тут же взялся за соусник.
– Да как же это я! – воскликнул он. – Миссис Риордан, уж вы простите слепого.
Дэнти прикрыла свою тарелку руками и сказала:
– Нет, благодарю вас.
Мистер Дедал повернулся к дяде Чарльзу.
– А как у вас дела, сэр?
– Как в аптеке, Саймон.
– А вы, Джон, как?
– Полный порядок. Сами наверстывайте.
– А ты, Мэри? Стивен, тут вот кой-что, чтобы у тебя волосы вились.
Он щедро налил соуса Стивену в тарелку, поставил на место соусник и спросил дядю Чарльза, мягкая ли индейка. У дяди Чарльза был полный рот и он не мог говорить, но он кивнул, что мягкая.
– А здорово наш друг ответил канонику, разве нет? – спросил мистер Дедал.
– Я, честно говоря, не думал, что его на такое хватит, – сказал мистер Кейси.
– Отец мой, я заплачу церковный сбор тогда, когда вы прекратите делать из дома Божьего будку для голосования.
– Премилый ответ священнику, – сказала Дэнти, – от человека, который называет себя католиком.
– Им некого тут винить, кроме самих себя, – произнес мистер Дедал сладким тоном. – Им каждый дурачок скажет, что лучше бы они занимались только религией.
– Это и есть религия, – сказала Дэнти. – Они исполняют свой долг, когда предостерегают народ.
– Мы ходим в дом Божий, – сказал мистер Кейси, – чтобы смиренно молиться Творцу нашему, а не слушать предвыборные речи.
– Это и есть религия, – опять повторила Дэнти. – Они правильно делают. Пастыри должны наставлять свою паству.
– И вести политическую агитацию с амвона, так выходит? – спросил мистер Дедал.
– Конечно, – сказала Дэнти. – Здесь речь о нравственности. Если священник не говорит своей пастве, что хорошо и что дурно, то это не священник.
Миссис Дедал положила свои ножик и вилку и сказала:
– Ради милости Божией и благости Божией, давайте мы оставим политические споры хотя бы на один этот день в году.
– Вот это правильно, мэм, – сказал дядя Чарльз. – Саймон, хватит уже. Давай-ка ни слова больше.
– Хорошо, хорошо, – сказал скороговоркой мистер Дедал.
Быстрым жестом он открыл блюдо и произнес:
– Ну, кому там еще индейки?
Никто не откликнулся, а Дэнти повторила опять:
– Премилые выражения для того, кто считает себя католиком.
– Миссис Риордан, я вас прошу, – сказала миссис Дедал, – я прошу вас оставить эту тему.
Дэнти повернулась к ней и сказала:
– Так значит я должна сидеть здесь и слушать, как издеваются над пастырями моей церкви?
– Да никто против них и слова не говорит, – вмешался мистер Дедал, – пока они не лезут в политику.
– Епископы и священники страны высказали свое суждение, – произнесла Дэнти, – и ему надо повиноваться.
– Если они не бросят политику, – сказал мистер Кейси, – то, знаете, народ может бросить церковь.
– Вот, вы слышите? – воскликнула Дэнти, повернувшись к миссис Дедал.
– Мистер Кейси! Саймон! Ну прекратите же, – молила миссис Дедал.
– Нехорошо, ох как нехорошо! – произнес дядя Чарльз.
– Что?! – вскричал мистер Дедал. – И мы должны были отступиться от него по английскому приказанию?
– Он больше уже не был достойным вождем, – сказала Дэнти. – Он был разоблаченным грешником.
– Мы все грешники, и притом злостные грешники, – холодно возразил мистер Кейси.
– Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят, – произнесла миссис Риордан. – Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих.[2] Таковы слова Духа Святого.
– И весьма скверные слова, если вам интересно мое мнение, – невозмутимо отвечал мистер Дедал.
– Саймон! Саймон! – забеспокоился дядя Чарльз. – Ведь тут мальчик.
– Да-да, конечно, – нашелся мистер Дедал. – Я ведь это о чем… носильщик на станции говорил весьма скверные слова… Все в порядке, господа, все в порядке. Стивен, давай-ка свою тарелку, паренек. Вот, заправляйся как следует.
Он наложил Стивену полную тарелку, а потом дяде Чарльзу и мистеру Кейси тоже положил по большому куску индейки с обильной порцией соуса. Миссис Дедал ела совсем мало, а Дэнти сидела, сложив руки на коленях, и лицо у нее было красное. Мистер Дедал принялся разрезать то, что было еще на блюде, а потом объявил:
– А вот самый лакомый кусочек, который зовется папский нос! Кто из дам и господ желает…
Он поднял перед собой кусок дичи на вилке. Никто не отозвался. Тогда он положил кусок на свою тарелку со словами:
– Ну что ж, мое дело предложить. Съем-ка я сам его, как-то я последнее время не в форме.
Подмигнув Стивену и закрыв блюдо крышкой, он снова принялся за еду.
Пока он ел, царило молчание. Потом он заговорил:
– Что же, день-то был славный, в конце концов. И в городе приезжих целые толпы.
Никто не отозвался. Он продолжал:
– Приезжих было больше, пожалуй, чем на прошлое Рождество.
Он поглядел вокруг, но у всех сидящих лица были уткнуты в тарелки. Ответа ему не последовало. Выждав минуту, он проговорил в сердцах:
– Испортили-таки мне рождественский ужин!
– Не может быть ни счастья, ни благодати, – сказала Дэнти, – в том доме, где нет почтения к пастырям.
Мистер Дедал с шумом швырнул на свою тарелку вилку и нож.
– Почтение! Это что, к Билли-губошлепу или к бочке с потрохами из Армаха? Почтение!
– Князья церкви! – процедил презрительно мистер Кейси.
– Ага, как конюх лорда Лейтрима, – добавил мистер Дедал.
– Они Божии помазанники, – сказала Дэнти. – Они честь нации.
– Бочка с потрохами, – произнес резко мистер Дедал. – Когда почивает, вы скажете – красавчик. Надо вам видеть, как этот гусь лопает свинину с капустой в зимний денек. Картинка!
Он скорчил на лице грубую тупую гримасу и зачавкал громко губами.
– Правда, Саймон, – сказала миссис Дедал, – при Стивене ты не должен так говорить. Это нехорошо.
– О, когда он вырастет, он припомнит все это, – с жаром вмешалась Дэнти, – припомнит все речи против Бога, и против религии, и против священников, что он наслушался в своем доме.
– И пусть еще он припомнит, – крикнул ей мистер Кейси через стол, – те речи, которыми священники и их шавки клеймили и загоняли в гроб Парнелла. Пусть он это тоже припомнит, когда вырастет.
– Сукины дети! – вскричал и мистер Дедал. – Едва он попал в беду, они его тут же предали, как крысы из помойки набросились. Подлые псы! Да они и смахивают на псов, я божусь!
– Они правильно поступили, – кричала Дэнти. – Они были послушны своим епископам и священникам. Честь и хвала им!
– Но это просто ужасно, – проговорила миссис Дедал, – даже такой единственный день в году не может у нас быть без этих ужасных споров.
Дядя Чарльз мягким жестом поднял вверх руки и сказал:
– Ну послушайте же, послушайте! Неужели мы все не можем высказывать свои взгляды, какие бы они ни были, не выходя из себя, не ругаясь. Это же так плохо.
Миссис Дедал заговорила тихим голосом с Дэнти, но Дэнти громко отрезала:
– Нет уж, я не стану молчать. Когда вероотступники оплевывают и поносят религию и церковь, я буду защищать их.
Тут мистер Кейси резко оттолкнул свою тарелку на середину стола и, поставив на стол локти, хрипловатым голосом обратился к хозяину:
– Скажите-ка, а я вам не рассказывал историю про самый знаменитый плевок?
– Да нет, Джон, – ответил мистер Дедал.
– Ну как же, – продолжал мистер Кейси, – весьма поучительная история. Случилось это не слишком давно в том самом графстве Уиклоу, где мы ныне находимся.
Тут он остановился и, обернувшись к Дэнти, со сдержанным возмущением произнес: