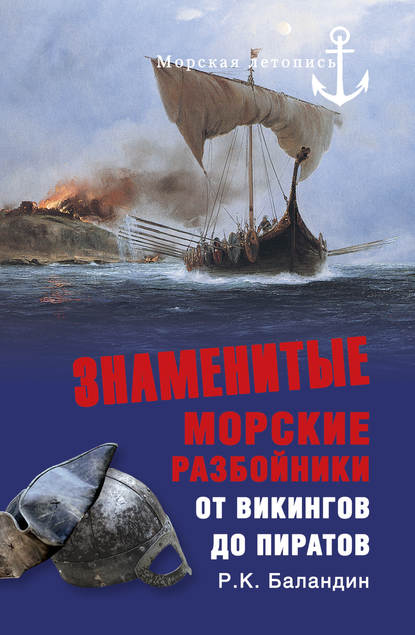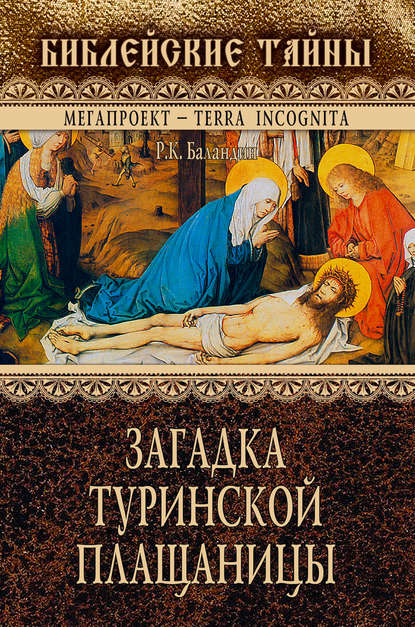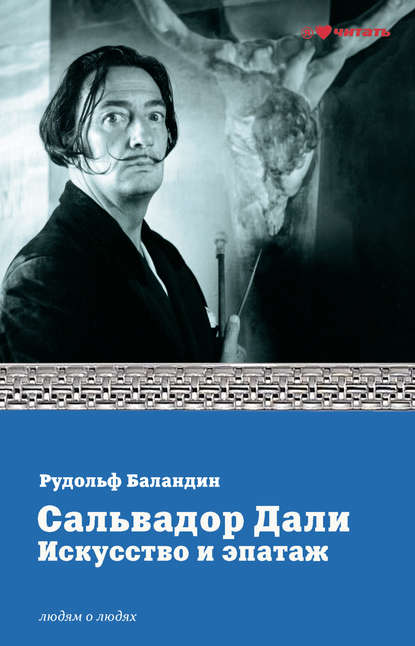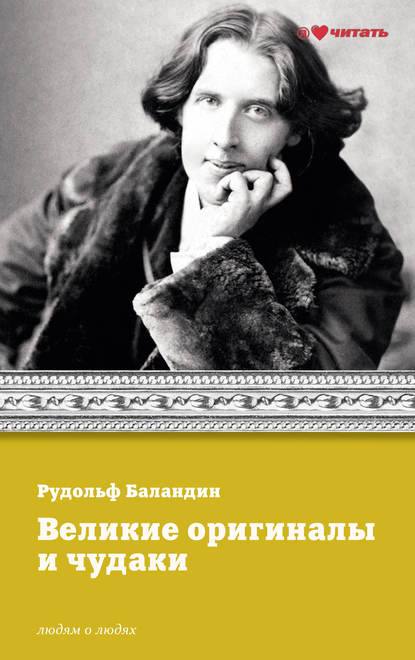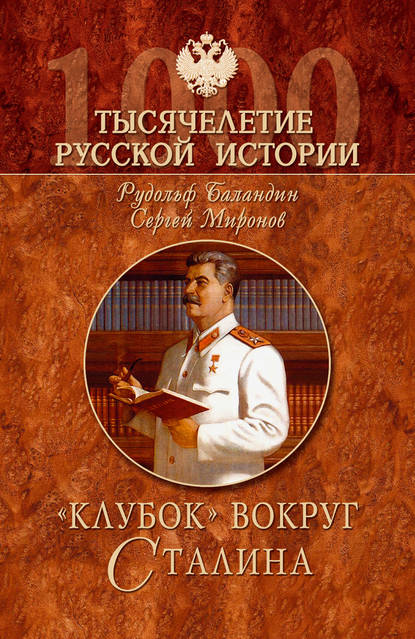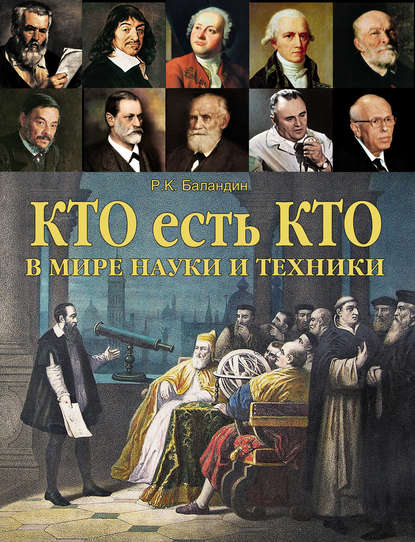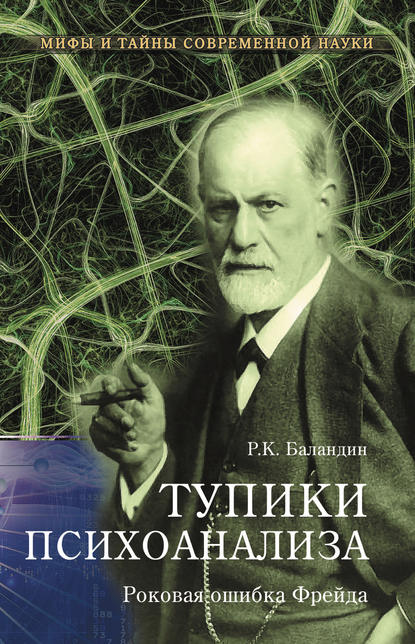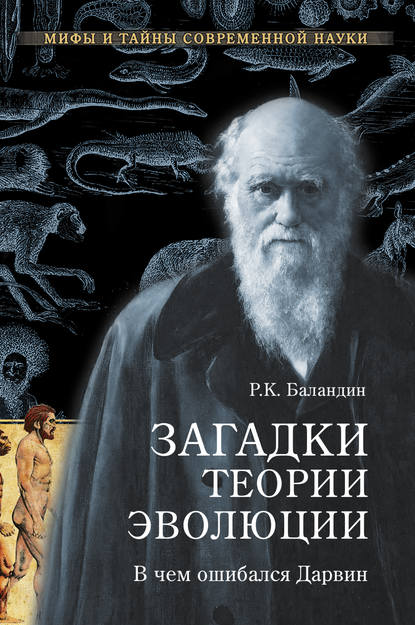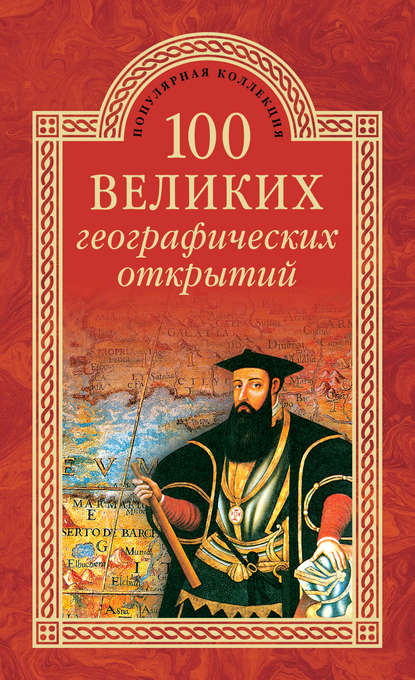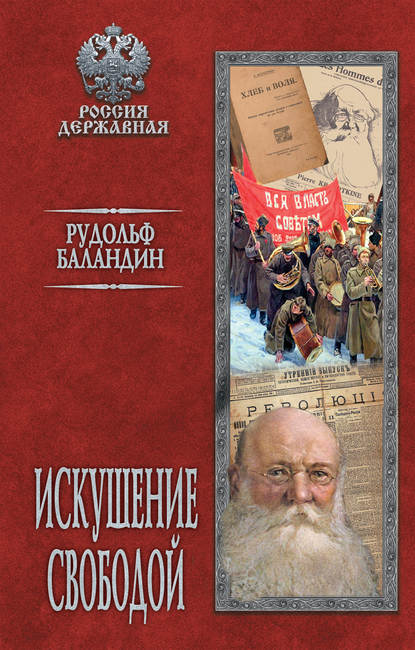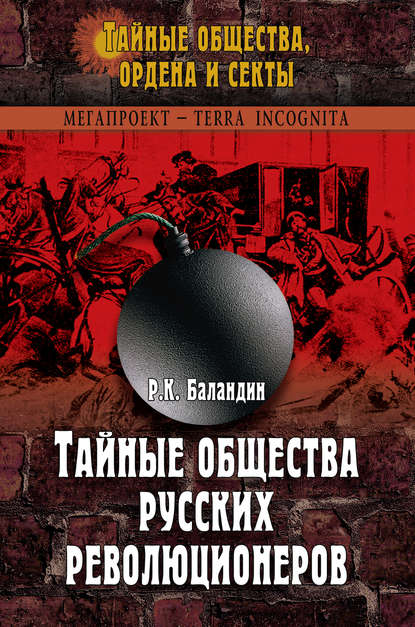
Полная версия
Тайные общества русских революционеров
Но если велико было внутреннее возмущение крепостных и работных людей своим бесправным положением, то почему же не превратилось пугачевское восстание в полноценную революцию, подобно тому, что произошло во Франции? Там ведь тоже все начиналось со смуты, огромного числа нищих и обездоленных, отдельных бунтов.
Советская историософия давала этому такое объяснение. «Трагедией восставшего крестьянства было то, – писал М.Т. Белявский, – что, поднявшись на борьбу, героически сражаясь со своими угнетателями, оно не могло противопоставить самодержавно-крепостническому строю новый общественный строй. Восстание, несмотря на размах, как и прежние выступления народных масс, было стихийным – восставшие не имели ясной политической программы борьбы и могли лишь противопоставить “плохой дворянской царице” Екатерине II “хорошего”, “доброго” царя».
Такое объяснение трудно считать убедительным. Как мы видели на примере некоторых указов Пугачева, у него достаточно ясно очерчивалась политическая программа установления монархически-анархического государства. По тем временам, учитывая особенности общественного сознания, это была вполне разумная и реалистическая идея. Поставить во главе государства «крестьянского царя» – разве этого мало?
Для России того времени это была, можно сказать, программа-максимум. Кстати, и французы не выступали за коммунистические идеалы. Лозунг «Свобода, равенство, братство» вполне подходил не только для масонских лож и французских революционеров, но и для русских мужиков, которые пошли за Емельяном Ивановичем Пугачевым. То, что у них, мужиков, такие слова не были в обиходе, ничего принципиально не меняет. Русский вариант можно сформулировать так: «Воля, Справедливость, Братство». Суть остается все той же.
Во Франции большинству крестьян жилось не лучше, чем в России (и это несмотря на то что там природные условия несравненно благоприятнее для сельского хозяйства, чем у нас). Вот что писал об этом П.А. Кропоткин в книге «Великая французская революция»:
«Бедственное положение громадного большинства французского крестьянства было, несомненно, ужасно. Оно, не переставая, ухудшалось с самого начала царствования Людовика XIV, по мере того, как росли государственные расходы, а роскошь помещиков принимала утонченный и сумасбродный характер, на который ясно указывают некоторые мемуары того времени. Особенно невыносимыми делались требования помещиков оттого, что значительная часть аристократии была, в сущности, разорена, а потому старалась выжать из крестьян как можно больше дохода…
Через посредство своих управляющих дворяне обращались с крестьянами с суровостью настоящих ростовщиков. Обеднение дворянства превратило дворян в их отношениях с бывшими крепостными в настоящих буржуа, жадных до денег, но вместе с тем не способных найти какие-нибудь другие источники дохода, кроме эксплуатации старых привилегий – остатков феодальной эпохи…
Крестьянские массы разорялись. С каждым годом их существование становилось все более и более неустойчивым; малейшая засуха вела к недороду и голоду. Но рядом с этим создавался – особенно там, где раздробление дворянских имений шло быстрее, – новый класс отдельных зажиточных крестьян… В деревнях появились деревенские буржуа, крестьяне побогаче, и именно они перед революцией стали первые протестовать против феодальных платежей и требовать их уничтожения… Накануне революции именно благодаря им, крестьянам, занимавшим видное положение в деревне, надежда стала проникать в села и стал назревать бунтарский дух… И нужно сказать, что если отчаяние и нищета толкали народ к бунту, то надежда на улучшение вела его к революции».
Приведена эта большая цитата потому, что Петр Алексеевич, заставший крепостное время в России, писал, одновременно имея в виду не только Францию, но и свое Отечество. Хотя к началу ХIХ века не образовалась еще в России значительная прослойка «кулаков», деревенских аналогов буржуа, а так называемый третий класс и пролетариат находились если не в зачаточном, то в младенческом состоянии.
С XVI века во всех развитых государствах значительный удельный вес обрели горожане, а их роль в управлении страной и государственными переворотами становилась решающей. Недаром такое символическое значение обрел факт захвата в Париже Бастилии.
За Пугачева была крестьянская, фабрично-заводская, городская беднота – массы, не имевшие единого идейного стержня и сколько-нибудь определенной организованности. Была бушующая стихия, но отсутствовала целеустремленная направленность на революционный переворот, который можно свершить только там, где находится правительство. Требуется кинжальный удар в центр управления страной, чтобы парализовать действие государственной машины, точнее сказать, органов управления государством.
Подобной возможности у пугачевского восстания не было. Вот если бы восстание декабристов 1825 года совпало по времени с народными волнениями типа пугачевщины, тогда еще могло бы свершиться нечто подобное Великой французской революции. Государственный переворот должен происходить на фоне большой смуты, только в таком случае он станет революционным.
Смятение умов
Для буржуазной революции необходима достаточно крепкая и претендующая на власть буржуазия; для пролетарской революции требуется как минимум немалое количество пролетариев. А вот крестьянские революции, несмотря на огромное количество земледельцев и скотоводов во всех странах (во всяком случае, до XX века), так и не свершились. Постоянно вспыхивали крестьянские восстания и бунты, переходящие порой в крестьянские войны. Но последний шаг – к победоносной крестьянской революции – так и не был сделан.
Пример Франции в этом отношении красноречив. Ведь уже «блестящее» царствование Людовика XIV привело к тому, что начались бунты, которые продолжались практически во все время правления следующего Людовика и особенно обострились после неурожайного 1774 года. Позже, при улучшении урожаев, волнения пошли на спад, но не прекратились. Так что смута продолжалась достаточно долго и Великая революция стала, по существу, ее переходом на новый уровень. Без этих бунтов она бы не свершилась. Но и без государственного переворота, который произошел в Париже, волнения народа были бы в конце концов подавлены если не силой оружия, то благодаря либеральным реформам.
Когда в России в середине XIX века стала назревать революционная ситуация, царское правительство сумело ее преодолеть без серьезных социальных потрясений, путем реформ. Эта мера помогла избежать крупных народных волнений, но революционные идеи проникали в российское общество не снизу, а сверху, из среды наиболее просвещенных граждан. Дело тут не столько в тex или иных политических группировках и партиях, а в том, что не народ, а именно наиболее просвещенные граждане в большинстве своем были настроены против самодержавия. Одни мечтали его ограничить парламентом, другие выступали за парламентскую республику, третьи – за полное свержение существующего государственного строя.
В этих условиях едва ли не самыми консервативными социальными слоями были, помимо небольшой правящей прослойки, крестьяне. Революционные идеи находили отклик в умах наиболее образованных рабочих.
В своих замечательных «Записках революционера» П.А. Кропоткин свидетельствовал, что ему приходилось с большой опаской подводить сезонных рабочих, среди которых он вел народническую пропаганду, к мысли о возможности свержения царской власти. Приходилось делать упор главным образом на просветительские беседы, одновременно переходя на социальные темы. Среди квалифицированных заводских рабочих делать этого не требовалось, потому что они неплохо разбирались в политэкономии и революционных идеях.
Как о типичном эпизоде Кропоткин рассказал о случае с народником Сергеем Кравчинским. Он и его товарищ, идя по дороге, попытались завести с нагнавшим их мужиком на дровнях разговор о тяжких податях, произволе чиновников и необходимости бунта. Мужик стал погонять лошаденку, агитаторы поспешили за ним, продолжая толковать о податях и бунтах, пока мужик не стал стегать лошадь, чтобы она вскачь умчала его от народников.
Кстати сказать, и Кропоткина выдал жандармам кто-то из рабочих-ткачей, среди которых он вел пропаганду. Никаких решительных выступлений рабочего класса таким путем добиться не удалось.
Еще один вид деятельности революционеров – террористические акты – тоже оказался бесполезным. Идеологи таких акций (хотя и не всегда – исполнители) понимали: таким образом невозможно запугать, а тем более свергнуть существующий строй. Однако можно было добиться ответных репрессивных действий правительства, ужесточения режима, а значит, и более благоприятной революционной ситуации.
Ужесточения режима они добились после убийства Александра II и смещения в результате «бархатного диктатора» Лорис-Меликова, относительного либерала. Но революционная ситуация от этого не возникла. Потому что никакой смуты тогда в России не было: страна была стабильной и развивающейся.
…В 1924 году талантливый человек и большой фантазер А.Л. Чижевский издал книгу «Физические факторы исторического прогресса», в которой попытался доказать, что революционные и другие социальные возмущения возникают в периоды повышения солнечной активности. Для России такое совпадение пришлось на 1905 и 1917 годы, причем в первом случае число солнечных пятен было меньше, чем во втором, в соответствии с интенсивностью революционных потрясений.
Некоторые интеллектуалы и сейчас верят в подобную зависимость социальных катастроф от активности Солнца или «парада планет» (когда они выстраиваются примерно в одной плоскости). Как писал Чижевский:
И вновь, и вновь взошли на Солнце пятнаИ омрачились трезвые умы,И пал престол, и были неотвратныГолодный мор и ужасы чумы…И жизни лик подернулся гримасой:Метался компас – буйствовал народ,А над землей и над людскою массойСвершало Солнце свой законный ход…Однако в действительности еще более мощные, чем в 1917 году, вспышки солнечной активности были в 1780, 1789, 1837, 1847, 1870 годах. Но почему-то в эти годы никакой революции в России не произошло. Да и самая большая всеобщая «смута» начала XX века приходится, пожалуй, на 1914 год, когда вспыхнула Первая мировая война. Без нее не только европейская, но и мировая история сложилась бы иначе. И неизвестно, что произошло бы тогда с нашей страной.
Не космические факторы, а состояние общества, смута и на ее фоне государственный переворот являются обязательными признаками подлинной революции. Но смутное время не наступает само собой, подобно очередному времени года. Оно имеет немалую предысторию, подготовительный, скрытный (инкубационный) период.
В любом обществе, государстве со временем вырабатываются «противоядия», препятствующие наступлению смуты. Это прежде всего – традиции, внедренные в сознание масс установки на стабильное существование, на утверждение законности и блага именно существующего общественного устройства. Об этом феномене следует поговорить особо.
Пошатнувшаяся установка
В индивидуальной психологии есть понятие установки. Это нечто подобное эмоциональной предрасположенности, предвзятости, готовности к определенным реакциям в соответствующих обстоятельствах. Такая реакция вырабатывается в результате опыта, воспитания, образования, полученных знаний, под влиянием внешней среды или неосознанных внутренних психических процессов.
В простейшем и наглядном виде установку внедряют животным при дрессировке, и они ее выполняют в нужный момент по запрограммированному сигналу. Можно вспомнить также эксперименты, проводимые И.П. Павловым на собаках.
Человек способен выработать установку самостоятельно и вполне сознательно. Однако в дальнейшем она может закрепиться на более глубоком подсознательном уровне и проявляться вне зависимости от рассудка. Для этого она должна периодически подкрепляться. Так действуют, например, влюбленные, которые преподносят предмету своей страсти подарки и говорят комплименты. При постоянном повторении такого рефлекса (появление данного человека – подарок – удовольствие от подарка) через некоторый срок предмет любви может испытывать удовольствие уже при встрече с данным субъектом. Возможно, такой способ ухаживания, увенчанный успехом, породил известную поговорку: «Любовь зла, полюбишь и козла».
Шутки шутками, а в политической жизни установка играет немалую роль. Например, когда после Великой Отечественной войны снижались цены (а до нее – увеличивалось благосостояние советского народа), это серьезно укрепляло авторитет Сталина и установку на признание его великим вождем и отцом народа. Дело тут не просто в задабривании населения, а в подтверждении верности взятого им политического курса, в реальности и честности его обещаний.
Правда, со времен горбачевской «перестройки» в общественное сознание стали вколачивать мысль, будто замечательные успехи советского народа в труде и в боях объясняются… животным страхом сталинских репрессий, что «стройки коммунизма» возводили главным образом заключенные, а в атаки против гитлеровцев шли либо штрафные батальоны, либо подневольные бойцы, подгоняемые сзади заградительными отрядами.
Увы, подобные бредовые для здравого ума идеи не только пропагандировались, но и находили благоприятную почву в умах немалого числа служащих, интеллигентов. Им даже не приходило в голову, что число работавших заключенных составляло ничтожную долю от числа всех трудящихся (один-два человека на сотню), «штрафников» – еще в десять или сто раз меньше. Но главное, пожалуй, другое.
В нашей стране появилось немало граждан, которым трудно было поверить, что возможен подлинный трудовой энтузиазм, а также подлинный героизм в войне. Это скептики, циники, приспособленцы и лицемеры, не способные не только на героические, но и просто на достойные поступки. Опошление героического прошлого, да еще своего собственного народа, своих действительно героических недавних, а отчасти еще живущих предков – показатель глубокой духовной эрозии, нравственной деградации. У такого народа не может быть достойного будущего.
Увы, такую установку вырабатывали долго и упорно внешние и внутренние враги СССР. И когда Хрущев выступил с докладом, ниспровергающим культ Сталина, это был удар колоссальной силы по сложившейся идеологии. В данном случае совершенно не важно, насколько справедливы или несправедливы были обвинения Хрущева в адрес недавнего вождя, которому он сам пел дифирамбы. Не имеет существенного значения и то, в какой степени был оправдан культ личности Сталина. Важно, что восхищение вождем и доверие к нему культивировались годами и подтверждались замечательными достижениями страны, а затем еще победой в Великой Отечественной войне. Это было чувство, укоренившееся в подсознании миллионов граждан как четкая установка. Она в значительной степени содействовала единению людей и признанию коммунистической идеологии в массах.
Эта установка основательно пошатнулась после выступления Хрущева на XX съезде партии. С этого времени начался идейный разброд. А все приспособленцы и лицемеры, вступившие в партию из-за карьерных соображений, получили подкрепление своим самым низменным устремлениям и оправдание подлости своей и лжи.
В общественной жизни феномен коллективного подсознания играет существенную, порой решающую роль. Комплекс установок обеспечивает общественную стабильность. Крушение установки – подрывает ее, содействует наступлению смутного времени разброда и шатаний.
Для России конца XIX века такой устойчивой официальной идеологической установкой продолжала быть триада: «Самодержавие, Православие, Народность». Ее укоренению содействовали экономические успехи страны в конце XIX века, во время правления Александра III. Индустриализация, расширение сети железных дорог, оживление торговли, а еще раньше, при Александре II, отмена крепостного права – все это подтверждало истинность идеологической установки. Безусловно, немалое количество демократически настроенных граждан стремились свергнуть или ограничить конституцией самодержавие; о революционерах и говорить нечего.
В народе было иначе. Самодержавие было освящено не только вековой традицией, но и авторитетом Православной церкви. К тому же русскому мужику, в массе своей необразованному и задавленному насущным нелегким трудом, было не до политических проблем – прокормить бы семью.
Правда, последнее десятилетие XIX века было омрачено страшным голодом в 1891 и 1892 годах. Затем началась эпидемия холеры в Поволжье и Прикаспии, сопровождавшаяся бунтами: расползся слух, будто врачи и фельдшеры специально морят народ по приказу высшего начальства. Но и при этом вера в царя сохранялась.
Александр III умер в 1894 году. На престол вступил его сын Николай II. В связи с этим земские деятели передали ему письмо, где, помимо изъявления верноподданнических чувств, высказывалась надежда на то, что будет предоставлено больше свободы печати, возможности «для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты престола могло достигать выражение потребности и мысли не одних только представителей администрации, но и народа русского».
Представители земства в отличие от царских чиновников были более или менее близки к народу. Например, во время голода они организовывали столовые для голодающих и санитарные пункты. Земцы понимали: обязанность царя – служить русскому народу (они так ему и написали), для чего необходимо лучше знать заботы, нужды, надежды простого люда.
Однако 19 января 1895 года на торжественном приеме Николай II дал суровую отповедь тем, кто надеялся на более тесное сближение самодержавия с народом и низшим дворянством, разночинцами, мелкими служащими, интеллигенцией. Он сказал:
«Мне известно, что в последнее время слышались голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я… буду охранять начало самодержавия так же твердо, как мой незабвенный покойный родитель».
Эти слова разочаровали многих из тех образованных и влиятельных людей, которые желали «косметических» изменений государственной системы главным образом для ослабления внутренних противоречий во избежание революции.
Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. А сейчас отметим, что в ХIХ веке наиболее радикально настроенными по отношению к существующей власти были сначала, в основном, представители дворянства, затем преимущественно разночинцы и лишь в конце столетия – представители рабочего класса. «Народ безмолвствовал», как писал А.С. Пушкин в «Борисе Годунове» (если учесть, что более 80 % жителей России были крестьянами).
Декабристы. Надклассовые корни революций
Их называют первыми русскими революционерами. В одних случаях это звучит как восторженная похвала, в других – как суровое порицание. Одни авторы изображают их как героев, подвижников, беззаветных борцов за свободу, равенство и братство; другие – как злодеев, покушавшихся на цареубийство и целостность Российской империи.
Олег Платонов в книге «Терновый венец России. История масонства. 1731–1995» сделал вывод: «Масонский заговор, получивший название декабристского, представлял собой серьезную угрозу для существования тысячелетнего русского государства… Социальной опорой декабризма служила некоторая часть правящего слоя и интеллигенции России, лишенная национального сознания и готовая пойти на погром национальных основ, традиций и идеалов». (Надо только уточнить, что в ту пору интеллигенции в России фактически не было.)
После Февральской буржуазной революции 1917 года, а особенно при советской власти декабристы были прославлены безоговорочно. Но и значительно раньше, еще со времен Александра Пушкина, отзывы о них были преимущественно восхищенные. Наш величайший поэт в стихотворении «Во глубине сибирских руд…» обратился к ним с оптимистической надеждой:
Оковы тяжкие падут,Темницы рухнут – и свободаВас примет радостно у входа,И братья меч вам отдадут.Однако, как бы ни относиться к декабристам, причислять их к революционерам допустимо с определенными оговорками. По сути, они оставались «царистами», использовав для своих целей соответствующий момент: передачу престола от «законного» наследника (великого князя Константина Павловича) к его младшему брату Николаю.
…О декабристах написано так много и по большей части основательно, что мы не станем вдаваться в детали этой темы. Отметим, что это были преимущественно офицеры, участвовавшие в войне против Наполеона. П.И. Пестель имел награды и золотую шпагу за храбрость. По признаниям многих участников этого движения, они восставали прежде всего против крепостного права. П.И. Борисов писал: «Несправедливости, насилия и угнетения помещиков, их крестьянам учиняемые, укрепили в моем уме революционные мысли».
И все-таки вряд ли кто-нибудь из них стал бы рисковать своей жизнью ради освобождения крестьян. Тем более что даже наивный человек отдавал себе отчет, насколько сложное и небыстрое мероприятие – упразднение крепостного права. По-видимому, к движению декабристов присоединялись дворяне по разным причинам: от самых благородных, возбужденных призывами Великой французской революции к свободе, равенству и братству, а также вдохновенной «Марсельезой», до стремления к славе и власти, склонности к авантюрам. Вдобавок революционные идеи, можно сказать, вошли в моду. По словам Пестеля: «Нынешний век ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противуположностей. То же самое зрелище представляет и Америка. Дух преобразования заставляет… везде умы клокотать».
В феврале 1816 года возникло первое тайное общество молодых гвардейских офицеров – «Союз спасения». Инициаторами были братья С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы, А.Н. и Н.М. Муравьевы, И.Д. Якушкин, С.П. Трубецкой. В конце года к ним примкнул Пестель. Под его влиянием общество обрело более определенный устав и стало называться «Обществом истинных и верных сынов Отечества». Прием в него был ограниченным: только из среды офицеров гвардии и Генерального штаба (то есть наиболее образованные и независимые). Предполагалось в момент передачи власти новому царю отказаться ему присягать, если он не провозгласит конституционное правление.
Тем временем произошла кровавая расправа над крестьянами Новгородской губернии, бунтовавшими из-за перевода их в аракчеевские военные поселения. Были волнения в воинских частях. Распространился слух: Александр I секретно обсуждает проект дарования Польше конституции и присоединения к ней некоторых русских земель (что и произошло). При таких обстоятельствах у некоторых членов тайного общества возникла мысль совершить цареубийство и дворцовый переворот. Застрелить царя был готов И.Д. Якушкин.
По мнению Олега Платонова, от этой затеи пришлось отказаться якобы из-за того, что стрелявший наверняка будет убит. В действительности Якушкин предполагал, убив царя, тут же застрелиться. На это у него были причины сугубо личные. Он и без того не раз хотел совершить самоубийство из-за несчастной любви. Так что отказались декабристы от цареубийства главным образом потому, что многие из них не были сторонниками столь радикальных и жестоких мер. Да и результаты их виделись неутешительными.
Кстати, как позже вспоминал Н.М. Муравьев: «Через несколько лет после этого Якушкин преодолел страсть свою, женился на другой особе, оставил общество совершенно и ведет жизнь самую уединенную в деревне, занимаясь своим семейством и хозяйством». (Как видим, пламенные революционные порывы могут определяться и обстоятельствами сугубо личными, даже несчастной любовью.)
В январе 1818 года в Москве на основе ликвидированного «Союза спасения» создали «Союз благоденствия». Уже само название показывало некоторую смену идеологической установки. Теперь предполагалось выработать основательную программу действий и желаемых результатов, а также влиять на формирование общественного мнения, подготавливая грядущие преобразования.
Для этих целей был расширен состав членов общества до двухсот человек. Всем им предписывалось – что вообще характерно для масонских лож – прилагать усилия для того, чтобы занимать ответственные посты в правительственных учреждениях, участвовать в благотворительных и просветительских мероприятиях, создавать литературные кружки и т. п. Все это было возможным еще и потому, что большинство будущих декабристов состояли в масонских ложах. По такой же причине эти люди были приучены к конспирации. Их революционная организация тоже выстраивалась по канонам масонства. Так, «Союз спасения» предполагал три степени «посвящения»: братия, мужи и бояре. При вступлении и при переходе на новую ступень давали торжественные клятвы.
В «Союзе благоденствия» определились две основные группы: умеренных, ориентированных только на пропаганду, и радикальных, убежденных республиканцев и сторонников революционных действий. Последних возглавлял Пестель (он был столь яростным противником самодержавия, что предлагал казнить всю царскую семью). Для тайной организации такое разногласие было опасным. В январе 1821 года «Союз благоденствия» был распущен. На его основе возникло два взаимосвязанных общества: «Северное» в Петербурге и «Южное» на Украине. Первое возглавлял Н.М. Муравьев, а второе П.И. Пестель. Они составили две программы революционных преобразований: Муравьев – «Конституцию», Пестель – «Русскую правду» (см. Приложение).