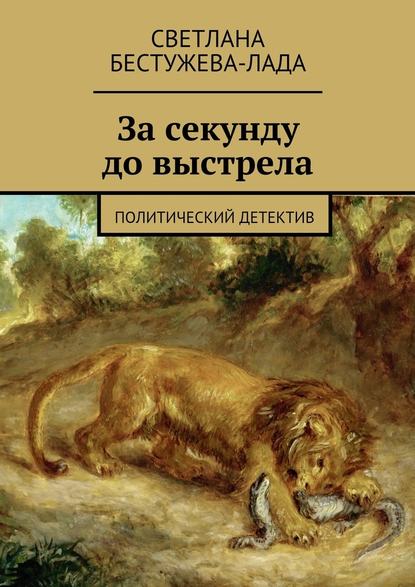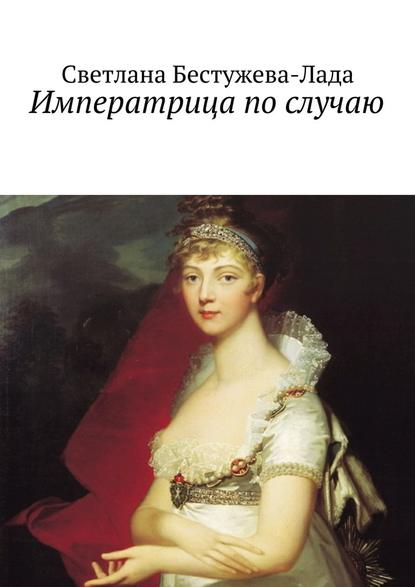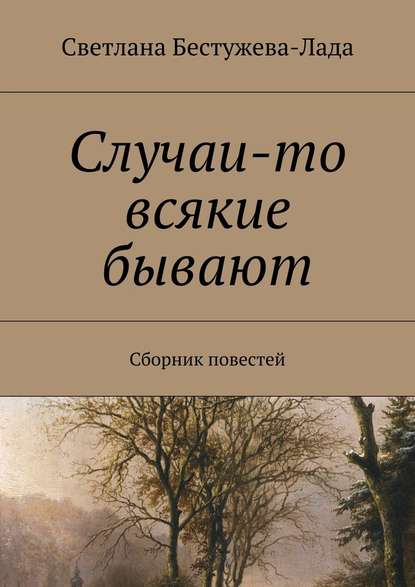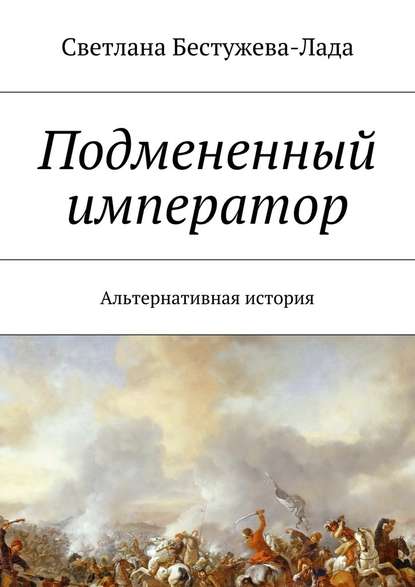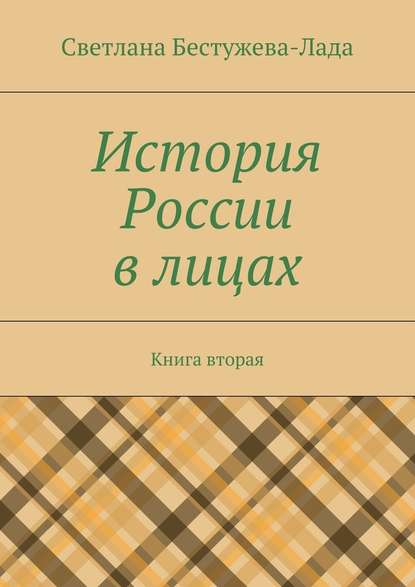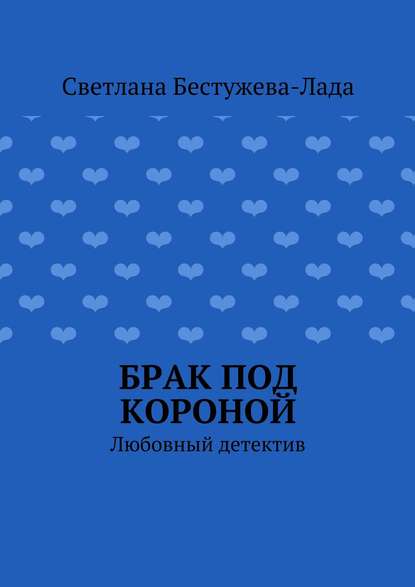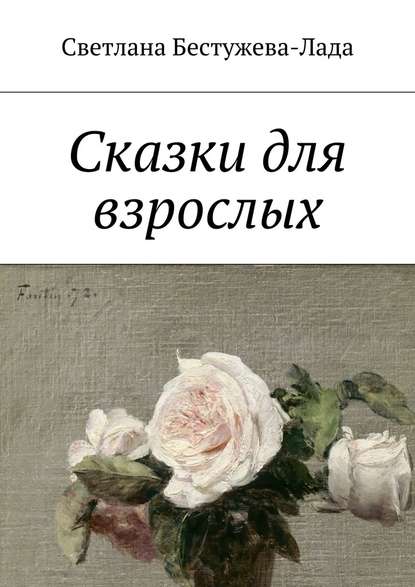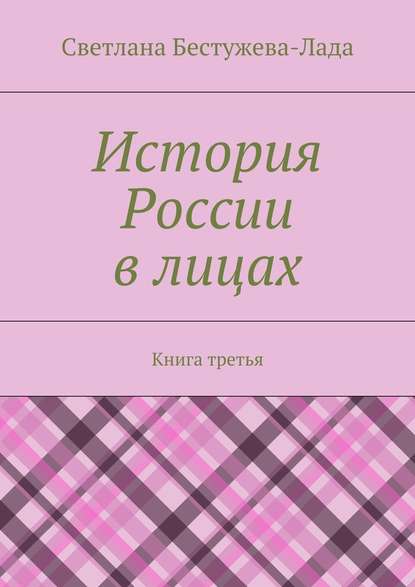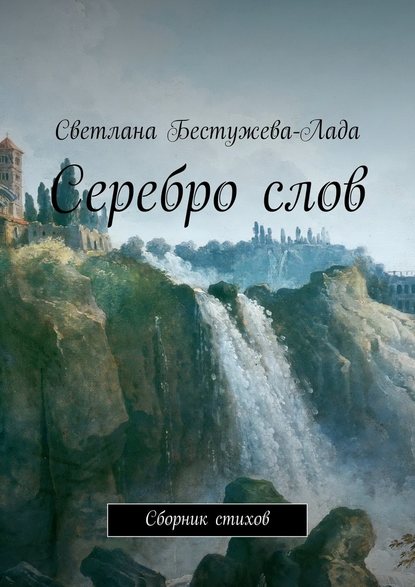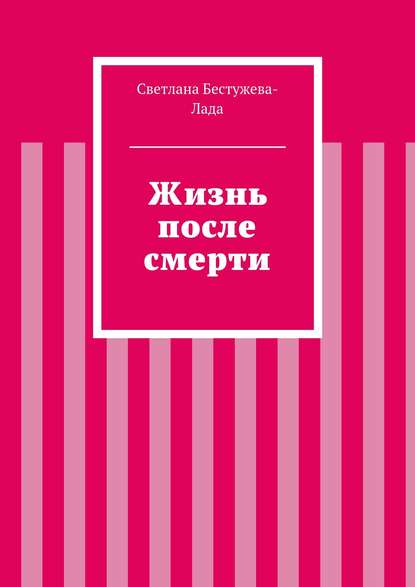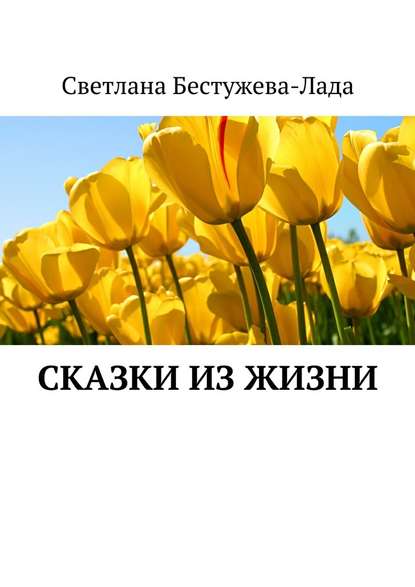
Полная версия
Сказки из жизни
Справедливости ради, нужно сказать, что отца Андрей вообще почти не видел: тот был слишком занят либо работой, либо – реже – светскими мероприятиями, на которых появлялся исключительно с супругой. Но сына по-своему любил, детскую спланировал сам, учитывая все современные пожелания медицины и дизайна, и даже собственноручно чертил эскизы кубиков и конструкторов, которыми впоследствии предстояло играть Андрюше. Естественно, будущему архитектору, ибо династия Лодзиевских – архитекторов в пяти поколениях – прерваться не могла ни при каких условиях.
Какие-то отношения у отца с сыном завязались лишь тогда, когда с мальчиком стало возможно разговаривать на «профессиональные» темы. Со свойственной ему пунктуальностью, Андрей Анатольевич каждое субботнее утро два часа отводил на прогулки с мальчиком по Москве, демонстрируя ему наиболее интересные здания и попутно объясняя, чем они хороши, а чем плохи. С младых ногтей Андрюша четко усвоил истину: в Москве очень много плохих домов, потому что у папы нет времени построить много хороших. А вот те, что строил папа…
Много позже уже совсем взрослый Андрей узнал, что папа строил не только то, что могли видеть все, хотели они этого или нет. Он проектировал и особняки для элиты, которых тогда было очень немного, но все отличались отменным вкусом и изысканностью. Иметь дом «от Лодзиевского» было так же престижно, как теперь – замок где-нибудь за рубежом.
Зато и влетало это заказчику в копеечку, о чем, конечно, компетентные люди знали, но молчали. В элитных особняках, по странному совпадению, селились не обыкновенные строители развитого социализма и даже не знаменитые ученые. Связываться с такой публикой негласно не рекомендовалось.
Сам же Лодзиевский уже после женитьбы и рождения ребенка получил разрешение переоборудовать последний, «технический» этаж дома, в котором проживал, в жилое помещение типа мансарды. Вот в этой-то мансарде и был сооружен зал для приемов со стеклянным потолком, мастерская самого Андрея Анатольевича, «малая гостиная», размером с хоккейное поле и парадная столовая тех же габаритов. Последние два помещения были под официальным патронажем хозяйки дома, но на самом деле роль ее и там была чисто декоративной. Просто украшение. Еще одна драгоценность из многочисленных сокровищ архитектора Лодзиевского.
Аделаида никогда близко не подходила к плите, понятия не имела, сколько стоят в магазине хлеб и молоко, не говоря уже о более серьезных продуктах, считала, что уборка в квартире происходит как-то сама по себе. После того, как на ее руке появилось обручальное кольцо, она очень быстро забыла о том, что существует общественный транспорт, районная поликлиника и еще какие-то бытовые учреждения.
Чуть менее быстро она забыла о том, что ее мать по-прежнему живет в предназначенном на снос доме на нищенскую зарплату. И не потому, что была злая или бессердечная, просто сама мать не слишком охотно посещала «волшебный замок», в который попала ее дочь. Зять, старше ее лет на двадцать пять, был с еще молодой тещей так подчеркнуто учтив, так безукоризненно вежлив, что от всего этого можно было свихнуться.
Чтобы этого не произошло, а также, чтобы совсем оторвать Аду от не слишком респектабельных корней, Андрей Анатольевич купил любимой теще добротный дом в ее родном провинциальном городишке и положил на счет в сберкассе солидную сумму денег. После чего отправил родственницу осваиваться на новое место жительства и напрочь забыл о ее существовании. А у Адочки было слишком много других, куда более интересных занятий, чем вести активную переписку с матерью. Так все и заглохло само по себе.
Через несколько лет после рождения сына, окончательно убедившись в том, что так называемая «интимная жизнь» – это редкие и не очень приятные моменты в супружеской постели, слишком гордая и высокомерная, чтобы унизиться до адюльтера, Аделаида, ставшая к этому времени настоящей светской дамой и признанной московской красавицей, решила самовыражаться в творчестве. Не зря же в свое время пыталась поступить в Суриковское.
Но теперь все было иначе. Никто не говорил, что ее работам не хватает таланта и самобытности, наоборот, приглашенные любящим супругам преподаватели изо всех сил лелеяли и пестовали все-таки обнаруженную самобытность. Аделаида начала с акварели, вызывавших у ее мужа неподдельное умиление, но… Сама она понимала, что это – не ее, что акварели пишут все, и почти все – одинаково плохо. Нужно было найти что-то свое, особенное, чего никто не делал или хотя бы не делал так, как будет делать она.
От занятий традиционной живописью маслом сама Ада отказалась довольно быстро, кроме того, и потому, что узнала: талантливых художниц во всем мире можно пересчитать по пальцам (что странно, но верно), и быстро сообразила, что тут ей никак не преуспеть. К тому же краски пахли и пачкались, портили руки и тщательно сделанный маникюр, вызывали головную боль.
Какое-то время она занималась вышивкой. Это у нее получалось неплохо, даже иногда красиво, но казалось ей самой мещанством и банальностью. К тому же от нудного и кропотливого подсчета клеточек и крестиков тоже начинала болеть голова, техника глади требовала предельного внимания к тому, чтобы все стежки были абсолютно одинаковы по длине, а уж более сложная техника вообще выводила из терпения. Так что все ограничилось парой диванных подушек для кабинета мужа, да нагрудничками для Андрюши.
Себя в творчестве Ада нашла случайно и довольно поздно: Андрюша уже ходил в школу. Как-то в совершенно пустой вечер она зашла к сыну и обнаружила, что он выполняет домашнее задание: лепит из пластилина какого-то зверька. Скуки ради Ада составила сыну компанию, а поскольку думала совершенно о другом, то и вылепленная ею фигурка оказалась «не мышонком, не лягушкой, а неведомой зверюшкой» – каким-то крылатым львом или волком с крыльями. Но впечатление, несомненно, производило.
Кроме того, Ада обнаружила, что лепить – очень легко, и после двух-трех пробных сеансов уже совершенно спокойно создавала любую форму: от человеческой фигурки с соблюдением всех пропорций, до причудливой формы вазочки.
Когда о новом увлечении узнал супруг, то немедленно выписал из-за границы специальный материал для лепки и снабдил супругу довольно солидной библиотекой по технике создания» малых форм». Правда, супруга не посвятила этому жизнь, а рассматривала, в основном, как хобби, но время от времени не без удовольствия создавала какую-нибудь очередную безделушку…
– Прости, Андрюша, меня отвлекли от разговора с тобой, – услышал он рядом голос Ивана Ивановича. – На чем мы остановились?
– На том, что мама сказала странную фразу.
– Ах, да! Она сказала: «Наверное, я чего-то вовремя не узнала…»
– Действительно, странно. Как вы думаете, что она могла иметь в виду?
– Представления не имею. Да, кстати, я узнал, что здесь должна быть знаменитая мадам Дарси, ее творения все больше входят в моду. Красивая женщина, черт побери, а походка-то, походка… Королева! Что с тобой?
Бокал выпал из рук Андрея и с легким звоном разлетелся вдребезги на гладком мраморном полу.
Глава вторая. Комната Синей Бороды
Андрей проснулся, словно от толчка, и обвел глазами утопающую в полумраке комнату. Скоро рассвет, вон уже птицы начали распеваться. А на подушке рядом с его – милая, родная, черноволосая головка, длиннющие ресницы лежат на смуглых, чуть впавших щеках, дыхание чуть слышно. Когда она спит, то по-прежнему похожа на примерную маленькую девочку. На куклу из «запретной комнаты»…
Такой куклы Андрюша никогда не видел, хотя, естественно, к подобного рода игрушкам особо и не приглядывался. Но это было нечто. Даже не сказочная Кукла наследника Тутти, а что-то еще более прекрасное, заманчивое и изысканное. Ростом с годовалого ребенка, иссиня-черные волосы уложены тугими локонами по обе стороны смуглого, продолговатого, а не кукольно-круглого лица, розовые губки сложены в чуть ироничную гримаску.
Кукла появилась в спальне матери где-то спустя неделю после смерти отца. Это было тем более удивительно, что к подобному «мещанству» Аделаида всегда относилась с огромным презрением и всякие вазочки-статуэточки-салфеточки не жаловала, тем более в своей «святая святых» – спальне. А тут в кресле в углу, возле балконной двери, сидела эта то ли фарфоровая, то ли восковая красотка и глядела на окружающий мир из-под длинных ресниц хитрыми зелеными глазами. И одета была не по кукольному, а так, как одевались дамы времен Наполеона: прямое платье-хитон зеленого цвета и газовая накидка того же оттенка с золотой нитью.
– Это что за чудо в перьях? – изумился тогда Андрей, протягивая руку.
– Лучше не трогай, – спокойно отозвалась Ада, расчесывая у туалетного столика длинные, густые волосы. – Этой игрушке сто лет в обед, как она до сих пор уцелела, не понимаю.
– Это твоя кукла?
– Теперь моя, – немного загадочно ответила Ада. – Но вообще-то раньше была куклой твоей бабушки Юзефы. А может быть, и куклой ее бабушки, судя по платью.
– Сколько же ей лет?
– Думаю, не меньше ста пятидесяти. А то и побольше.
– И где она была раньше?
– В запертой комнате, – все так же спокойно сообщила ему мать.
Андрей был, мягко говоря, потрясен. Запертая комната не отпиралась никогда. Все разговоры на эту тему отец пресекал с невероятной жесткостью, где держал ключ – никому не было известно. И вдруг мама приносит в свою спальню вещь из этой «комнаты Синей Бороды» и говорит об этом так безмятежно, как если бы взяла вазочку из гостиной.
– А что там еще есть? – замирающим голосом спросил Андрей.
Ада пожала плечами.
– Ничего интересного. Допотопная кровать с подушками и кружевами, сундук с какой-то рухлядью, фотографии…
– Какие фотографии? – с возрастающим любопытством допытывался Андрей.
Ада закончила расчесывать волосы, скрутила их в тугой узел и сделала свою обычную прическу. Вопроса сына она как бы не расслышала, из чего следовала: повторять бессмысленно, все равно смолчит или переведет разговор на другую тему. Характер своей матушки двенадцатилетний Андрей уже знал достаточно хорошо.
Поэтому тоже замолчал и еще раз хорошенько рассмотрел куклу. Сейчас она понравилась ему еще больше, хотя он сам на себя сердился: не девчонка же, чтобы позариться на такую игрушку. Но уж больно обаятельна была эта гостья из дальнего прошлого, и так манили к себе хитрые зеленые глаза… Можно было понять Аду, польстившуюся на такую красоту. В ее детстве, кажется, вообще приличных игрушек не было. А если и были, то до фарфоровой красавицы им далеко.
Присмотревшись, Андрей, достойный сын своего отца-архитектора, понял, что дело еще в пропорциях, которые придал кукле неизвестный, давно покойный мастер. Ведь, как ни странно это звучит, кукла, которая выполнялась в строгом соответствии с закономерностями строения человеческого тела, выглядит дисгармонично. Ее руки кажутся слишком длинными, а ноги слишком короткими. Ладони и ступни слишком массивными. А обычные куклы и не задумываются, как подобие человека в плане пропорций.
Тут же была явно другая концепция. В фарфоровой незнакомке были каким-то непостижимым образом синтезированы пропорции, присущие детям и взрослым, удивительно точно найдена некая «золотая середина» их сочетания. Плюс маленькие хитрости: шея и ноги длиннее, чем у нормального человека, а руки, наоборот, короче. Крохотные ладошки выглядят совершенно естественно, а ножки, обутые в золоченые туфельки на круто изогнутом каблуке, могли бы принадлежать китаянке. В целом же складывалось впечатление абсолютной красоты и гармонии.
– А что случилось с бабушкой Юзефой? – самостоятельно перевел разговор на другую тему Андрей. – Папа никогда о ней не говорил.
– Она умерла от тифа, когда он был еще маленьким, младше, чем ты сейчас. А потом его отец уехал с ним в Киев, и там умер. Это все что я знаю, сын. Твой папа не баловал меня рассказами о своих предках.
– Но почему? – искренне изумился Андрей. – И почему ты почти никогда не говоришь о своих родителях? Получается, что мы – какие-то марсиане, что ли…
– Ты начитался научной фантастики, Андрюша, – мягко, но с уже заметными металлическими нотками в голосе ответила Ада. – Мы, Лодзиевские, гордимся собственными успехами, а не заслугами предков. Твой отец был безумно талантливым и самобытным человеком, ему совершенно не обязательно было еще и кичиться своей родословной. А я… Если тебе интересно, то своего отца я вообще не помню, он умер очень скоро после моего рождения, а мама, твоя бабушка Елена, как тебе известно, живехонька-здоровехонька, копается в своем саду и шлет нам варенье с компотами. Я должна об этом всем рассказывать?
– А почему она к нам никогда не приезжает? Даже на похоронах папы ее не было?
– Она плохо переносит дальнюю дорогу, – уклончиво ответила Ада.
Не рассказывать же мальчишке, что она плохо переносила и зятя? Или что его бабушка Елена смотрелась бы белой вороной среди избранной публики на Новодевичьем кладбище и в парадном зале Дома архитектора, где устроили поминки? Такая родня Лодзиевским чести не делает.
– Ты сегодня снова будешь дома? – поинтересовался Андрей.
Мать взглянула на него остро и немного прохладно:
– Я же тебе сказала, что в той комнате ничего интересного нет. Одна рухлядь. И вообще отец запрещал…
– Но папы же нет уже…
– И ты решил, что теперь все дозволено? Нет, милый мой, ничего подобного. Во-первых, я дома буду не только сегодня, но почти целый месяц. Нет у меня настроения с кем-нибудь встречаться. А во-вторых, я постараюсь сохранить все, как при папе. Только разберу все бумаги, наведу порядок…
Андрей, в очередной раз подивившись прозорливости матери, кивнул и отправился по своим делам, точнее, в свою комнату, к книгам, магнитофону и прочим занятиям. Он редко делал что-нибудь только потому, что это было запрещено, да и «старая рухлядь» его не больно манила. А кукла… Что ж, он ведь не девчонка, чтобы любоваться какой-то куклой, пусть и необычной.
По дороге к двери он мельком глянул на маленький столик возле кресла с торшером. Там лежала толстая, порядком потрепанная книга на каком-то иностранном языке. Буквы выцвели от времени, да и слова были незнакомые, только одно и можно было разобрать – «порселен». По-французски, которым Андрей владел уже вполне прилично, это означало «фарфор», а этот предмет его вообще ни с какой стороны не интересовал.
Фарфором, в его понимании, были всевозможные сервизы, с которыми лучше было не связываться: один раз он случайно разбил какую-то салатницу, так у матери чуть сердечный приступ не случился. Салатница, оказывается, была какая-то размузейная, из сервиза чуть ли не времен императрицы Екатерины, и вообще… Спокойнее было пользоваться обычной, повседневной посудой: даже если и грохнешь какую-нибудь чашку или тарелку, никто слова не скажет.
Ада не сказала сыну, что все последнее время занималась не столько разборкой бумаг, сколько поиском завещания. Именно поэтому она и вскрыла запретную комнату, думая обнаружить там что-то для нее опасное и, если таковое действительно обнаружится, немедленно все уничтожить. Но тревога в этой части оказалась ложной: кроме нескольких выцветших фотографий, старомодных платьев и выдохшегося флакона дорогих духов, ничего, заслуживающего внимания, в комнате не оказалось. Если не считать старинного сундука…
Сундук оказался запертым, Аде пришлось довольно долго повозиться с хитроумным замком. Наконец ее усилия увенчались успехом, крышка откинулась, и с первого взгляда Ада поняла, что этот сундук, скорее всего принадлежал матери Андрея Антоновича, давным-давно покойной. Супруг редко и скупо рассказывал Аде о своих родителях, но ей удалось из этих отрывочных фрагментов составить относительно четкую картину.
Сверху сундука лежала эта самая кукла. А вмятинка рядом с ней указывала на то, что когда-то рядом лежала, видимо, вторая, такая же или из той же серии. Потом, разобрав сундук до донышка, Ада убедилась, что вторая кукла действительно когда-то существовала: нашлось миниатюрное стразовое колье, точно такое, какое украшало шейку первой фарфоровой красавицы.
Устоять перед искушением украсить этим произведением искусства свою комнату Ада не смогла. Но потом все-таки опомнилась, снова заперла дверь, и решила, что вернется туда позже, когда страсти, связанные с кончиной ее супруга, окончательно улягутся. Эта комната идеально подходила для того, чтобы устроить в ней мастерскую: давно бездействующий камин можно было легко трансформировать в небольшую печку для обжига керамики. А этим – изготовлением керамики – Ада Николаевна увлекалась все больше и больше.
Из того же сундука, кстати, она прихватила и старинную книгу о секретах изготовления фарфора. Мало того, что подобный раритет мог стоить целое состояние и в случае чего существенно облегчить жизнь молодой вдовы с ребенком. Если в ней найдется рецепт изготовления простых фарфоровых изделий, можно будет расширить сферу своей деятельности и заняться не просто керамикой, а керамикой высокохудожественной.
Даже Ада, не слишком жаловавшая теорию, знала, что по своим свойствам – белизне, просвечиваемости, твердости, богатству красок – фарфор значительно превосходил все известные европейцам керамические изделия. Фарфор ценился очень дорого и был предметом роскоши; иметь фарфоровые изделия мечтали короли, князья, герцоги и их придворные. Керамисты Франции и Англии, не находя разгадки «китайского секрета», создали поначалу свои разновидности фарфоровидной керамики – мягкий фриттовый фарфор и костяной фарфор. Так кто мешал ей, талантливой керамистке, создать собственный сорт этой драгоценности?
Но прежде, чем заниматься изящным искусством, необходимо было удостовериться, что она – единственная наследница всего того, что нажил и создал ее знаменитый муж, что не возникнет откуда-нибудь из Тьмутаракани неизвестная родня, седьмая вода на киселе, и не потребует своей законной доли. А сколько бы эта доля ни составила, все равно будет много… Лакомый кусок!
Лучше уж сейчас как следует поработать с адвокатами (все равно выйдет дешевле), потратить сколько угодно времени на то, чтобы разобрать абсолютно все бумаги покойного супруга и попутно обласкать всех тех, кто может сказать решающее слово в защиту интересов беззащитной вдовы. Возможно, конечно, она дует на воду, и ее предполагаемых сонаследников вообще не существует, но… Береженого, как говорится, Бог бережет.
Ада только казалась легкомысленной и поверхностной светской дамой, ничего не понимающей в конкретных житейских вопросах. Под этой очень удобной маской, которую всячески поощрял и даже культивировал ее супруг, скрывалась холодная, рассудительная и крайне практичная женщина.
Андрей Анатольевич мог про себя изумляться и восхищаться тому, что его юная красавица-супруга никогда не дает ему ни малейшего повода для ревности: Аду Николаевну плотские радости интересовали мало, комфорт был для нее куда важнее. Огромное уважение, которое она и публично, и келейно выражала к работе своего супруга и к нему самому, было почти искренним: эта работа обеспечивала ей такой образ жизни, который и присниться не мог подавляющему большинству ее сограждан. А скудное, чтобы не сказать – нищее детство, точнее, воспоминания о нем, отбивало всякую охоту затеять какую-нибудь авантюру или польститься на дорогой подарок, который мог впоследствии еще дороже обойтись ее супругу в моральном плане.
Короче говоря, в глазах общества, Ада Лодзиевская была безупречной женой и безупречной матерью, а постепенно становилась и талантливой художницей-керамисткой. При всей своей холодности и некоторой отстраненности от житейской суеты, она вовсе не собиралась прожить остаток жизни «вдовой знаменитости»: мешало бешеное, но тоже тщательно скрываемое тщеславие.
То же самое тщеславие мешало ей даже думать о вторичном замужестве. Мужчина, как таковой, был ей не нужен: темперамент позволял обходиться «без этих глупостей». Как уже говорилось, плотские радости ее мало волновали, никакого удовольствия от интимной стороны супружеских отношений она никогда не испытывала. Наоборот, когда в последние годы замужества она по ряду причин переехала в отдельную спальню, то испытала огромное облегчение.
В глазах же Андрея Анатольевича это выглядело еще одним плюсом, поскольку он искренне полагал, что холодность и некоторая заторможенность – неотъемлемая черта порядочных женщин, на которых, собственно, только и можно жениться, остальные годятся исключительно в любовницы и никакого уважения не заслуживают. Пропавшая без вести Марина слишком недолго была его женой и тоже была совершенно неопытна, так что поведение Ады в постели только подтверждало эту незамысловатую теорию: порядочные женщины фригидны, остальные – шлюхи.
Да и ради чего было вторично выходить замуж? Уже после смерти супруга Ада Николаевна приватизировала квартиру на себя и своего единственного сына (по мудрому совету адвоката, прекрасно разбиравшегося в хитросплетениях непрерывно меняющегося жилищного кодекса). Машина – обычная, респектабельная «Волга», молодую вдову вполне устраивала, тем более что водить ее она выучилась практически мгновенно и ездила чрезвычайно аккуратно. Престиж?
Престижем «жены знаменитого мужа» Ада была сыта по горло, и ей вовсе не хотелось подстраиваться под чьи-то привычки, пусть даже и за очень большие деньги. Деньги у нее и самой водились немалые, а потребности по сравнению с другими великосветскими дамами были очень скромными.
Бриллианты она не коллекционировала, специальную комнату под гардеробную не выделяла, менять что-либо в квартире с пусть тяжеловесным, но своеобразным шармом антиквариата не собиралась. Только оборудовала себе мастерскую в запретной когда-то комнате, да сохранила традицию «пятничных приемов», на которые можно было прийти без специального приглашения и выпить чашечку чая с бисквитом. Основным «угощением» были беседы с интересными людьми, да мини-концерты каких-нибудь знаменитостей. Попасть на прием к Лодзиевским всегда считалось своего рода отличием, и Ада Николаевна сделала все от нее зависящее, чтобы так было и впредь.
Несколько месяцев кропотливого перебирания бумаг, наконец, принесли свои плоды. Завещания не было, но и сонаследников – тоже не обнаружилось. Подождали еще какое-то время – нет, никто на наследство покойного архитектора больше не претендовал. Так что все, согласно закону, получили вдова и сын.
И только тогда Ада Лодзиевская вздохнула с облегчением, пригласила несколько женщин, чтобы сделать генеральную уборку и вплотную приступила к реализации своих планов принципиально новой жизни. Больше она не боялась того, что на пороге возникнет некто и потребует свою долю. Больше она вообще ничего не боялась, кроме… неизбежной старости. Женское одиночество ее не страшило, а вот морщины, деформация фигуры и седые волосы были извечным кошмаром.
Существовал еще один маленький нюанс: как-то совершенно случайно, выходя из магазина на улицу, где ее ждала машина с шофером, Ада столкнулась с цыганкой, и та в считанные минуты значительно облегчила содержимое ее кошелька, посулив взамен «счастливую жизнь, исполнение всех желаний и отменное здоровье». Такой прогноз Аду, в принципе, устраивал, если бы цыганка напоследок не метнула через плечо:
– А умрешь ты через семь лет после того, как станешь бабушкой.
Вот это Аде уже не понравилось. Впрочем, если допустить, что ее единственный сын женится не слишком рано, а еще лучше – поздно, как и его отец, то времени впереди было вполне достаточно. Но если цыганка имела в виду не семейное положение, а приметы возраста? Но тогда она должна была сказать – «старухой».
Впрочем, старухами становятся и в тридцать, и в сорок. Или… никогда не становятся, умирают молодыми. Значит, нужно было любыми средствами оставаться молодой и прекрасной как можно дольше, чего бы это ни стоило. А заодно приглядывать за сыночком, чтобы не вздумал ее сделать бабушкой лет эдак в тридцать восемь. Просто на всякий случай, чтобы исключить двусмысленность гадания.
Единственного сына Ада любила, конечно, но отнюдь не до беспамятства, как это бывает у рано овдовевших женщин. Заботилась о нем, безусловно, отменно, свято помня, чьего сына воспитывает. У Андрея лет до четырнадцати была бонна, в совершенстве обучившая его говорить по-английски и по-французски, мальчик учился в единственной на всю Москву школе с углубленным изучением итальянского языка, рисованию и музыке его обучали специально приходившие на дом педагоги.
Чтобы ребенок от такой жизни не впал в депрессию, Ада взяла за правило два раза в неделю заниматься вместе с ним плаваньем, благо бассейн «Чайка» был в двух шагах от дома, а еще два раза в неделю – верховой ездой. Друзей-приятелей не отваживала, но особо и не привечала, умея после ухода очередного парнишки найти удивительно меткие и едкие слова для его определения, так, что Андрею действительно становилась неудобно дружить с такой посредственностью. Он-то был – необыкновенный. О чем, помимо матери, ему неустанно твердили все окружающие: кто искренне, кто нет, но Андрюша по юности еще не мог различать такие нюансы.