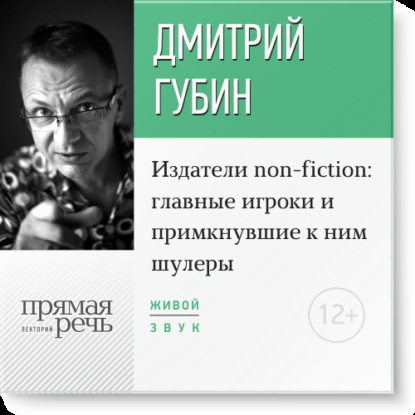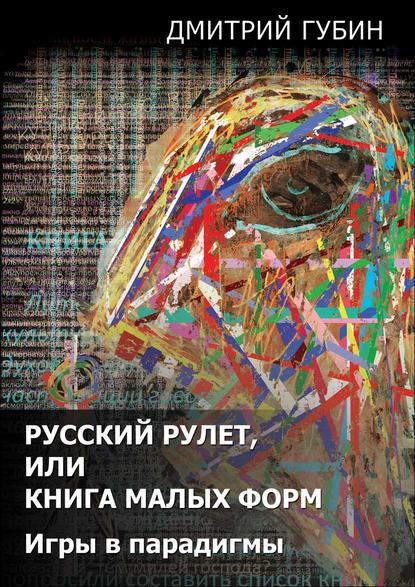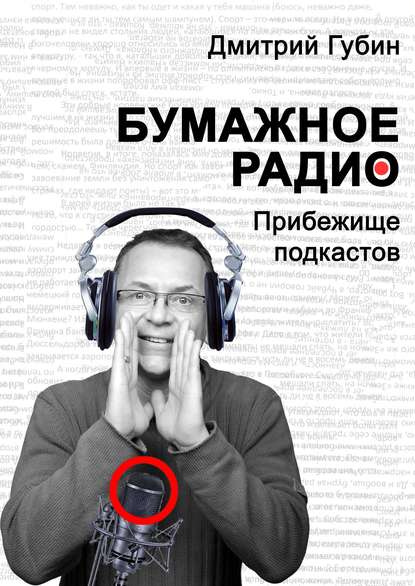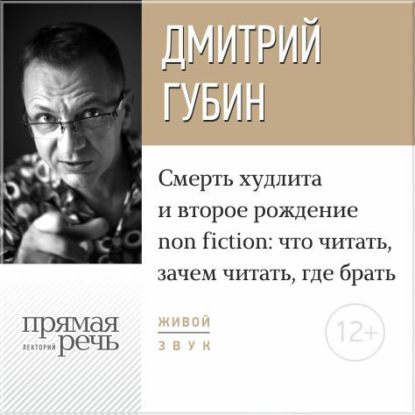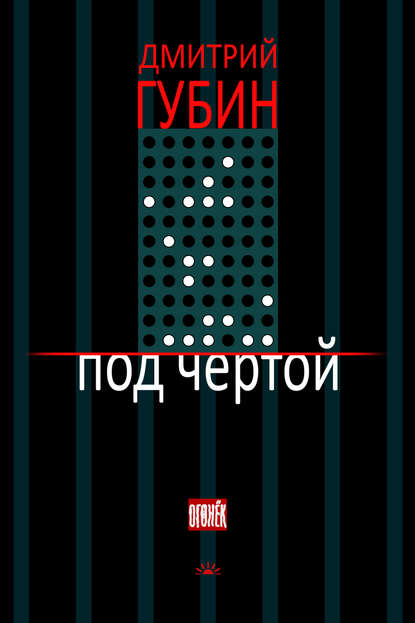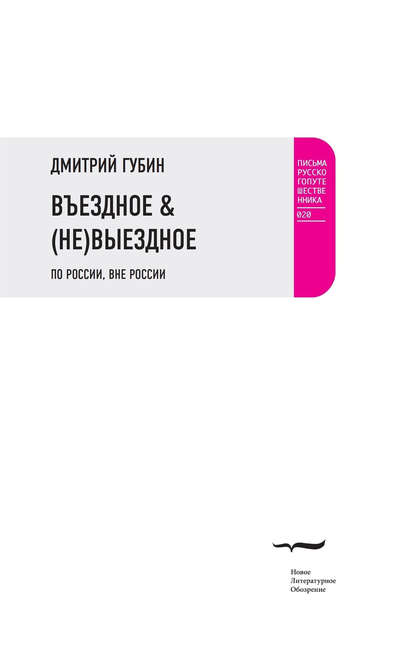
Полная версия
Въездное & (Не)Выездное
Поездку оплачивал Фонд независимого радиовещания – негосударственная организация, по случайности недокошмаренная в эпоху строительства суверенной демократии. На деньги фонда журналисты даже из самых богом забытых мест приезжают на учебу в Москву или, допустим, в Нижний, где напрямую общаются друг с другом. Это не то чтобы халява – фонд оплачивает лишь часть расходов – но серьезное побуждение к действию.
Других возможностей для общения по горизонтали у журналистов в вертикально интегрированной стране мало. Была еще негосударственная организация Internews – я сам туда когда-то бегал на мастер-классы Игоря Кириллова – но ее уничтожили, «замочили в сортире», против главы Мананы Асламазян за провоз валюты сверх нормы возбудили уголовное дело, Манана эмигрировала во Францию.
В других странах таких профессиональных фондов – тысячи. Они объединяют людей по профессиональному принципу – от инженеров турбин до инженеров человеческих душ – и находят средства приглашать в качестве лекторов, тренеров, медиаторов диалогов тех, кто профессионалам может быть интересен.
А мне, повторяю, в этом году сочли разумным платить за то, чтобы я рассказывал – в том числе и про уход из профессии. Пчелы оплачивали агитацию против меда. И не потому, что я когда-то занимался радиожурналистикой на «Радио России» и «Маяке», а потом из этой профессии ушел, и даже не потому, что меня из профессии «ушли» и пускать в эфир перестали.
Главная причина в том, что в стране и в мире наступил кризис. Кризис смыслов. А кризис, будь то финансовый с потерей дохода или физический в виде потери здоровья, всегда заставляет людей задуматься – что происходит не так? Правильно ли они живут? Почему, вкалывая с утра до вечера, они не могут себе заработать на жилье? Нужно ли им такое жилье? И такая работа? Чем вообще они хотели бы заниматься? Ради чего жить? В чем их ответственность перед собой и перед богом?
Кризис – плохое время, чтобы думать о квартирах, машинах, бытовой технике и прочих потребительских пирожных.
Кризис – хорошее время, чтобы думать о хлебе насущном, то есть о своем месте на земле.
* * *«Знаете, Дима, а ведь журналистика – действительно не мое. Мне нравится продавать. Я хотела бы стать риелтором.
Но когда я пришла на собеседование, мне сказали, что раз я журналист, то я несерьезный человек».
Так говорит Лена из Тольятти.
Перед этим я объяснял Лене и ее коллегам, что политической журналистикой сегодня в России не заработать ни на квартиру, ни на машину. Потому что журналистика – это передача информации и очистка смыслов, а очистка политических смыслов и передача информации в России мало кому нужна. Она даже не запрещена – запрет действует лишь на телевидении, – но она не востребована. Российский житель требует кривых зеркал, которые навевали бы ему сон золотой: что он живет в великой стране, с которой обязан считаться (и которую обязан бояться) весь мир, а если что не так, то виноваты НАТО и США.
С этим невозможно бороться – попробуйте-ка бороться с волной – и потому однажды необходимо принимать решение. Либо ты находишь другой источник дохода и сохраняешь профессию как хобби, либо меняешь профессию.
«Ведь те, кто остался на телевидении, они же сменили профессию? – ехидно спрашивает меня кто-то из Лениных коллег. – Они ведь переквалифицировались в пропагандисты? А кто не захотел, – те, как Парфенов, переквалифицировались в писатели?»
Парень, который спрашивает это, если я не ошибаюсь, – бизнесмен из Урюпинска. Радио – его хобби. Он делает деньги на том, на чем делает, а журналистикой занимается, потому что это занятие считает важным.
* * *Фонд независимого радиовещания уже давно приглашает меня то в Вологду, то в Екатеринбург, то в Хабаровск, то в Казань.
Но впервые вне Москвы меня не спрашивают о том, о чем спрашивают всегда: легко ли устроиться в Москве на работу, сколько в Москве платят, почем снять квартиру. Более того, технические моменты поиска работы – список рекрутерских агентств, правила написания резюме, особенности прохождения собеседования, поиск работы через интернет – вообще мало кого волнуют. Зато бурно идет разговор о том самом кризисе смыслов, о котором я уже упоминал. О том, почему людей во всем мире перестала интересовать истина, а стало интересовать потребление. Почему среди героев времени нет ни математиков, ни физиков, ни лириков, ни путешественников, ни врачей, ни конструкторов, – а только участники телешоу. Почему всех перестало интересовать, как устроен мир. И не есть ли кризис расплата за это – за надутые щеки и закрытые глаза.
Впервые эти теоретические, спекулятивные рассуждения оказываются востребованы и интересны, а, казалось бы, практические вещи – нет.
Впрочем, и я впервые говорю не о том, как преуспеть в профессии.
* * *У меня есть немного времени, и я отправляюсь гулять по Нижнему банальным туристическим маршрутом: от Кремля, где торгуют чудовищными поделками и путеводителями в десяток страниц по 200 рублей, вниз по пешеходной Большой Покровке. Но мне настоятельно советовали совершить именно такой променад, чтобы понять, в чем суть смеси французского с нижегородским.
И вскоре я понимаю.
Покровка – вполне мертвая пешеходная улица, по духу не отличимая от Арбата или от Малой Конюшенной в Петербурге, которые пешеходными стали не потому, что так сложилось, а потому, что так велело начальство. Чугунные «пушкинские» фонари. Стандартные сетевые магазины, точь-в-точь те же самые, что и в первопрестольной, и на Урале, и на Дальнем Востоке – от Sela и Oggi до Adidas и Reebok, с теми же неулыбчивыми продавцами, – и ни одной местной марки.
А через каждые метров пятьдесят – реалистической манеры бронзовые скульптуры в человеческий рост, возле которых родители фотографируют детей в вязаных шапочках. Первым мне попался бронзовый фотограф, и я улыбнулся: это была ухудшенная копия такого же фотографа в Питере. Потом пошли железные дамы с детьми и без, швейцары, дворяне, ремесленники, чистильщики, актеры, скрипачи, почтальоны – в немыслимом церетелиевском изобилии, разве что без церетелиевского масштаба… Смыслом сего было не совершить эстетическую революцию, а «подчеркнуть связь времен» (думаю, с такой формулировкой на них и тратились бюджетные деньги). Вскоре обнаружилась бронзовая коза, пользующаяся особой популярностью среди «фотографов» – я испугался, что дальше пойдут собачки и уточки.
Я вспомнил вдруг реконструированный порт в Барселоне, где создали рай для скейтбордистов, а доски на мостах проложили с щелями, чтобы ночью сквозь них в подсвеченной воде видеть косяки огромных рыб, вспомнил порт в Генуе, где устроили тропикарий для бабочек в виде стеклянного глобуса и установили гигантские парусиновые ветряки, – там была новая жизнь, а здесь были бронзовые идолы.
И когда я в отчаянии свернул в какую-то щель с надписью «Кладовка», уповая найти лавку старого барахла, – чуть не остолбенел. Дворик был расписан с яростью, какую можно еще найти в берлинских сквотах. Над головой плыли огромные деревянные скелеты рыб. «Кладовка» оказалась крохотным выставочным зальчиком для юных и наглых дарований. Две отнюдь не наглые и, боюсь, даже не вполне юные женщины взяли с меня 30 рублей «за экскурсионное обслуживание» и провели по выставке поделок в виде разнообразных кошек (ага, котики все же появились!), сопровождая словами: «это произведения искусства». Произведенные искусства меня не вдохновили, но под ногами был прекрасный пол из старых досок, а под потолком вместо люстры висело старое рассохшееся окно, что как идею следовало своровать.
А потом, когда разговор про котиков исчерпался, начался другой. Женщины рассказывали мне про новгородских ребят, которые устроили эту вот «Кладовку». И про их планы. И про то, как уничтожается старый деревянный Нижний, заменяясь монолитным железобетоном и новоделом, – у одной из них снесли прадедов особняк. И что на Покровке, это правда, живому человеку делать нечего, оттуда выселили единственный на весь центр гастроном, а с гастрономом ушла и жизнь, ведь не будешь ты каждый день заходить в Adidas. И что вообще ради денег все готовы на все. Вот, к примеру, был почти в самом центре Нижнего трамплин – так его разобрали, чтобы строить дома.
Они прекрасны были, эти не вполне юные женщины.
Им дико нравилась их «Кладовка» и их молодые художники. Они видели смысл в этой работе. Она была для них, я не сомневаюсь, настоящей жизнью.
Они сияли и давали мне секретные адреса злачных мест.
И вечером, когда мы с трудом отыскали свободный столик в арт-подвальчике «Буфет», где за 100 рублей можно заказать бараньи яйца или бараньи мозги, я вдруг вспомнил, что ни одна из женщин не пожаловалась на высокие цены или небольшие доходы.
Я так полагаю, они были готовы к кризису. И в некотором смысле через него уже прошли.
* * *У меня скоро поезд, я спешу в общежитие лингвистического университета, чтобы собрать сумку. Общагу ремонтировали лет 10 тому назад в том же стиле, в какой устроена в Нижнем Новгороде Большая Покровка. Но на гостиницу у Фонда независимого радиовещания нет денег, да и мне грех жаловаться: в пяти минутах – Волга, я надеюсь побегать час по ее высокому берегу.
У моих бывших коллег по радио еще продолжаются семинары и лекции. В одной из аудиторий рассказывают о том, что такое институт независимых продюсеров и как эти продюсеры находят по всему миру гранты на создание радиопрограмм. «…И вот живет в Петропавловске-Камчатском Стас Зверев, никто его там не знает, но его программы обожают в Вашингтоне, Берлине и Нью-Йорке, где он кумир и герой», – долетает до меня.
У меня, кстати, еще с одной девушкой был разговор. «Ну а вы сами-то думали из журналистики уходить? – спросила она. – А то все говорят, но никто не уходит». Я ответил, что вот бывший глава Русской службы новостей Сережа Мерцалов не просто сменил профессию, а переехал жить в Ванкувер; что в Италии с недавних пор проводит половину времени Матвей Ганапольский… Да и мы с женой не отказываемся от идеи переезда на Атлантику, на берег басков. Нам там ужасно нравится, у нас там друзья, там дома дешевле, чем на Карельском перешейке, и есть даже идея открыть магазинчик товаров для спальни – всякие наволочки с вышивкой на местную тему, sachet из прибрежных трав… «Еще можно продавать натуральное мыло с ракушками внутри, – подхватывает с интересом девушка, – или ароматические свечи. Сувенир хороший, и всегда пригодится. Мы с мужем тоже об этом думали. Бизнес такой начать. Потому что у нас ничего на память не купить, одни тарелки с церквями».
Господи, как ее звали, из какого города она была?! М-да, мы не одиноки во Вселенной.
2008 КОММЕНТАРИЙМы с женой не купили домик в баскском Сен-Жан-де-Люзе и не открыли на Атлантике магазинчик (мы и домик под Петербургом-то не построили).
У Ганапольского что-то там не сложилось с Италией, и он стал сначала работать в Грузии, а потом вернулся в Москву.
На месте старого трамплина в Нижнем построили не только новые дома, но и канатную переправу через Волгу, а также, в качестве социальной нагрузки, мечеть, после чего цены на квартиры в этих домах упали.
Все именно так и произошло.
А еще я почти перестал ездить на машине (все равно одни пробки), зато купил новый велосипед и стал в разы больше читать.
Что, безусловно, следует отнести к благодатным последствиям кризиса.
2014#Россия #Нижний Новгород #Красноярск
Страна овец
Теги: Про запрет на политику в законодательном собрании. – Про запрет на эфир жуликами и ворами. – Про опасность игр в снежки и про новый срок Владимира Путина.
За неделю до российских парламентских выборов я проехал маршрутом от Нижнего до Красноярска. То есть я видел предвыборное прошлое страны. Которое в тот момент мне казалось также и лишенным выбора будущим.
Но начну все же с прошлого.
В Новгород я был зван читать лекцию. Одна крупная структура проводила большой журналистский семинар по производственной тематике и хотела, чтобы я поделился прогнозом на развитие медиа. Зная, возможно, мои взгляды на то, что FM-радио скоро просто потеряет смысл; что собственную интернет-радиостанцию (и собственное вещание) за три копейки сможет устроить каждый; что лицензии, частоты и Роскомпечати тоже потеряют смысл; что человек за рулем в эпоху сетей 3G и 4G получит возможность выбирать не из 52 (как сейчас в Москве), а из полумиллиона радиостанций. А с учетом того, что программы преобразования текста в голос вот-вот ворвутся в мир, конкуренцию интернет-радио составят голосовые газеты, голосовой ЖЖ, голосовой твиттер…
Встречал меня на вокзале один симпатичный предупредительный мужчина, работавший в аппарате местного заксобрания – там, под эгидой профильного комитета, и проходил семинар. Мужчина учтиво нес мою сумку и провел очень недурную экскурсию по дороге в гостиницу. Он же встречал меня на следующий день (мероприятие проходило в стенах заксобрания в кремле).
На семинар приехали, надо сказать, и коллеги неюных лет из дальних нижегородских районов, и вы понимаете, с какими лицами они сидели, когда я говорил, что дети в Москве уже не понимают, почему телевизор – это «ящик», поскольку для них телевидение – это айпэд. Что интернет-медиа вообще уничтожают привычные СМИ. Эти люди во всякую чушь не верили. И тогда я привел простой пример. «Скажите, – спросил я, – какую партию в нашей стране называют партией жуликов и воров?» Зал засмеялся. «Между тем, – продолжил я, не называя партии, – это определение, данное блогером Навальным, распространялось исключительно через интернет. По государственным телеканалам о Навальном – а он, возможно, наш будущий президент – не говорят. Фразу про жуликов и воров на госканалах не употребляют. Однако даже те, кто не знает, что такое интернет, знает, что такое партия жуликов и воров».
А когда я закончил, мой провожатый вдруг кинулся к микрофону и с отчаянием стал призывать не устраивать политические дискуссии в стенах заксобрания. А затем подошел ко мне и с укоризной спросил – как же я мог критиковать «Единую Россию»? Разве я не знаю, что главой заксобрания в Нижнем является лидер фракции «Единая Россия»? (Да, теперь я знал – а какая еще партия в лидеры определит дядю, тоскливо долдонящего текст по бумажке при открытии семинара?) И еще – как я мог усомниться в президенте Путине?
Знаете, моя любимая метаморфоза – это превращение российского мужчины в овцу. Апулей и Овидий отдыхают. Наш мужчина превращается в дрожащее животное так быстро и массово, что в этом и состоит единство нации. Но все же я довольно спокойно ответил, что Путин пока что никакой не президент, и, возможно, президентом и не будет, если его прокатят на выборах. И что законодательное собрание есть собрание представителей граждан любых политических взглядов, а не чайный домик одной партии. И мужчина, услышав, что Путина, оказывается, можно и не избрать, застыл с видом уже не овцы, а переклиненного робота из старого фильма «Отроки во Вселенной». Так что я не стал спрашивать, женат ли он, есть ли у него сыновья, и на каких примерах он объясняет им, что такое мужское достоинство.
Про достоинство мне потом напомнил шофер, сказавший, что сам когда-то был дураком, когда верил тандему – «А они, оказывается, там все сами порешали, и этот потом перед нами Петрушку четыре года валял!» – и что ему теперь стыдно за свое поведение, потому что ему главное было – машину купить, а какой прок в машине, если может случиться революция? Вон жулики и воры отрапортовали об очистке города от снега, и весь Нижний потом хохотал: чтобы столько кубов снега вывезти, нужно, чтобы засыпало на три метра!
…Из Нижнего я улетал в Красноярск. Там был конкурс местных радиостанций. Сибирь вообще по силе местной журналистики – один из главных регионов страны. У них в прямом эфире идут дискуссии, подзабытые в центре. Пока ждал пересадки, пришли новости из Хакасии. Редакция радио «Абакан» чуть не в полном составе уволилась. Потому что они собирались в прямом эфире обсуждать две темы: первую – возможный запрет на пропаганду гомосексуализма, а вторую – нужен ли нам Путин на третий срок? А им позвонил человек из партии жуликов и воров и попросил не обсуждать обе темы вместе, и они психанули, этот звонок записали и выдали в эфир, и сказали, что работать под давлением не намерены. И, повторяю, уволились, хотя Абакан – это не Москва, где можно другую работу найти. Их коллеги, съехавшиеся в Красноярск, бурно обсуждали произошедшее: этично или неэтично было телефонный разговор записывать (вопрос о том, этично или неэтично давить на журналистов, не обсуждался: по умолчанию подразумевалось, что жулики сраму не имут).
А я сидел и слушал программу радио «Абакан», где обсуждался случай с депутатом Черногорского горсовета Катаревым. Там, в городе Черногорске (это, как и Абакан, – Хакасия), дети играли в снежки и попали снежком в депутата. А депутат достал травматический пистолет и открыл огонь; одного мальчишку отвезли в больницу. И вот это обсуждалось. Хотя, казалось бы, что тут обсуждать: я думал, звонки будут – типа, отдайте Катарева нам, мы его четвертуем, а журналисты в ответ – нет, давайте по закону.
А знаете, что там, в абаканском эфире, в итоге было? Там каждый второй звонивший настаивал, что виноваты в случившемся сами дети. Точнее, родители детей, дурно детей воспитавшие. То есть я не верил своим ушам – что-о-о?! – но очередной звонивший простодушно объяснил: ну, родители должны были объяснить детям, что опасно играть на улице, потому что можно попасть снежком в человека из власти. То есть блеявшая овца обвиняла родителей-овец в том, что не объяснили ягнятам, как в овцах жить. Я не сильно преувеличиваю.
А потом я слушал эфир томского «Маяка», шедший в день памяти жертв политических репрессий. И там большинство звонков было тоже от овец, блеявших, что «Мемориал» врет, говоря о миллионах жертв! Жертв было никак не больше полумиллиона, а скорее и того меньше! И при Сталине в загоне был порядок! И одна овца даже объяснила, что подразумевает под порядком. На мясокомбинат, то бишь в лагерь, при Сталине отправили деда овцы. Но через полгода выпустили, потому что разобрались. Вот так-то, съели?! А вы – репрессии, репрессии! Сталин войну выиграл, Путин нас накормил!
И, если честно, после этого три дня в Сибири виделись мне сквозь некую пелену. Из этой пелены вставало бескрайнее, на девять часовых поясов, пастбище, где овцы считали разумным и нормальным, что их режут и стригут, и блеяли разве от того, что забор между теми, кого должно стричь, и теми, кто стрижет, не слишком заметен. И было ясно, что если просто уничтожить загон – овцы построят новый.
Я гулял по красноярскому заповеднику «Столбы», я любовался Енисеем на морозе, когда сброшенная плотиной вода превращается в туман, я видел увешанный предвыборными щитами Красноярск. Я даже ответил коллегам на вопрос про случившееся в Абакане. Я сказал, что, да, приходя в отчаяние, в ярость, будучи загнанным в угол, можно отказаться быть овцой, но за право быть человеком придется расплатиться как минимум потерей работы.
Но ведь не тюрьмой же.
Тогда я еще не знал, что случится в Москве и Питере 5 и 6 декабря.
Тогда я не знал, что тех, кто откажется быть овцами, будут бить, а 1-й канал, «Россия» и НТВ ни слова не скажут тем, кто живет в Сибири, но не знает, что такое интернет, что в Москве ОМОН избивал мирную демонстрацию возмутившихся фальсификациями на выборах, – и будут врать, врать и врать, что москвичи и питерцы 5 и 6 декабря весело праздновали победу любимой партии.
То есть я не знал, что всего за неделю дихотомия русской жизни изменится.
С «если ты не овца, то ты без денег» на «если ты не овца, то ты можешь лишиться свободного выпаса».
И гарант проблеет, что ничегошеньки-ничегошеньки не случилось.
А тот, который отвоевал себе право резать любую свою овцу, – он, разумеется, до разъяснений не снизойдет.
И должен признаться, что не знаю, что в такой ситуации делать. Бежать из загона? Очеловечивать овец? Выводить новую породу? Самому не превращаться в овцу? Читать Пушкина – «их должно резать или стричь»? Выходить на площадь?
Вот, некоторые выходят.
И овечий телевизор доносит:
– Бе-ее-е-е… бе… бе…
2011 КОММЕНТАРИЙЭтот текст не был опубликован в «Огоньке» – как мне объяснили, потому, что «опоздал» (но теперь, когда в «Огоньке» политический огонек притушен до минимума, мне кажется, что вовсе не потому). Ответ на вопрос «что делать?» был уже дан Болотной площадью. В 2012 году Путин снова стал официальным президентом России, ознаменовав возвращение в хозяева страны инаугурационным проездом по абсолютно пустой, вычищенной от людей Москве, и Россия стала все больше походить на какую-нибудь Белоруссию. Вон в Белоруссии Лукашенко запретил выходить в интернет без паспорта – так и у нас идет к тому же. Тем более исторический опыт есть: еще Павел I вводил запрет на ввоз из-за границы «всякого рода книг, на каком бы языке оные не были», а заодно и нот. Любопытно: сейчас, когда вы про это читаете – Лукашенко все еще на троне? Или к нему в ночи уже заглянул граф Пален?
Вывести из себя ведь могут не только перемены, но и отсутствие перемен…
2014#Россия #Волгоград
Почему я предпочел бы Рюрика
Теги: Имперский туман Волгограда. – Вучетич, инвалиды и туалеты. – Биргардены на Волге.
Я вынужденно задержался в Волгограде – сначала была метель, а потом туман, и самолеты не летали. Но сквозь туман было видно, как город пытается поставить себе на службу советское прошлое. Жалею, кстати, что не побывал в пионерах в Волгограде, на школьной экскурсии. Любопытно было бы сравнить тогдашнее советское ощущение с нынешним, – когда никакой идеологии, а чистый восторг.
Ведь что знает сегодняшний турист про Волгоград? Мамаев курган, Сталинградская битва, споры об имени: одни за Сталинград, другие за Царицын (споры о том, откуда происходит «Царицын», утихли: тут заимствование из хазарского словаря, такое же, как у Царского Села из финского). Ну, в общем, информация историческая. А из современности – «танцующий мост» через Волгу, смотри рутьюб.
Но когда я прилетел, то увидел другое. На меня из тумана мощнейшими колоннами, капителями, фронтонами, портиками – выплывали Афины, Рим, империя. Дело было в архитектурных пропорциях, несомненно. Вот циклопический железнодорожный вокзал – в абрисе как бы шехтелевский, то есть московский Ярославский вокзал, только выполненный в сталинскую эпоху, сталинскими архитекторами и по сталинским представлениям о красоте (я вздрогнул, вспомнив циклопический вокзал в Милане. У Муссолини была сходная эстетика: огромное – значит красивое). Вот огромная, слоновья колоннада Педагогического университета. «Сталинские» с эркерами, портиками, башенками, нишами жилые домищи. «Сталинские» присутственные местищи. «Сталинские» (копирующие Парфенон) театрищи. Плюс планетарий – по виду парижский Пантеон, только со статуей на темечке купола. «Сталинской» роскоши гостиница «Волгоград», – с четырехметровыми потолками в номере, с коврами, бронзой, мрамором, маркетри, наборными паркетами, хрустальными люстрами, швейцарами с галунами. А вместо развалин Колизея в Волгограде – военные руины, которые турист ошибочно называет «домом Павлова», но местный житель называет «Мельницей», ибо стоящий напротив дом Павлова цел-целехонек: в нем, мне сказали, ныне «элитное жилье», оно продается с повышающим коэффициентом «2».
И вот я норштейновским ежиком бродил по этому туману империи, а когда туман рассеивался, вскрикивал. Потому что новое строительство в Волгограде имело связь с деньгами, но никакой связи с тем городом, что был выстроен после войны. А в советско-ампирной гостинице «Волгоград» работал ресторан, отчего-то называвшийся «Мольер». И в гостиничном холле висели подсвеченные фото Сталина, Горбачева и Уго Чавеса. Вместо ванной же в номере была дырка в полу, и этой воде не было слива, вода стояла озером, а постояльцам выдавались шлепки на толстенной подошве, так что они ходили по ванной апостолами Андреями. А в коридорах висели марины с тонущими кораблями и виды Берлина. И это был уже совершеннейший сюр, которого никто – ни улыбающаяся девушка на ресепшен, ни улыбающиеся горничные, а в Волгограде улыбались все! – в общем, никто, кроме меня, не замечал.
ЧТО ПОЛУЧИТЬ И ОТ ЧЕГО ОТКАЗАТЬСЯНет, я отнюдь не считаю волгоградцев простаками, не видящими ценности и цельности эстетики сталинизма. Мне один раз даже сказали: «Мы – Волгоград, а «Сталинград» – это наша торговая марка, ну, это как «Вымпелком» и «Билайн»!
Нигде, повторяю, ни в одном другом областном городе я не видел такого размаха, такого масштаба, таких архитектурных пропорций. Даже в Москве «сталинская» архитектура теряется на фоне прочих эпох и стилей – в Москве, чтобы оценить эстетику сталинизма, надо не бродить по холмам, а спускаться под землю в метро.