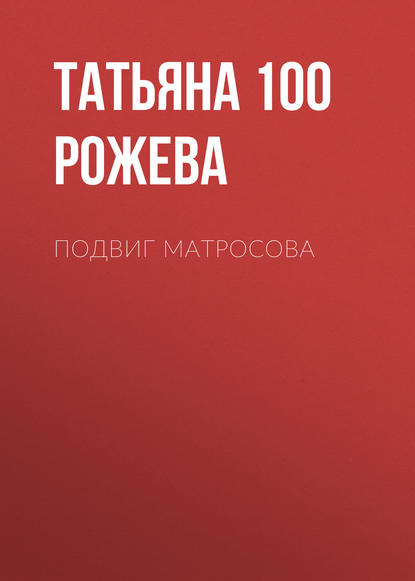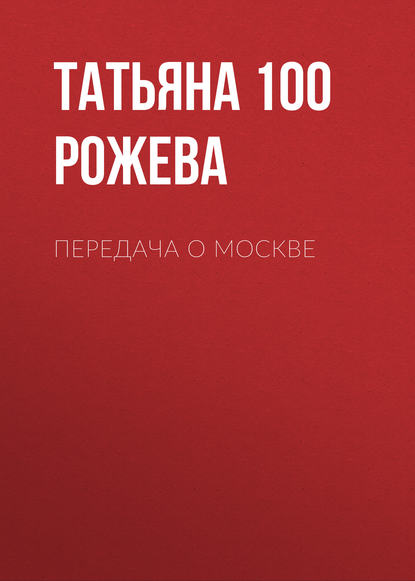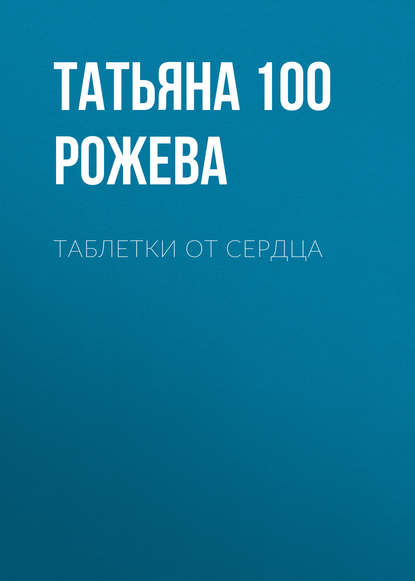Полная версия
Мужской стриптиз (сборник)
– Нет… Я имел в виду, так жить не умею….
– А я так и живу, мне кажется. То есть, так мир вижу, стоит только прикрыть глаза…
– Внутри – да, а так, вечно кого-то приходится изображать… Не люблю себя за это.
– Смотря как к этому относиться. Можно же это делать внутри. Тогда, даже весело от собственной многослойности…
– Конечно можно, но как научиться не краснеть?
– Решать вопросы в бане.
– Это уже сюрреализм.
– И даже андеграунд.
– Я предпочитаю регги.
– Как насчет джаза?
– Раньше я любил ходить в «Толстый Мо». Давно не был. Я просто раньше рядом жил…
– Сейчас рядом с Пушкинским живете?
– Почему?
– Не знаю… Ходите.
– А мне, честно говоря, не нравится в Пушкинском. Зря они золотые цепи поснимали и красные пиджаки.
– Что поснимали? – Не поняла я.
– Что? – Переспросил он.
– Какие цепи в Пушкинском поснимали?
– Как какие… Ох, я перепутал музей с рестораном, – смутился он. – Только сейчас дошло.
– Вы еще раньше перепутали художественные направления с музыкальными.
– Для меня андеграунд это джаз… Два билета, будьте добры. – Лев сунул большую голову в половинку обруча кассы.
Напротив напудренного лба кассирши сообщалось, что соотечественникам билет в музей обойдется в пять раз дешевле, чем уважаемым гостям Российской Федерации.
– А ведь таки возникает приятное чувство гордости за свое гражданство, правда? – Спросила я.
– Редкий случай, когда гражданином России быть выгодней, чем американцем, – заметил он, ссыпав мелочь в карман брюк.
– Вы американец?
– У меня двойное гражданство.
– А почему я не вижу ни одной вывески по поводу импрессионистов? – Огляделась я.
– Потому что их здесь нет.
– А зачем мы здесь?
– Здесь забавная выставка на втором этаже. Но можно и по классической экспозиции пройтись. Освежить, так сказать. Она, правда, закрыта частично.
Мы отправились освежать классическую экспозицию. Лев целомудренно брал меня под локоть, воспроизводя шепотом мне прямо в ухо и наизусть информацию с табличек возле экспонатов, не хуже электронного гида. Даже лучше, если учесть тактильные ощущения. Большая часть классической экспозиции действительно оказалась закрыта на реконструкцию. На первом этаже действовали лишь Греция, Рим и частично Египет. Из трех источников и трех составных частей мировой культуры осталось два с половиной. Сквозь этот неполноценный базис проросла на второй этаж выставка «Мастера французской афиши», в которую Лев уверенно ввел меня за локоть.
– Сюда бы тем надо, кто не считает рекламу искусством. Потому и имеем то, что имеем – Прошептал он в ухо. – Обратите внимания на качество графики!
Я обратила. Выставка состояла из французских афиш и рекламных плакатов начала прошлого века. На них жили своей рекламной жизнью, завораживающей легкостью бытия, самые различные персонажи. Уснувшая за работой белошвейка на фоне ночной Эйфелевой башни в открытом окне являла собой лекарство от анемии, а забинтованный с головы до ног механик – до сих пор не выздоровевший символ известного производителя шин. Вокруг скакали в канкане зазывные улыбки, затянутые в корсет талии и прочие части женских тел в кружевах, притом, что все это твердо стояло на службе продвижения товаров и услуг. Художественный уровень работ восхищал.
– Современным дебильным авторам «сникерсни» поучиться бы, как не выпасть из времени и говорить на одном языке с потребителем, – плюнул в мое ухо Лев порцию шепота.
– Да, – тронула я ухо, – лучший рекламный шедевр все-таки создала природа – женское тело. Годится для рекламы чего угодно!
– Реклама должна создавать образ, возбуждающий желание иметь. И иметь немедленно. Ничего лучшего, отвечающего этой задаче, чем женское тело, действительно нет, – обстоятельно объяснил Лев, деликатно кашлянув.
– Ну, значит, лекарство от анемии было съедено французскими мужчинами без остатка, – пробурчала я себе под нос, проходя мимо старушек-смотрительниц, неподвижно сидящих на стульях, словно плохая реклама лекарства от анемии для сфинксов из Египетского зала.
– Спасибо! Замечательная выставка! – Раскланялся со старушками Лев, и у левого сфинкса в седых кудельках дернулось веко.
Западное искусство вместе с импрессионистами находилось в соседнем здании, в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв. Мы направились туда. Пришлось снова находить конец у очереди в кассу, предвкушая наплыв патриотических чувств, ибо и здесь Родина оценивала нас со Львом в пять раз дороже зарубежного гостя. Из этого гостя и состояла очередь. Иностранцы в шортах и нездешней живостью в глазах законопослушно построились друг за другом. Мы нашли последние шорты и заняли очередь, но вдруг свет в окне с непонятным для зарубежных гостей словом «Касса» погас, и арка закрылась картонкой с еще более непонятной надписью «Технический перерыв – 10 минут». Из стеклянной будки, щелкнув замком, выплыла кассовая душа размера XXXL и раздвинув толпу, двинулась прочь. Строй в шортах недоуменно переглядывался вслед удаляющейся кассирше, раскачивающей крутыми бедрами и без того шаткую гордость за самую культурную столицу мира.
– Вот совок! – Раздраженно сказал Лев. – Ненавижу!
– Судя по запаху, рядом буфет. Можно сходить посмотреть, чего там есть, – предложила я мирный выход, потянув носом. – Десять минут убьем.
Дезориентированные необилеченные иностранцы готовым строем пошли с нами.
Буфетом назывался школьный класс с запахами и криками. У «доски» с перечнем блюд, написанных в столбик, как пример по математике, дородная учительница выкликала базарным голосом: «Заказывайте!», «Еще что?», «Ве-ер! Пиццу дава-ай!». Столики-парты были укомплектованы стульями для борьбы со сколиозом и одной пузатой солонкой на три парты. В открытой двери внутреннего помещения еще несколько теток грели пиццы, рубили салаты и гремели посудой. Почему-то все происходящее я стала воспринимать глазами иностранцев: столбик «меню», накарябанный почерком районного педиатра, крики разгоряченных человекопотоком теток, грохот вываливаемой в раковину посуды, запах прокисших тряпок, одна солонка на три стола… Сбившиеся в кучку зарубежные гости оторопело свыкались с нашей реалией.
– Они же не смогут ничего тут купить. Может, вы поможете им, Лев? – Предложила я из самых человеколюбивых побуждений.
Лев посмотрел на меня как Павлик Морозов на папу.
– Мне там никто не помогал. И вообще, я устал от английского. Не хочу. Сами разберутся. Вы что-нибудь будете?
– Пожалуй, нет. Если только бутылку воды без газа и уйти отсюда…
Через двадцать минут мы со Львом все-таки погрузились в атмосферу чувственных впечатлений, то есть импрессионизма…. Первая картина, заставившая меня перестать сочувствовать иностранцам в России, был «Натюрморт с букетом летних цветов» венгерского художника М. Мункачи. Вопреки традиции умильности этого жанра, он изобразил трагедию: еще вчера полные жизни, насильно согнанные в букет, сдавленные, ломающие руки-стебли, его цветы обречены умирать напоказ…
Я поделилась впечатлением со спутником.
– Да. Неплохо.… Продуманное световое решение. – Ответил он. – Ощущение присутствия. Довольно удачно…
Световое решение действительно было продумано. Приглушенный свет выхватывал сюжет каждой картины, не бликуя на поверхности и погружая в изображаемое художником время и пространство. Реальное ощущение Парижа от «Парижа на рассвете» и «Парижа ночью» Луара и холодно от «Мороза в Лувесьене» Сислея… Лишь «Руанский собор» Клода Моне играл со светом по собственным, только ему и его гениальному автору ведомым законам…
– У нас с Моне есть общая тайная страсть. – Призналась я. – В детстве я в Пушкинский ходила только ради нее. Картина «Чайки (река Темза в Лондоне, здание Парламента)» называется. Не знаю, есть ли она теперь здесь…
– Ну, если не продали…, – отозвался Лев.
Мой фиолетовый обморок ждал меня в соседнем зале. Странно… Я уже взрослая тетенька, а чайки, Темза и маяк в сиреневом мареве завораживали также как в детстве.… Казалось, еще немного и я начну покрываться веснушками и вспоминать, какой завтра первый урок…
– Это она? – Спросил Лев.
– Она.
Он постоял напротив, склонив голову набок, как делают умные птицы и старые львы, и произнес:
– Со зданием парламента у Моне целая серия полотен из тридцати семи, по-моему, холстов. Это одно из них. Мне ближе Пикассо. «Старый еврей с мальчиком». Вон она.
Я с неохотой переключилась с детства на старика. Картина соответствовала названию. Старик и мальчик со всей скорбью еврейского народа смотрели на посетителей.
– Что вам нравится в этой картине, Лев?
– Мудрость в глазах старика.
– Глупый старый еврей – вообще редкое явление природы… А мне у Пикассо больше нравится скрипка…
– Не люблю кубизм…
Выставка заканчивалась стеклянным монолитом, в котором навсегда застыли останки настоящей сожженной скрипки. В отличие от разъятой на кубы, но не утратившей целостности скрипки Пикассо, эта, художника Фернандеса Армана, сгорела почти полностью, сохранив лишь намек на очертания. Казалось, обуглившиеся куски дерева, черные нити струн и угли колков держались вместе лишь для того, чтобы последний раз уже не пропеть, а прошептать о хрупкости всего прекрасного… Шепотом, который громче крика…
– Давайте пообедаем? – Предложил Лев.
– В том замечательном буфете?
– Нет, зачем же. Я не поклонник экстрима. Здесь недалеко неплохой ресторан.
Сев за столик, я почувствовала, как устала и проголодалась. В ресторане было уютно и солонки на каждом столе…
Лицо Льва выразило удовлетворение.
– Уфф… У меня даже ноги гудят с непривычки. Давно столько не ходил. В Штатах на машине все время.
– А в России пешком?
– Здесь ездить некуда.
– Вы на пенсии?
– Мечтаю…
– О пледе и качалке?
– Ещё не знаю, но к работе я потерял интерес… Все захлестывает жлобство…. Или мне это кажется?
– А жена?
– Что жена?
– Ходит вместе с вами?
– Их нет у меня. Мы развелись. Обычная история. Уехали в Америку, поняли, что в новых условиях легче выживать по одиночке и расстались. Она там замуж вышла за «нашего американца» из эмигрантов. А я вот мотаюсь туда-сюда. Там дела, здесь сын.
– Сын с вами?
– Да. Я ее убедил отказаться. С помощью аргументов и денежных средств, – хмыкнул он. – Без «хвоста» женщине легче выжить. У них общая дочка родилась. Такая вот история грустная и банальная. Не везет мне с женами. Всю жизнь мечтал о художнице. Так и не встретил.… Первая жена была балерина, бредила сценой. Помните у Хармса – «горло бредит бритвою». Готовить не умею и не буду, ребенка не сейчас, служу искусству. Развелся. Нашел «фотографиню», почти художница, думал.… А у нее в голове пиксели одни и доллары. Больше ничего.… Не везет мне.…
– А что бы вы делали с художницей?
– Не знаю.… Покупал бы ей краски…
Он снял и положил на стол очки, потер намятую переносицу. Я поймала себя на том, что только сейчас рассматривала его. Его бордовый шарф как пароль «мы с тобой одной крови» для не встреченной художницы обнимал полную щетинистую шею. Крупные губы, мясистое лицо, скрытые ресницами и бровями темно-карие глаза без блеска, ничего не выражающие угли заросшего травой кострища. Он ел механически, без эмоций, словно еда была безвкусной.
– Вкусно? – Проверила я предположение.
– Что?
– То, что вы едите…
– Вполне. – Ответил он пресно. – А что?
– Нет. Ничего.
– Мы завтра встретимся? Вы свободны?
– Завтра вряд ли. Может быть, в выходной.… Не знаю еще.
– В выходные я с сыном. – Лев вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию. – Вот. Доказательство. Это мы на футболе.
Я взяла в руки фотографию. Серьезный «папа» в очках, с сыном, на трибуне стадиона. Тот же лихо закрученный бордовый шарф, карточка «ВИП» на животе, всклокоченная голова болельщика и рядом мальчик лет десяти. Картина «отец болельщик с мальчиком».
– Хороший ребенок, хороший папа, – вернула я фото.
– Это еще жена снимала…
– Это тот же шарф?
– Нет, другой. Тот жена дарила, а этот я сам купил.
– Точно такой же. Зачем?
– Не задумывался над этим…
Я занялась десертом. Работа по отделению клубничин от сливок и их обоих от толстого рыхлого бисквита требовала сосредоточенности. Этот кусок мокрого хлеба, обмазанный сливками и залепленный ломтиками клубники, и был, по словам официанта «чем-нибудь легким и нежирным». Вот оно жлобство, которое все захлестнуло, думала я, ковыряя кусок…
– Бывают женщины похожи на чуть привядшие цветы, но этим ты ещё дороже…, – вдруг произнес Лев.
– Ну да… Осетрина не бывает второй свежести, а женщины бывают. Так я и не скрываю возраст. К чему эта ваша сентенция?
– Не моя, а поэта Светлова, я лишь хотел намекнуть на сегодняшнюю картину, возможно, сделал это неуклюже. А стихи хорошие… и цветы красивые… Вспомните Тарковского и не ведите себя как маркшейдер.
– Ладно. За незнание строчек поэта Светлова – стыдно, честное пионерское.
– Стыдно это хорошо. Мне нравится, когда женщине стыдно. Вы любите секс?
– А что? – Оторвалась я от десерта.
– Ничего. Просто спрашиваю.
– Качественный люблю.
– Качественный это какой?
– Качество – понятие растяжимое. Можно долбиться три часа и останется ощущение, что недодали, а можно быстрей освободиться, и икать потом неделю от одного воспоминания.
– Научите?
– Не помню, чтобы объявляла набор на курсы. Может, с памятью что?
– Вы опять набрасываетесь?
– У вас женщины делятся на добрых дам и злых недам?
– Ну что вы право, просто я хотел выразить солидарность. Не люблю мудачек, берутся некоторые и не делают, как положено. А вы купите фаллоимитатор. Я подарю вам батарейки. Пусть эта музыка будет вечной, если я сменю батарейки….
Десертная ложка залипла в мокром хлебе от неожиданности предложения.
– Спасибо. Вы настоящий джентльмен, Лев. Вечная музыка в раю только. И батарейки для фаллоимитаторов у меня есть. Юмор у нас с Вами слишком разный. В этом дело, а не в фаллоимитаторе…
– Это ведь опять не моё…. «Наутилус-Помпилиус»……я опять неудачно сымпровизировал. Что-то у меня совсем настроения нет…
– С таким настроением лучше самому справляться, а не ждать, что кто-то исправит.
– Не дуйтесь… Просто вы «зрите в корень», а я вам стихи….а они в воздухе… Где мои крылья, которые нравились мне….Вы, наверное, статьи о семейных ценностях пишете?
– Почему вы так решили?
– Потому что о семейных ценностях пишут те, у кого их нет…Кругом тупость, не только в «семейных ценностях», не переживайте, вы не одиноки в своей безответственности….
– А не пойти ли вам с вашим назиданием, Лев?
– Это лозунг вашего журнала? – Он улыбнулся и потер глаз, словно хотел очистить заросший травой уголек. – Это как вольноопределяющийся Марек издавал журнал про животных и придумывал новые виды…
– Интересно как бывает, – справилась я с раздражением, – словно живем в непересекающихся мирах. Я вас не понимаю, ни ваших намеков, ни аллюзий, ни юмора… Чудно…
– Это потому что в вас столько наносного, что вам не свойственно….я не удивлюсь, если в душе вы «целка»
– И что же такое целка в душе?
– С вами не интересно, вы не откровенны.…Простите, но в вас постоянная фальшь, когда вы говорите. Так, вроде баба нормальная… В широком смысле…
– Спасибо. Мне всю жизнь указывали на чудовищную прямолинейность и неумение фальшивить как главный недостаток, он же достоинство. И только вы разглядели чего-то новенькое. Забавно…
– Я же мужик, а не мудак.
– И часто вам приходится всем об этом напоминать?
– Вот язва…
Он вернул очки лицу и посмотрел на меня погасшими угольками глаз, которым даже стекла не придавали блеска.
– Вы похожи на сожженную скрипку, Лев…. Очертания еще есть, но уже не сыграть…
– Да, – кивнул он. – Тяжело мне будет вас обмануть…
– А надо?
– Если б я знал, что мне надо…, – Он отвернулся к окну. – Хочу снег… А в городе том сад… в нем травы да цветы… Жизнь прекрасна своими неожиданностями…
– Знаете, мне пора. Было очень приятно…
– Подождите! – Вскинул брови над очками Лев. – Поедем вместе. Нам же по пути. Я живу на Проспекте Мира.
В метро мы ехали молча. Я держала поручень, Лев поддерживал меня за локоть, свесив большую голову на грудь. Было неловко молчать, но говорить не получалось…. На Тургеневской я вспомнила, что так и не задала вопрос, почему музей изобразительных искусств носит имя поэта. Уже не задам. После слов «следующая станция Проспект Мира», рука Льва переползла с локтя на талию, и он шепнул в мое музейное ухо:
– Зайдешь?
– Нет… – Ответила я тоже шепотом, почему-то представив гриф сожженной скрипки…
– На нет и суда нет…, – сказал он бесцветно и вышел из вагона, мелькнув в толпе бордовым шарфом…
Энергия желания
Этот рейс на Москву и так был поздним, да еще задержали почти на час. Я заняла крайнее к проходу место в пока еще пустом ряду, надеясь, что рядом не окажется храпун или вонючка, или, чего доброго, два этих везения одновременно. Лететь почти четыре часа… Крупный мужчина в джинсовом костюме навис надо мной мыслящей тучей. Разбирая буквы и цифры в шифре посадочных мест, он, то поднимал на лоб, то опускал очки. Наконец, крикнул кому-то позади себя:
– Вот наши места!
Пропустив вперед двух женщин, одну с ребенком на руках, и подростка, радостно кивнул мне:
– Вместе полетим!
Я встала. В мой ряд нацелилась женщина без ребенка – непропеченная блондинка с формой тела «лампочка накаливания»: накрашенный цоколь – матовые плечи – попа, и подросток лет пятнадцати, заткнутый наушниками и похожий на всех в своей популяции, кроме родителей.
– Садись к окошку, – приказала блондинка подростку, и тот, кивнув в ритм, одним прыжком оказался в кресле.
Блондинка суетливо угнездилась рядом и полезла в сумку.
– Сережа, возьми ему платок, – повернулась она к джинсовому мужчине, устроившемуся за нами.
– Да у него сухой нос! – Возразил мужчина.
– Возьми! – Потрясла платком за головой блондинка.
Мужчина вздохнул и взял платок.
Сонные ночники, моргая, посматривали за вялым рассаживанием пассажиров. Самолет дремал, сотрясаемый запихиваемой ручной кладью и ерзающими задами. Я уже предвкушала полет над бесконечностью.… Только представить – подо мной будет десять тысяч километров черной бездны! Дух захватывает! Хорошо, что не случилось рядом вонючки, но плохо, что далеко от окна. Появится ли рассветное солнце к концу полета? Наверное, нет – время первый час ночи.… Не успеет. Жалко…
– Я к маме хотю! – Пискнул ребенок возле моей коленки.
Белобрысый малыш лет трех, пыхтя, протиснулся по моим ногам к блондинке и залез на нее.
– Когда мы полетим, ты будешь сидеть с Надей! – Строго сказала блондинка.
– А я хотю с тобой!
– Со мной нельзя.
– Потему?
«Вас приветствует капитан корабля…» – раздалось сверху, и ночники перестали подмигивать, превратившись в серьезные светильники.
– Когда дядя командир разрешит вставать с места, тогда и придешь ко мне, хорошо? – Блондинка сняла с коленей малыша и чмокнула его в щеку. – Иди к Наде.
Ребенок обиженно пропыхтел по моим ногам в противоположную сторону. Блондинка, озираясь в поисках ремня безопасности, крикнула в проход:
– Сережа, возьми его!
– Девушка! – Услышала я за спиной мужской голос. – Вы не хотите поменяться местами с нами? Вам здесь будет удобней. А то он так и будет туда – сюда.
Я обернулась. Джинсовый отец виновато улыбался.
– Он такой беспокойный ребенок! А тут, зато возле окошка можно.
– Конечно. – Согласилась я. – Спасибо.
– Это Вам спасибо! – Он встал, чтобы пропустить меня.
Пробираясь к своему новому месту, я заметила вторую женщину, сидевшую с беспокойным ребенком на следующем ряду.
«Три ряда для семейства купил, что ли?» – удивилась я.
– Такие места были, – ответил он, перехватив мой взгляд, снова виновато улыбнувшись. Странный…
Я с удовольствием устроилась у окошка. С джинсовым отцом нас разделяла пустота синего места с серым подголовником. Можно положить на сиденье что-нибудь и не воевать локтями с соседом за место на подлокотнике. Красота! Еще бы рассвет увидеть….
Самолет все быстрей пересчитывал бетонные стыки, вжимая в кресло и закладывая уши ватой земного притяжения. Наконец, он оторвался от земли, и приклеился к небу, как сосалка «взлетная» к нёбу… Взлетная полоса превратилась в линию, в полоску, в воспоминание и увязла в черноте. Живыми и светящимися были только мы – пассажиры полупустого самолета, пробиравшегося вслепую сквозь ночь.
Ощущение, что на меня смотрят со стороны третьего кресла, заставило повернуть голову. Джинсовый отец тут же уткнулся в журнал. Я стала рассматривать мужчину. Густые, темные волосы. Загорелый, чисто выбритый. Крепкое тело человека, состоявшего со спортом в более тесных, чем дружба, отношениях, но делавшего это последний раз лет десять назад. Я видела, что, делая вид, что читает журнал, он видел, что я его вижу, и я видела, что ему приятно это видеть. В полпервого ночи такая фраза простительна даже мне – отдохнувшей даме с гуманитарным образованием. Мужчина мне нравился. Я не могла пока понять, чем…. Глупость какая… Чужой человек…
– Папочка! – Малыш вдруг оказался у него на коленях. Мальчик был похож на мать, пухлый, светловолосый, голубоглазый и такой же непропеченный. Он спросил громким шепотом, глядя на меня:
– А кто эта тетя?
– Это тетя с нами летит домой.
– Она с нами будет зыть?
– Нет, сынуль, у нее свой дом.
– А потему?
Малыш посмотрел на меня со взрослой симпатией, и, сразу застеснявшись, спрятался за отца, подглядывая одним голубым глазом. Вот так мужчина в мальчике незаметно и прорастает, – подумала я. Отец погладил малыша по голове. Смотреть на мужчину с ребенком на руках было приятней, чем на женщину с тем же ребенком на руках. «Потему?»
– Потему, пап? – Поддержал меня малыш.
– Что почему?
– Потему у тети свой дом?
– Потому что у каждой тети есть свой дом. Тем более у такой красивой тети.
Я видела, как мужчина улыбнулся, не поворачивая головы. Я тоже улыбнулась.
– Сережа, отдай ребенка Наде. – Послышался голос его матери, повернувшейся к нам вполоборота. – Ему пора кушать.
Отец глянул на меня растерянно, мол, что поделаешь, она мать, надо слушаться, и сказал сыну:
– Ну, иди, сейчас кушать будешь.
– Я не хотю кусать! Я хотю с тобой!
– Ты и так со мной, малыш. Иди к Наде. – Он снял ребенка с колен и передал назад. Бросив смущенный взгляд на меня, он снова уткнулся в журнал. Я уже не сомневалась, что нравлюсь ему. Он мне тоже нравился. Его крепкая фигура и его тембр голоса и ироничная интонация, и не знаю, что еще… что-то такое. … Вот мужик попал – подумала я, представив себя на его месте. И не пофлиртуешь посреди семейства.
– Пап, флэшку дай, – обернулся непохожий на родителей подросток, обнаружив неожиданный бас.
– Какую флэшку?
– Ты брал, в кармане у тя лежит.
Мужчина пошарил в кармане, привстал с кресла, чтобы передать флэшку, и, не утерпев, посмотрел мне в глаза. Меня пробило его желанием от серого подголовника до синего сиденья – ох, ни фига себе и залежи там! У меня даже ладони вспотели! Он снова сел, спрятавшись в журнал, а я стала думать, что делать, когда никто не виноват и когда нельзя, но очень хочется.… Порывшись в сумке, я нашла визитку конторы по вызову такси. Рядом со слоганом «мы доставим вас с удовольствием» написала свой номер телефона и, тронув мужчину за локоть, протянула карточку. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом:
– Что это?
Я приложила к уху козу из большого пальца и мизинца как телефонную трубку. Его сначала непонимающие, а затем заговорщицки улыбнувшиеся глаза ответили мне. Он сунул визитку в карман рубашки, и опустил голову, словно хотел зарыть ее песок. «Зря я это сделала, – ошпарило меня запоздавшим кипятком. А вообще, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть!» – подбадривала я себя, но старалась больше не смотреть на него и его семейство.
Я смотрела, как серое крыло самолета режет черноту ночи и чувствовала ухом полный желания мужской взгляд со стороны третьего кресла.
К концу полета рассветное солнце все же успело осветить сферический край земли долгожданным зелено-рыже-малиновым светом. Я наслаждалась зрелищем, втиснув лоб в стекло иллюминатора. Это неземное свечение – Энергия Желания, питающая все живое, которая становится видимой только на рассвете и только с высоты десять тысяч километров над бездной… Мне повезло…
По «рукаву» я шла впереди семейства, хваля себя за то, что, послушавшись интуицию, надела каблуки. Мой вид сзади на каблуках еще в состоянии впечатлить любого отца семейства. Взгляды джинсового отца на моей джинсовой попе держались двумя горячими карманами. Один раз я аккуратно обернулась, но он, поправив спящего малыша на плече, сразу отвел взгляд. Непропеченная блондинка видимо, планировала будущее. До меня доносились лишь глаголы «позвонишь», «поедешь», «заберешь»…