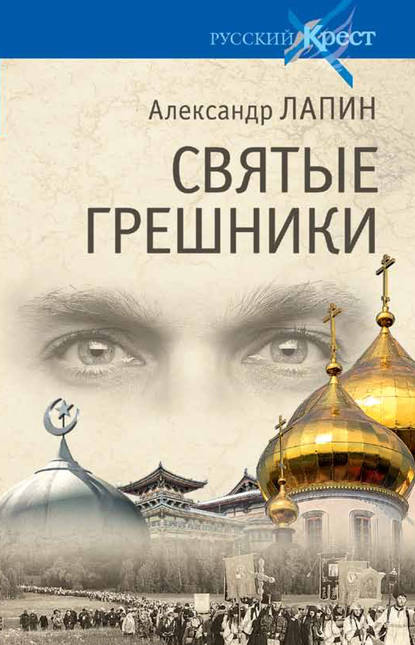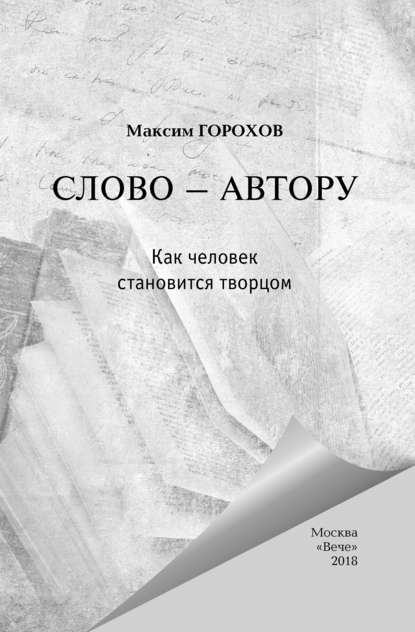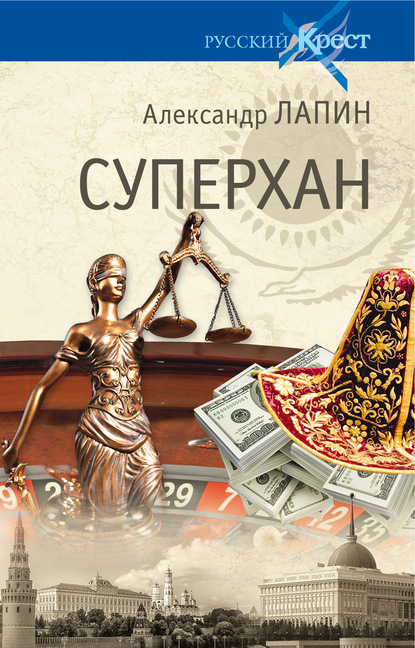Полная версия
Утерянный рай
Тетя Клава – его родная сестра – запомнилась всем тем, что приехала в гости сразу после войны. И однажды, когда брата и его жены не было дома, собрала их нехитрые пожитки и ушла на станцию.
Иван тоже с детских лет все воровал в доме. Для их семейства он был тем, чем знаменитый багдадский вор для своего. Что бы ни положила мать в заветное место – конфеты ли, сахар, деньги, – все немедленно находилось Иваном. И так же немедленно исчезало.
В школу он ходить не хотел. А если и отправлялся туда, то, казалось, только для того, чтобы бить окна, материть учителей, стоять в углу и прятаться от уроков за туалетом с такими же, как и сам, бездельниками.
Все дело в его горячем, порывистом, а в чем-то даже истеричном характере. Стоило кому-то сделать ему замечание, как он сразу бросался в драку. В последний раз, перед армией, кинулся с тяпкой наперевес на соседку, которая нелестно высказалась в его адрес.
Закончив с горем пополам шесть классов, после которых директор школы попросил отца «забрать разбойника», он начал трудовую деятельность.
Но куда бы Ивана ни пристраивали, работать он не хотел. В полеводстве ему показалось неудобно, жарко. Послали на стройку – парень здоровый, крепкий.
Через неделю он, рыдая, показывал отцу свои огрубевшие руки и истерично кричал:
– Вот какая работа! Я не могу! Посмотри на мои руки!
Руки действительно «украшались» мозолями. Впрочем, как у всех.
Ладно. Подделав справку об окончании семилетки, Иван пошел учиться на шофера. Кое-как закончил курсы. А тут пришла пора идти в армию.
– Армия его исправит! – говорил отец, провожая оболтуса в город на призывной пункт.
Это был выход из положения. Как ни крути, а два года – срок немаленький. И по замыслу окружающих, армия должна была изменить Ивана.
Прошло время. Давно уже мать поглядывала на дорогу. Выходила иногда за околицу.
И вот он вернулся.
Шурке тоже не терпелось увидеть Ивана. И он быстро рванул в летнюю пристройку. Заскочил в дверь, остановился.
На плите шкварчит, распространяя дразнящий аромат, яичница из двенадцати яиц. На столе стоит припасенная с незапамятных времен бутылка. За столом рядом сидят нисколько непохожие люди – отец и сын. Алексей – длинный, сухощавый, по-северному белокожий, жилистый, в майке. На его лице оживление и легкое недоверие. Иван – круглолицый, курносый, низкорослый, широкоплечий, загорелый. Весь страстный, горящий, живой.
Братья обнимаются. Шурка садится рядом. И разговор продолжается.
Собственно, говорит в основном Иван. Мать от плиты радостно соглашается с ним, поддакивает его словам. Отец же, наоборот, хотя и кивает головой, но чувствуется, что не вполне доверяет всему, что ему говорится.
– Я теперь совсем другой стал, – торопливо хрустя огурцом и перескакивая с одного на другое, стараясь побыстрей высказаться, доказать всем, что он теперь совсем иной человек, говорит Иван. – Я теперь понял, как надо жить. Возьмусь за дело. Школу закончу обязательно. Пойду в вечерку. В восьмой класс. Аттестат получу. Я теперь стихи пишу. Меня, мое стихотворение, даже в «Комсомолке» напечатали. Есенин – вот был человек, это да! А как крестьянина понимал! Жизнь – это бурное море. И надо быть хорошим пловцом, чтобы не утонуть. Друзья! Это были не те друзья у меня. Перепелица да Островский. Работать пойду. Помогу вам. Надо только отдохнуть. Мне теперь любую работу дадут. Вы знаете, где я служил? В погранвойсках. Мы в Пицунде дачу Никиты Сергеевича охраняли. Я даже один раз его сам видел. Потрясающий мужик.
– Сынок, а мы тебе деньги посылали. Сто рублей, помнишь? Ну, когда ты написал, что в армии аварию сделал. Надо было починить машину, – робко и радостно отозвалась от плиты мать, напомнив ему, с одной стороны, как она ему помогала, с другой – слегка как бы заискивая перед старшим сыном. – Дошли?
– Да, я из этих денег еще и часы на дембель купил. Ну, это мелочи. Я теперь совсем другой стал. Там нас каратэ учили, – сказал он, обращаясь к Шурке. – Знаешь, какая это штука?! Силищу в руках дает. Однажды один боец, у него так были набиты мозоли на руках, такая сила была, спросонья муху хотел убить, она ему на лоб села. Стукнул себя по лбу и сразу полчерепа снес. Во какая силища! Нас тоже тренировали. Каждый день физкультура: кросс, гимнастика. Я тебя, брат, научу всему.
– Сынок, а говор у тебя теперь какой-то ненашенский. Не по-нашему слова выговариваешь, – заметил отец. – Ну, а, в общем, дай бог, чтобы все, как ты говоришь, было. Я завтра поговорю с нашим главным механиком в гараже насчет работы для тебя. Может, сначала будешь подменным шофером, а потом и на машину посадят. Вместе будем работать.
– Только мне сначала отдохнуть надо хорошенько. Я и так устал от службы. А вы сразу работать, работать! Отдохнуть дайте!
– Конечно, конечно! – заметила мать, подавая на стол жареного гусака.
«Для меня гусака никогда не жарили, да еще целиком, – подумал Шурка. – А здесь, подумаешь, событие – в армии отслужил! Все служат. Достижение какое».
IX
Тени удлиняются. Алая, как раскаленный кусок железа, закатная полоса медленно остывает на западе. Полумрак мягко выползает из всех щелей. В саду птицы стайками усаживаются на ветки.
Приходит вечер.
Приходит так же, как и тысячу лет тому назад. Как и миллион. Так же, как и в эпоху динозавров.
Вечное движение. Заход. Восход. И только человек с его ощущением, что именно он первый живет на этой Земле, думает, что закат солнца прекрасен. Он не прекрасен. Он вечен. Но Шурке Дубравину сегодня не до этих тонкостей. Сейчас загорятся вечерние огоньки в домах. Птицы запоют вечернюю песню. В тишине поплывет запах цветущих садов. Он будет идти отовсюду: от роз у окна, от сирени на аллее, от яблонь. А потом одна за другой начнут вспыхивать звезды. Ах, эти звезды и Луна! Их свет зальет фантастическим огнем весь окружающий мир. Все запылает, заискрится под этим лунным светом. И будет ночь.
Чудесная, тихая, теплая ночь над Жемчужным. Прекрасная, полная любовного томления и ласки. В такую ночь, если ты не любишь и не любим, остается только одно – упасть на землю, закрыть лицо руками и громко зарыдать.
Постойте, постойте!.. Из центра поселка от клуба раздается призывный сигнал. Играет музыка.
– По переулкам бродит лето. Солнце льется прямо с крыш. В потоках солнечного света у киоска ты стоишь, – поет огненный, знакомый целому поколению советских людей голос Муслима Магомаева. И на этот пароль немедленно откликается Шуркино сердце.
В какие времена, в какие минуты, где и когда он потом еще будет так тщательно, с волнением собираться на свидание?
Никогда и ни при каких обстоятельствах.
А почему? А потому что свидание первое.
Отгладить брюки. Начистить ботинки. Надеть белую рубашку и через тот же самый лесок, через который ходишь в школу, теперь мчаться на тусовку. На танцы. Клуб ярко освещен, а танцплощадка рядом с ним темная. Но это не важно. Главное, что в углу стоит динамик и гремит, зазывая народ. Но никого еще нет. Шурка поторопился. Пришел первым. А зря. Некие негласные правила культурной сельской жизни гласят: в кино надо приходить в тот момент, когда фильм уже начался. Раньше времени приходит только малышня.
Дубравин отходит от танцплощадки в сторону, в темноту. Присаживается на лавочку. И наблюдает за развитием событий. Вот он замечает, как возле клуба засуетились ребятишки из соседних домов. Забегали, замелькали. Еще через минуту подплыли под ручку две подружки-школьницы. Вот Аркадий Тихонович Кочетов – их учитель биологии и ботаники, ярый любитель кино, не пропускающий ни одного сеанса. И большой специалист надзирать за поведением учеников. Бывает, что он после фильма прячется где-нибудь на аллее среди кустов сирени и внимательно наблюдает, кто с кем куда идет.
Несколько раз его обнаруживали в таком ракурсе. После чего он с невозмутимым видом выскакивал из кустов и топал домой.
Но вот на площадке появляются объекты, больше всего на свете волнующие Дубравина, – девчонки из их класса. Обычно они попадают в такие места парами. И сегодняшний день не стал исключением. Первыми приходят Лена Камышева и Валентина Косорукова. Они проплывают по кругу и тихо удаляются в кинотеатр. За ними на свет фонаря у танцплощадки выскользывает из темноты аллей Андрей Франк. Оглядывается вокруг и хочет так же ускользнуть в темноту. Но Шурка тихо зовет его со своей лавочки.

– А, это ты. Привет, сэр! – Андрей подходит к скамейке и присаживается рядом. – Ну что? Никого нет? – Конечно, под «никого» он подразумевает девчонок, с которыми они сегодня договорились вместе идти в кино. Так как-то обменивались, обменивались в классе шутливыми записками, а потом шутя договорились встретиться.
И вот теперь два кавалера с тоской оглядывают окружающую местность. Ведь это черт знает что, а проще говоря, их первое свидание. И они, надо признаться, отчаянно трусят. Во-первых, потому что не знают, как поступить и что говорить, когда девчонки придут. А во-вторых, боятся, что они не придут, и тогда дело будет вообще дрянь.
В общем, так плохо и так нехорошо. Но пока оба парня делятся друг с другом своими страхами и сомнениями, музыка замолкает, и из глубины аллеи показывается интересующая их пара.
Люда Крылова – девочка с кудряшками. Сегодня всех мальчишек класса потрясает ее тонюсенькая талия. Хорошо развитая грудь. Голубые глаза. Кудрявые с рыжинкой волосы. Эдакое томное, невинное создание. (Много лет спустя, когда Дубравин узнает, что такое голливудский стандарт красоты пятидесятых годов, он поймет, что она как раз соответствовала этому стандарту.) Живет она с матерью и братом. Мать работает на почте. Кажется, заведующей. Обитают в крошечном, но своем домике. Счастливо, несчастливо – бог знает.
Валентина Сибирятко – девушка противоположно другого типа. Настоящая русская красавица. Круглолицая, с румянцем во всю щеку. Зеленоглазая, молчаливая.
Если Людмила – решительная и говорливая, то Валюшка из тех, кто «в тихом омуте».
Сейчас они обе, принаряженные, прекрасные своей юной красотой и слегка смущенные собственной смелостью, пришли в «кино». Но по сути все четверо понимают, что это их первое свидание.
– Здравствуйте! – смущенно, в нос произносит Шурка, когда девочки нерешительно-медленно, но все-таки приближаются к ним из темноты.
– Приветствую, – вылезает из-за его плеча Андрей. И, о счастье! Тут же говорит, сглаживая ситуацию, о школьных делах. О том, что скоро вся их классная компания пойдет в большой поход. Что Феодал (директор школы) сказал: если они выиграют республиканские соревнования по туризму, то он всех пошлет на большую экскурсию в Алма-Ату.
– Да ты что?! А откуда ты знаешь? – засыпают его вопросами девочки. Неловкость исчезает. В итоге они, совсем как обычно, будто и нет этой странной ситуации первого свидания, быстро переговариваясь, идут в клуб. Здесь в фойе, нервничая и психуя, дожидается хоть какого-нибудь народа лысый хромой киномеханик дядя Петя. Мастер культурного цеха, он же и билетер, выдает им четыре билета и многозначительно хмыкает. Давно ли он гонял этих мальчишек, мечтавших на халяву с деревьев посмотреть в летнем кинотеатре «Приключения незабвенной Анжелики» или «Фантомаса»? Давно ли он стряхивал их с этих деревьев, а они пытались проскользнуть в зал безбилетными? И вот надо же – пришли с девушками.
Ребята торжественно проходят в почти пустой темный зал и усаживаются на камчатке так, что девчонки оказываются вдвоем посередине, а Андрей и Шурка – по краям. Каждый сбоку от своей крали.
Начинается журнал. Но на душе у Дубравина нет покоя. Он чувствует рядом тепло Людмилиного плеча и ощущает, что они пришли сюда вовсе не за тем, чтобы смотреть скучное кино. Главное, чего девочки ждут от них, связано вовсе не с фильмом, а именно с ним, с Дубравиным.
«Возьму ее за руку. В темноте не видно, – думает Шурка и весь вспотевает от страха. – Нет, возьму! Иначе какой же я мужчина? А вдруг она выдернет руку, если я ей не нравлюсь? А если они действительно пришли только кино посмотреть? Будь что будет. Не могу же я сидеть здесь дурак дураком, даже не понимая, что там показывают, и мучиться в нерешительности. Тем более мне страшно хочется к ней прикоснуться». И он осторожно протягивает холодную от ужаса руку, тихонько касается ее ладони. А когда чувствует, как вздрагивает ее рука, сам вздрагивает, но не отдергивается, застывает в оцепенении, тихонько берет эту застывшую ладонь в свою.
И сразу не страшно, а радостно. Счастье от того, что закончились эти муки нерешительности. Так они и сидят весь сеанс, держась за руки и глядя только на экран, чтобы никто из окружающих не подумал, что между ними что-то происходит. В какой-то миг она осторожно высвобождает свою ладонь из его. Но ровно через минуту сама находит его руку.
Он на вершине блаженства: «Как в раю».
А фильм скучный и занудный. Впрочем, судя по всему, сегодня это никого не колышет. Они заняты друг другом.
После кино начинается традиционный ритуал провожания домой. Наверное, так же происходит это из поколения в поколение. Но вся прелесть в том, что каждое ощущает себя первым.
Сначала до мостика через речку идут все вместе, как будто боятся обозначить пары. У мостика, где надо расходиться, потому что девочки живут в разных сторонах, происходит сцена трогательного прощания. С обниманиями и птичьим разговором в полунамеках:
– Ну, Валечка, давай, как договорились!
– А ты Гоше передай, что я помню.
– Целую тебя, солнышко!
– И я!
Парни в это время, скромно потупившись, стоят в сторонке, дожидаясь конца обряда. Но вот Шурка остается с Людмилой наедине.
Это горе! Если за минуту до того можно было участвовать в разговоре на уровне междометий или смеха по поводу Андреевой шутки, то теперь приходится поддерживать его исключительно самому. А это оказывается непростым делом.
Каким-то внутренним чутьем Шурка прекрасно понимает, что самое ужасное, когда провожаешь девушку – это молчать пень пнем. Однако легко болтать он не умеет. А чем больше думает, что бы ему сказать, тем меньше может говорить. В общем, облом. Людмила, видимо, тоже чувствует напряжение, понимает его состояние и пытается ему помочь. Она неожиданно ловко берет его под руку и, отвечая каким-то своим мыслям, говорит:
– Саша! А ты своих родителей любишь?
Ему от этого ласкового тона вдруг становится легко и просто с нею, возвращается привычный поток мыслей о себе, о своей семье:
– Ты знаешь, раньше я как-то не задумывался над этим. А сейчас даже не знаю, что сказать. Отец казался мне в детстве таким важным, все знающим, умеющим. А сегодня я понимаю, что он простой шофер. И человек слабый. Как все слабые люди, не сумевшие чего-то достичь в этой жизни, занимается критикой. Все ему здесь не нравится: начальство, люди, машины… Люблю ли я его? Но во всяком случае, не восхищаюсь, как это было в детстве. А с другой стороны – помню, как он брал меня с собой в рейсы. Нам было хорошо вместе.
– А у меня никогда не было отца! Можешь себе представить? Никогда не было и нет человека, которому я могла бы сказать: «Папа»… Как-то не так…
Неожиданная волна жалости и дикой нежности хлынула в сердце Дубравина после этих слов. Он остановился и обнял Людку за плечи. И так же неожиданно она вдруг просто и доверчиво прильнула к нему. Прильнула и стала лепетать о чем-то. И уже не надо думать, о чем говорить…
X
Уснул сразу. Как будто упал в воду. Он даже не почувствовал перехода из одной среды в другую. Потому что сонная вода была такой же теплой, как воздух.
Мягко и ласково набежала волна. Скользнула по ногам. И о чем-то зашептала, встретившись с белым песком пляжа.
Он взял свою женщину на руки. В черном закрытом купальнике она выглядела легкой, стройной и угловатой, как подросток. Однако, обняв ее, он ощутил бронзовую упругость и тяжесть налитого силой жизни тела. Такое тело было, наверное, у храмовых жриц Востока. Но сейчас, зайдя с нею в теплую, как парное молоко, воду, он чувствовал, что в ней нет того ледяного, присущего богиням равнодушия, которое насмерть убивает желание. Она была живой. И такой несказанно родной…
Сон оборвался. И продолжался.
…Весло погрузилось в прозрачную теплую воду. Пирога, покачиваясь на волне, медленно заскользила от берега. За бортом видны были кораллы, скользили стайками рыбки. Позади остались райские острова с их вечной пронзительной зеленью, с прохладой кондиционированного бунгало, ослепительно белым песком пляжей. Впереди виднелась только аквариумная гладь моря и восходящее над ними солнце. Оно не обжигало кожу, а грело их тела и души.
Он оставил весло и перешел на корму. Ласково, но настойчиво обнял ее. Она обернулась, ища своими губами его губы. Он целовал ее в шею и чувствовал нежную, подсоленную морской водой кожу. Так, целуясь, они медленно опустились на дно пироги. Она была все ближе и ближе. Это была такая близость, каких не бывает наяву…
Легкое касание маленьких грудей… Тепло и гибкая упругость живота… Еще мгновение. И они слились вместе…
В этот миг он просыпается.
XI
День тянулся томительно долго.
Под вечер Шурка взялся колоть дрова на зиму. Достал большой туповатый топор. Заострил его на точильном круге в сарае.
У огромной, наваленной валом кучи бревен спал Джуля. Когда Шурка принялся их с грохотом ворочать, он вскочил и ошеломленно уставился на него: чего, мол, ты удумал?
Из дома вышел в одних трусах брат Иван. Хмуро буркнул: «Привет!» – и пошел в сад к туалету. На его курносом помятом лице, в мутных глазах явственно проступали следы вчерашней попойки.
Возвращаясь, он остановился недалеко от Шурки, почесал грудь, посмотрел мутными красными глазами на работающего брата и опять повернулся к дому.
– Ты бы помог напилить, – сказал ему в спину младший брат.
– Сейчас приду, – недовольно шмыгнул курносым носом старший.
Иван постоянно ронял себя в Шуркиных глазах. Первое время Дубравин увлекся его рассказами о том, как он скоро пойдет учиться, будет писать стихи. Иван даже показывал младшему брату свою толстую тетрадь в коричневом переплете. Шурка читал. И радовался. Правда, рифма была какой-то вымученной. Но когда брат ревностно цитировал Есенина, Шурка думал: «Вот он у меня какой молодец!»
Но Иван походил, походил со своими стихами, повыпендривался, а потом опять начал попивать. Да и, откровенно говоря, обстановка не располагала к стихоплетству. Стаканы в деревне звенели по любому поводу. Бутылка красного или белого была самой твердой валютой на все случаи жизни. Привез старухе дров – бутылка. Помог украсть мешок кормов с совхозной фермы – бутылка.
Не заладились у брата дела и с девушкой, которая ждала его из армии. Когда Иван вернулся, отношения их пошли вроде бы на лад. И все думали, дело кончится свадьбой. Ну а так как характер у Танюшки был боевой, то в принципе она могла, что называется, взять дон-Ивана в руки. Но увы. Из этого ничего не вышло. Молодежь, что называется, не сошлась характерами. Иван по простоте душевной предложил девушке пожить с ним, не регистрируясь. В те времена в деревнях о таком и не слыхивали. В ответ она твердо постановила: либо законный брак со штампом в паспорте, либо ничего.
Шурка, глядя на постоянно пьяного братца, стал тихо ненавидеть его, поведение Ивана бросало тень на всю их семью.
Иван чувствовал это переменившееся отношение к себе со стороны младшего брата и злился. Он попытался было вернуть все на свои места с помощью пьяных откровений. Но натыкался на холодное презрение.
Вот и сейчас Шурка позвал брата пилить дрова так, для проформы, чтобы еще раз, с одной стороны, убедить себя в его никчемности и оправданности своего презрения. А с другой – показать Ивану его никчемность, вызвать чувство вины.
Ведь ясное дело, что в таком состоянии тот работать не мог.
Но неожиданно Иван вышел. Видимо, почувствовал в словах брата вызов. И решил доказать, что он в полном порядке. Хмуро, отплевываясь, выпил кружку воды и, не глядя по сторонам, встал к козлам. Шурка швырнул первое бревно.
Зазвенела разгибаемая двуручная пила и вгрызлась в мягкий бок белолистки, как еще называют пирамидальные тополя. Шурка завелся с пол-оборота. С ходу взял такой темп, что через минуту отпиленный чурбак глухо стукнулся оземь. Не останавливаясь и не сбавляя темпа, передвинул пилу дальше.
И пошла потеха. Только летели опилки. И стучали оземь чурбаки. Через пять минут оба взмокли так, что хоть рубаху выжимай. Шурка, не останавливаясь, то и дело мотал головой, сбрасывая наземь прозрачные капли пота со лба. Рука уже саднила от неудобной рукоятки. Сердце колотилось в груди со страшной силой.
«Точно мозоли кровавые будут, – думал он. – Ну, ничего. Пробьемся. А ты, браток, терпи. Гад такой. И какой вчера дебош устроил! Как свинья. Орал. Дергался. На отца кидался. Еле усмирили тебя. Пьянчуга!»
Похмельный Иван тоже пока терпел. Он чувствовал отношение младшего брата. И, видимо, пытался доказать, что все ему нипочем. Но видно было, что силы его на пределе. Он тяжело дышал, сопел. Лицо побагровело. Когда допилили третье бревно, Иван не выдержал. Пока Шурка вытаскивал и укладывал на кривоногий, грубо сбитый козелок очередной ствол, молча присел в тени сарая.
– Ну что, перекур?!
– Какой такой перекур? – ответил Шурка, любивший яростную работу, в какой он мог бы дать выход своей натуре, а сегодня еще и желавший досадить Ивану. – Только начали. А ты раскис. Ну ладно, отдыхай! Я сам…
Иван сорвался с места, сжал кулаки, подлетел к нему. Яростный, ненавидящий.
– Я тебе, сволочь, сейчас покажу! Все выпендриваешься? Щенок! – он уже развернулся, примериваясь…
И тут в Шурке перещелкнуло. Видимо, сорвалось долго сдерживаемое раздражение против брата. К тому, что не оправдал надежд. К его бестолковости. К пьяным разборкам по ночам.
Шурка схватил лежавший рядом колун. Выпрямился и процедил, трясясь от ярости:
– Только тронь меня, сука! Изрублю на куски!
Он видел сейчас только красные с прожилками глаза Ивана.
Иван ощутил ярость брата. Увидел, как у того с лица отливает кровь, и понял: тот действительно сейчас пустит в ход топор.
– Психический! – прошипел он, отступая. Повернулся и ушел в дом. А Шурка взял первый попавшийся чурбак. Поставил его торчком на колоду. И ахнул топором со всего размаху так, что чурки полетели в разные стороны.
Джуля, спавший у своей будки, вздрогнул и насторожил уши. А он колол дрова неистово, яростно, вкладывая в каждый удар всю силу молодого тела. Когда попадался сучковатый пенек, насаживал его легким ударом на топор, переворачивал и бил обухом о колоду так, что все вокруг вздрагивало.
Иван больше не показывался из дома.
Собака в ужасе спряталась в будку. А он все махал топором в яростной тишине, грозный, как бог.
Потом снес наколотые дрова в сарай и аккуратно сложил там в поленницу.
«Что здесь за жизнь такая? – думал он уже без гнева, а только с чувством какой-то печали. – В сущности, и наш Иван неплохой. Что-то хотел сделать. А теперь во что превратился? Как все здесь. Пьяница. Засасывает здешняя жизнь. Заживо человека хоронит. Любого. Бежать надо. Бежать отсюда, из деревни», – неожиданно закончил он.
XII
Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста!
Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей.
Песнь песней Соломона. Гл. 4Вначале был взгляд. Внимательный и пристальный.
Затем он увидел глаза. Большие, круглые, золотисто-зеленые.
После стычки с братом, который по приезде загулял, Шурка третий день ходил сам не свой. Хмурый и серый. Сознание без остановки прокручивает то одну, то другую безобразную сцену. И вот сейчас он натыкается на эти глаза и погружается в них. В другой мир. Мир, в глубине которого, в самой глубине зрачков, что-то изменчивое, ласкающее, теплое. Душа?!
Он улыбается.
И приходит свет. Этот поток света пронзает его от макушки до пяток.
Входит в сердце, смывает все: злость, обиду, раздражение. Вот он будто сидел в темноте, в яме. И вдруг его оттуда достали. На солнце.
За светом вплывает в душу радость. Такая огромная, что не вмещается в ней. Он чуть не задыхается от счастья. Невольно губы сами складываются в глупо-блаженную улыбку. Становится тепло и спокойно.
А в глазах напротив уже нет сочувствия. В огромных черных зрачках скачут озорные бесенята.
Она подмигивает ему и отводит взгляд.
И вдруг он чувствует, что с этой минуты ему чего-то будет постоянно не хватать. Как будто он маленький-маленький человек и вдруг потерял маму.
Так приходит чувство.
XIII
Неспешной чередою, день за днем, тянется вечность. Внешне мало что изменилось в жизни Шурки Дубравина. Так же собирались на тренировки ребята, так же он ходил в школу. Но душа его была смущена.