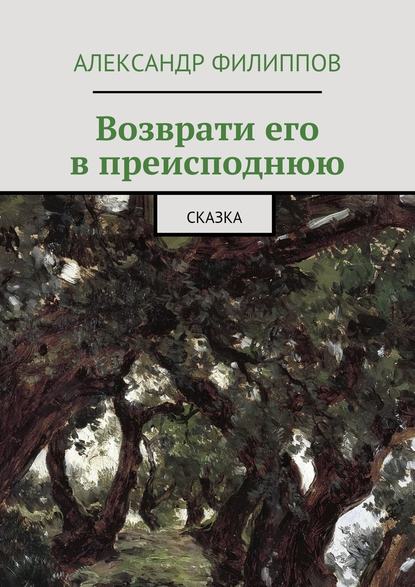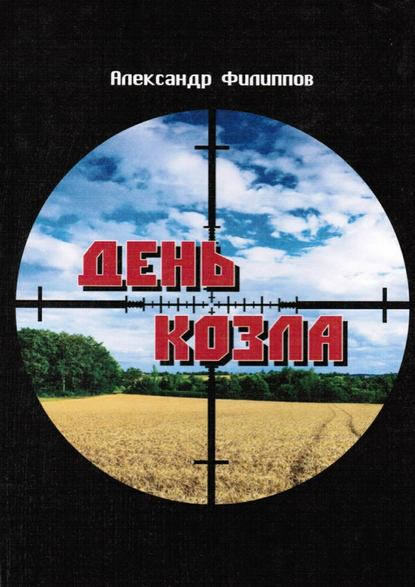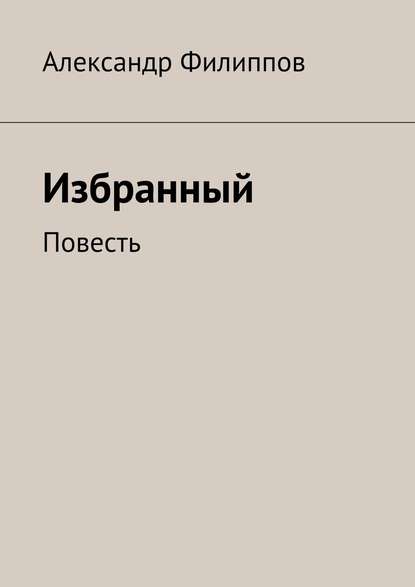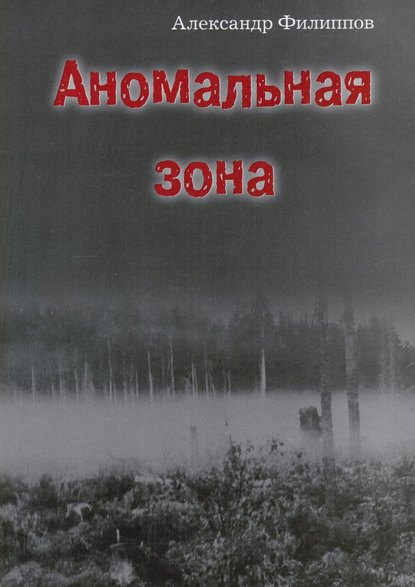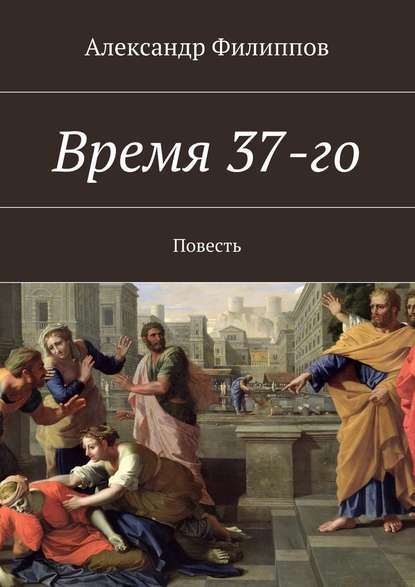Полная версия
Вот кто-то с горочки спустился…
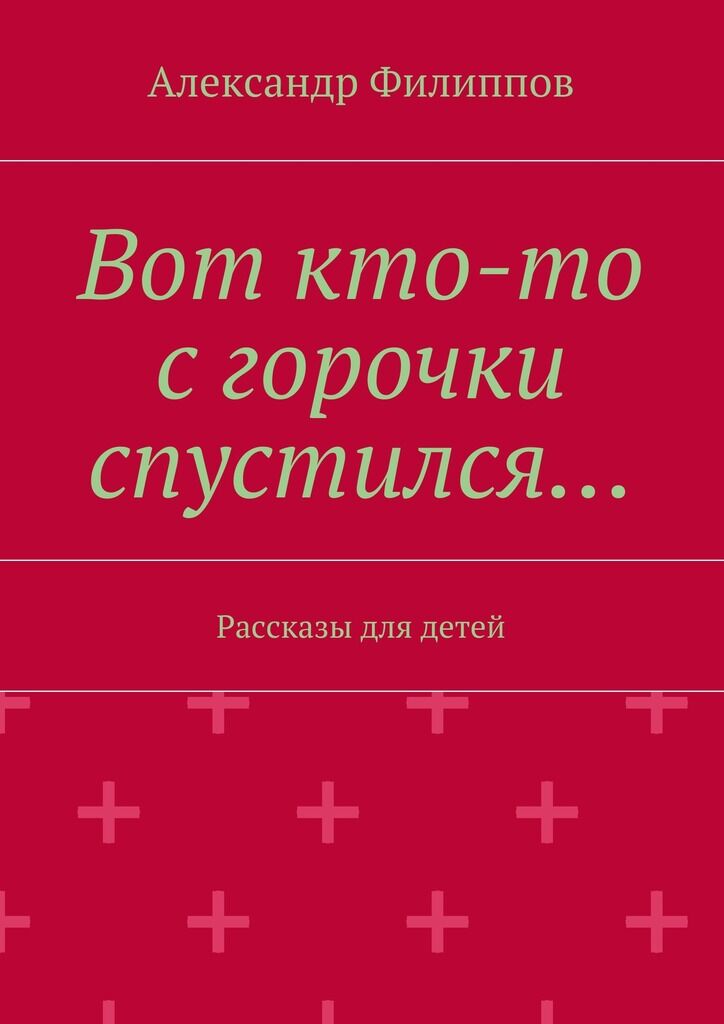
Вот кто-то с горочки спустился…
Рассказы для детей
Александр Филиппов
© Александр Филиппов, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Мартын
Отец мой держал голубей. Жили мы тогда на окраине города. Двор наш упирался в ряды колючей проволоки, а дальше высился дощатый забор исправительно-трудовой колонии, именуемой в округе еще по-старому – «лагерем». Стоявшая когда-то на отшибе, в степи, колония постепенно застраивалась вокруг одноэтажными особнячками, и народ здесь селился разный, все больше ухватистые, оборотистые шофера да рабочие близлежащего сверхсекретного по тем временам завода. Служил отец в звании майора. Тем более странным казалось и окружающим, и сослуживцам его увлечение, подхваченное не иначе как при общении со «спецконтингентом»… Двор у нас был большой, с несколькими хозяйственными пристройками. Голубятня располагалась в дощатом засыпном сарайчике, рядом с курятником. Грудастые, с распущенными веером хвостами, топтались там «павлиньи» голуби – приседая, подпрыгивая, раздувая зобы и воркуя раскатисто перед маленькими равнодушными голубками.
В ясную солнечную погоду отец гонял голубей. Высоко взлетев, превращалась стая в разноцветные точки на синем, с далекими перистыми облаками, небе. Славились отцовские голуби своими «заигрышами» – когда вначале один, а за ним и два, и три голубя начинали вдруг переворачиваться, кувыркаться через хвост, «играть» высоко над землей, и через минуту каскад ярких белых, красных комочков стремительно сыпался вниз, отчаянно крутясь в падении. Нередко одна из птиц, так и не перестав кувыркаться, с мягким стуком билась о землю, оставаясь лежать неподвижно, а из клюва ее выступала, темнела и наливалась толстая капля крови.
Особый азарт несет в себе охота за ««чужим». «Чужой» – это отбившийся от стаи голубь. Завидя такого приблудного чужака, голубятники, или «кошкари», как называли их в нашем поселке за лютую ненависть к кошачьему роду, мигом шугали своих птиц. «Чужой», присоединившись к стае и покружившись некоторое время, опускался вместе с ней во двор, и оставалось только не спеша, осторожно загнать его в голубятню. Чтобы приманенный голубь не улетел, а успел привыкнуть на новом месте, ему связывали толстой ниткой несколько основных перьев на крыльях или вовсе подрезали их. Потом перья отрастали, и голубь вновь мог летать. Если у «чужого» находился хозяин, то полагалось дать выкуп – деньгами, водкой, и только после этого разрешалось забрать голубя.
Иногда «чужой» уводил всю стаю. Случаи такие считаются редкими, почти невероятными. В нашем поселке отличался этим крупный черный голубь по кличке Мартын. Его знали и боялись все голубятники. Рассказывали, что принадлежал он к легендарной породе черных турманов, отличавшихся исключительной преданностью и благородством…
Хозяин Мартына – одноногий, обходящийся одним костылем старик – не признавал никаких выкупов. Пробовали соблазнять его мужики и деньгами, и водкой, а порою и били под горячую руку – шутка ли, потерять в одночасье стаю отборных летунов, – но инвалид, хотя и слыл выпивохой, всякий раз поступал одинаково: загонял пойманных птиц в сарай, затем брал по одной, закладывал голову трепыхавшегося голубка между средним и указательным пальцами и с силой встряхивал рукой сверху вниз. Головка оставалась в его большой, натруженной костылем ладони, а тушка птицы билась несколько секунд на земле.
Однажды кто-то забрался во двор к старику, сломал на голубятне замок и утащил всех птиц. Целый месяц дед ходил пьяный и орал возле пивнушки, размахивая кривым костылем:
– Я вас, б…, всех посажу! У-ух, ненавижу…
Жизни лишили!
Мужики посмеивались над ним, перемигивались и показывали толстые, с обломанными ногтями, кукиши:
– На вот, гадина колченогая, почмокай! Садилка твоя, небось, давно крючком загнулась!
Дед лез драться, бил мужиков костылем, прыгая на одной ноге, а мужики ставили ему подножку и хохотали мстительно за обезглавленных голубей своих, глядя, как возится пьяный инвалид в заплеванной пыли у пустых, кисло пахнущих пивом бочонков.
Через месяц кошкари приуныли. Мартын с неумело, грубо подрезанными крыльями, по крышам, то прыгая, то делая короткие, в несколько метров перелеты, обманув кошек и людей, вернулся к своему хозяину и вскоре вновь закружился черной точкой, одиноко мотаясь в небе над поселком. Мужики, не на шутку озлившись, палили в него из ружей, пацаны стреляли из рогаток, но все было напрасно. Дробь не доставала Мартына, а мальчишеские рогатки чаще попадали камнями в стекла окон, высаживая на излете целые звенья.
Пожилой участковый – толстый, задыхающийся от жары и дыма своих дешевых вонючих сигарет, с красным и злым лицом бегал от двора ко двору, штрафовал за пальбу и выбитые стекла, отбирал ружья, грозил судом и, наконец, нагрянул к одноногому старику, строго предупредив:
– Ежели ты, дед, эту войну не прекратишь и своего дьявола не запрешь – я тебя привлеку!
– Ать, едреня-феня! – радостно скалил щербатый рот дед. – Аль у меня правов на частную собственность нету? Ан есть права! Теперича есть! Я, гражданин-товарищ, за энти-то права двадцать лет дровишки в Туруханском крае рубил. Начальников-то поболе тебя, пострашнее видел… А ты меня на арапа не возьмешь. Отсидел я без вины, по ошибке Но не обижаюсь, я ж понимаю…
– Ты, старый, к ошибкам-то не примазывайся. У меня насчет тебя тоже кой-какие сведения имеются! Не зря ты лес рубил, ой не зря… И кончай мне тут бакланить, агитацию разводить! Предупредил я тебя…
Старик не сдавался, брал на горло, драл на груди серую засаленную рубаху:
– А када оне в пивнушке надо мною, инвалидом обстоятельств, изгалялись, ты иде был? Фиги в рыло сували – ты видел?! Ты теперича меня охранять от бесчинств разных должон, поскаль у меня все положенные гражданину бумаги имеются… А голубьев я ихних не маню! Вон те Мартын, с него и спроси!
Участковый, харкнув желтой табачной слюной, ушел, громко звякнув щеколдой калитки и бормоча:
– Что не праздник – то амнистия. Навыпускали вас, сволочей… Вот зараза! Ведь пристрелят же заразу, а мне отвечай! Придурок лагерный…
Однажды я застал отца во дворе за странным занятием. Он сидел на корточках, привалившись спиной к теплой кирпичной стене, и, по привычке закусив губу, хмуро строгал рогульку из ветки клена.
– Ты чего, пап? – спросил я. – За воробьями собрался?
Отец сердито и как-то обиженно взглянул на меня и не ответил. По лицу его бежали капельки пота, и он торопливо смахивал их рукавом старой форменной рубахи.
– Увел, падла! – выругался отец. – Весь выводок весенний сманил. Голубки-то молодые, глупые, только-только на крыло стали. Ах, Мартын-Мартын, ах… собака! Я не видел даже, откуда он и налетел-то…
– Может, сходим к деду? – несмело предложил я. Было мне в ту пору лет десять и, зная крутой норов отца, я здорово рисковал со своим советом…
– А-а… бесполезно, – криво усмехнулся отец. – Он уже им головы поотрывал и лапшу сварил, идиот! Мало били старого дурака…
Я стал помогать отцу делать рогатку.
– Ты вот что, – сказал отец, когда рогатка была готова, – дуй голыши собирать. Ищи вот такие, – и он дал мне крупный, величиной с грецкий орех, камень.
– Сколько надо? – поинтересовался я, зная, что такие камушки в нашей степной местности так просто не отыскать.
– Штук двадцать!
– Э-э… – заныл я. – И где ж я их наберу-то?
– А не наберешь – к голубям на пушечный выстрел не подходи! – отрезал отец, и я поплелся собирать камни.
На поиски ушло полдня. Я складывал голыши прямо под майку, и она раздулась, отвисла на животе, а когда я нагибался, то камни перекатывались там с дробным стуком.
Отец осмотрел мою добычу, ругаясь:
– Ну что ты притащил! Таким булыжником в кобелей бросать!
Я вздыхал, а отец один за другим швырял мои камни в сторону.
– Взяли бы ружья да ка-а-ак жахнули! Только перья бы полетели!
Отец молча собрал оставшиеся камни в коробку, туда же сунул рогатку и ушел.
Тем временем высоко в небе над поселком целыми днями кружил Мартын. Кошкари притихли, и редко отваживался кто-нибудь поднять своих голубей, хотя погода держалась хорошая – ни ветерка, ни облачка в небе. Пусто было в поселке. Калились под степным, душным зноем железные крыши особняков, куцые тени от деревьев темными пятнами падали на высокие, плотные, доска к доске, заборы, за которыми гремели цепями одуревшие от жары, но по-прежнему злобные и чуткие псы. Воздух горяч и недвижим, сонная, разморенная тишина стоит вокруг. Только изредка прогрохочет, подпрыгивая на ухабах, грузовик, поднимет густое облако пыли, и долго потом плывет оно в воздухе, невесомое, между сухой растрескавшейся землей и белесоватым, недостижимо высоким небом. Пробежит лохматая бродячая собака с шалыми, выпученными от жары глазами и с капающей из алой клыкастой пасти слюной, и редкие прохожие торопливо шарахаются в стороны: не бешеная ли?
Как-то утром, выйдя из дому, отец вдруг бегом вернулся в комнату, схватил коробку с рогаткой и выскочил во двор, а я, еще не оклемавшийся со сна, помчался за ним.
Во дворе, на крыше сарая примостился Мартын. Он обхаживал белую молоденькую голубку, у которой только недавно появились птенцы, и она впервые после долгого сидения в темной голубятне выбралась погреться на теплой в утренних лучах солнца крыше. Отец замер и осторожно, стараясь не вспугнуть птицу, заложил в кожицу рогатки камень.
Мартын все так же ворковал, притоптывая, только головка его с маленьким породистым клювом тревожно завертелась по сторонам. Он взмахнул крыльями, косясь на отца блестящими бусинками глаз, и торопливо забегал по крыше вокруг голубки.
И страшно мне было за Мартына, потому что знал я, через мгновение щелкнет рогатка, и Мартын подлетит, перевернется в воздухе и упадет на утрамбованную землю, распластав свои черные, как у ворона, крылья. А отец – он не промахнется. И раньше случалось мне видеть, как, взяв у мальчишек рогатку, в шутку попадал он, не целясь почти, в разные, довольно удаленные предметы, а здесь Мартын – вот он, в нескольких шагах…
– Папочка, не надо, папа… – шептал я, видя, что натянул уже отец рогатку и, прищурившись, метит в голубя.
– Эх ты, баба! – с презрением взглянул на меня отец. – И в кого ты такая баба!
Он с досадой выстрелил. Камень со свистом ударился в стенку сарая и брызнул мелкими осколками. Мартын взвился, но, сделав над крышей круг, вновь опустился рядом с голубкой.
– Хар-р-рош паразит! – процедил сквозь зубы отец и крикнул голубю: – Пошел, дурак, пошел!
Сунув два пальца в рот, он засвистел пронзительно, с переливами, как умеют свистеть только старые кошкари. Мартын, не обращая внимания на отца, топтался вокруг голубки, раздувал зоб и, покачиваясь взад и вперед, ворковал громко и сердито. Смело наседал он на голубку и, когда, та, семеня мелко и стуча лапками по железной крыше, пробовала затесаться в стаю, Мартын грубо и требовательно преграждал ей путь, хватал за крыло и тащил в сторону, чтобы тут же начать крутиться, ворковать, приседать и подпрыгивать.
– Уведет, честное слово, уведет! – твердил я, и жалко мне было и Мартына, и голубей своих, и я любил и ненавидел этого дерзкого, нахального голубя.
– Ни хрена! – мотнул головой отец и, сунув руки в карманы синих галифе, прислонился к стене. – У нее ж пискуны! Куда она от них денется…
Отец присел на кучу бревен, похлопал себя по карманам:
– Сбегай за спичками, – попросил он, разминая в руках сигарету.
Когда я вернулся, он сидел все так же, глядя на воркующих голубей, и улыбался…
Мартын остался у нас. Вышел на другой день во двор вместе с остальными голубями и уже по-хозяйски, освоясь, толкался возле кормушки с зерном. Отец не стал связывать Мартына, а тем более, подрезать ему крылья.
– Этого черта ничем не удержишь. Захочет – останется, а не захочет – небо вон какое большое, просторнее земли… А на земле, как ни крутись, все равно голову сломишь… – сказал отец.
Через несколько дней Мартын опять взялся за старое и, промотавшись где-то весь день, вернулся к вечеру с пятью чужими голубями. Хозяин их скоро прибежал к отцу.
– Потолковать бы… – нерешительно начал он и, обернувшись ко мне, попросил: – Эй, малец! Сбегай-ка в огород, надергай нам лучку да пучок редиски…
Мартын снова и снова приводил голубей, и хозяева птиц тянулись к отцу со всех концов поселка. Выкупов отец, конечно, не брал, положение, как говорится, обязывало. А приходил народ разный. Некоторые, увидев перед собой колонийского майора, тушевались, пряча синие от татуировок руки и поблескивая смущенно «рандолевыми» фиксами зоновской работы, но общая страсть брала верх, и общались они вполне мирно, по-доброму.
– Ну что ты со шпаной связался! – ругалась на отца мама. – Тебя ж за это выгонят из органов к чертовой матери! Или бандюги эти прирежут где…
Но отец только посмеивался и уходил в голубятню…
Однажды днем ко мне пришли знакомые мальчишки. Желая похвастать перед ними, я небрежно распахнул голубятню и выгнал птиц во двор. Отец был на службе, но гонять голубей без него мне не возбранялось. Надувшись от важности, брал я, красуясь под взглядами пацанов, голубя за голубем и подбрасывал высоко в небо. Мартын отчего-то не давался в руки, отказываясь летать. Я сел с друзьями на теплые, липкие от выступившей смолы бревна и, поплевывая сквозь зубы, врал о чем-то, пользуясь почтительным вниманием.
Вдруг рядом приглушенно кашлянули, и хриплый голос позвал негромко:
– Марты-ын… Мартынушка-а…
Я оглянулся и обмер. Посреди двора, опершись о костыль, стоял дед. Небритый, опухший, с красными, слезящимися глазами, он жмурился на солнцепеке и, не обращая на меня внимания, звал:
– Марты-ын… Пс-пс-пс… Ну иди, иди ко мне, сволочуга… Иди сюды, тварь.
– Эй, вы… – растерянно пролепетал я. – Уходите! Все папке скажу!
Дед покосился на меня красным глазом и ласково произнес:
– А ты, шельмец, не рыпайси…
Мартын, признав старого хозяина, недоверчиво, бочком засеменил к нему. Липкий, постыдный страх пригвоздил меня к бревнам. Я сидел, с ужасом глядя на грязного старика, на Мартына, который виновато приближался к бывшему хозяину.
– Кыш! – заорал я, решившись.
Мартын, взлетев, опустился на плечо старика и закачался там, расправив крылья и удерживая равновесие.
– Молодец, Мартынушка… – оскалился дед и, взяв Мартына в руки, заговорил тихо, поглаживая голубя по маленькой, гибкой шее: – Признал, стал быть, хозяина-то свово… То-то я гляжу – иде Мартынка? Нету Мартынки. А он вона иде, туточ-ки… Прохлаждаица! Позабыл, значитца, старичка… Ах, анафема, ах, подлец!
– Отдай голубя! – потребовал я, и голос мой дрожал, как перед большой дракой, в голове звенела пустота, сердце колотилось, а руки, сжимаясь в костистые кулаки, тряслись мелко и противно.
– Отдай голубя! – выдохнул я, наступая на старика, и в горле моем застревали сухие, шершавые комки, и оттого я не говорил, а сипел сдавленно и злобно.
– Ать, едреня-феня! Батюшки! – притворясь испуганным, отшатнулся дед. – Да кому он сдался, этот Мартынка… Ну на его тебе, бери, коли ты жадюга такой!
Дед схватил Мартына сильными пальцами за голову, рванул и протянул мне обезглавленное трепыхающееся тельце. Тонкая струйка крови стекала в пыль, сворачиваясь там черными комочками.
– Не хош? Ну, тада не говори, что я у тебя его отобрал… – усмехнулся дед и, широко размахнувшись, забросил мертвого голубя далеко в заросли травы у забора колонии. Под ногами, на забрызганной кровью пыли валялась черная головка Мартына, и на тусклые глаза его наползала мутная, голубоватая пленка.
– И ничего вы мне с папаней твоим не сделаете, – прошептал дед. – Это вам не тридцать седьмой год, энкаведе сраное!
Круто повернувшись, старик зашагал, припадая на скрипящий костыль, а я стоял неподвижно и чувствовал, как по лицу моему бегут злые слезы,
– Гад! – завопил я и, схватив с земли кусок битого кирпича, швырнул в удалявшегося деда. Кирпич шлепнул старика между лопаток. Дед остановился, повел плечами и, обернувшись, покачал головой:
– Нехорошо… А еще пионер! – сказал он грустно и заковылял со двора.
Возле сараев я вырыл ямку, положил в нее Мартына и присыпал сухой бурой землей.
Потом отыскал две щепки, связал их бечевкой и зачем-то воткнул в холмик маленький крест.
Медовые капли
Мне кажется теперь, что тогда и зимы были холоднее, свирепее, и сугробы – выше, темнее, а синие вечера – длиннее, и переходили они в ночь, эти вечера, трудно, не сразу обрываясь вместе с погасшими людскими окнами, а тянулись медленно, уныло, но какая прелесть была в этих вечерах!
Весь день бледное, призрачное, похожее на раннюю зимнюю луну солнце висело где-то над горизонтом и скользило вровень с далеким лесом, не поднимаясь выше над нашим домиком и полем перед ним – серым полем с торчащими из-под снега мертвыми травинками, заледеневшими кустиками и голыми, продуваемыми насквозь одинокими деревьями.
Во второй половине дня солнце, и без того едва видимое, уходило за такое же серое, как и поле, снеговое небо. Как бы нехотя, медленно ворочаясь, просыпался ветер и начинал задувать – вначале чуть слышно, почти неощутимо, а потом все усиливаясь и переходя в монотонный, наводящий тоску и сонливость свист. Поднималась поземка, и ветер слизывал сухой мелкий снег и нес его куда-то далеко в степь, засыпая попавшиеся на пути овраги, заборы и оставшиеся на местах бывших бахчей заброшенные остовы шалашей с пучками забившегося меж прутьев сена.
И когда наваливалась тьма, то не видно становилось ничего вокруг, только ветер свистел и метался в пустынном и безлюдном пространстве, перегоняя с места на место ломкие кустики перекати-поля. И не похоже это было на ночь, потому что ночь зимой холодна и спокойна, а вечера – тревожны, и, когда ветер к утру стихал, казалось, что вот уже и наступит сейчас ночь в своем ледяном звездном величии – но поднималась темная, хмурая заря и начинался новый день…
В такие ночи особенно тоскливо выл Налет – на редкость злобный для собак его породы рослый кобель – гончак. Отцу было не до охоты, а кобель рвался на цепи, скучал по вольному снегу, по стремительной гонке за бурым русаком, когда после гулкого выстрела можно вцепиться в быстро остывающую тушку, а потом, хрипя от злости и усталости, хрупать крепкими челюстями длинную заячью ногу – награду за удачный гон.
Часто Налет пропадал. Он срывался с цепи и уходил, перемахнув через полутораметровый забор. Возвращался спустя два-три дня, голодный, изгрызенный псами. Сторонился отца, ко мне относился равнодушно и лишь при виде мамы, которая кормила его, оживал, нетерпеливо повизгивал и тянулся мордой к пахучему вареву. Ел жадно, торопливо и много…
Мне, мальчишке, отец подарил ружье – легкую, красивую одноствольную «тулку» шестнадцатого калибра.
– Не будешь чистить – отберу! – предупредил он, и как чистил, как драил я свое ружье! И стоило только взглянуть сквозь дуло на лампочку, как оно загоралось, сияло ослепительным блеском, и хотелось тут же зажмуриться от сконцентрированного зеркальными стенками ствола света.
С вечера снаряжали патроны. Я выбивал старые капсюля из латунных гильз, рубил заточенной с одного конца трубкой картонные пыжи и писал на них цифры – номера дроби. Отец засыпал в гильзу порох, затем укладывал картонный и войлочный пыж. Сверху сыпал тяжелые черные дробинки и прикрывал еще одним пыжом – с номером.
Ранним воскресным утром отец разбудил меня и, полусонному, свалил на колени одежду.
– Одевайся теплее, на дворе мороз. И чтоб не ныл у меня, а то больше не возьму! – сказал он и вышел.
В прихожей горел ночник, и отец тихо, стараясь не разбудить маму и младшего брата Петю, собирал ружья. Тусклый желтоватый свет лампы отражался на замерзших окнах, и чувствовалось сразу – как холодно и неуютно там, во дворе, и как тепло и сонно в комнате с ее приглушенно бормочущим радио, мерным постукиванием больших настенных часов и тревожным скрипом пружин маминой кровати: если бы не отец, она никогда не отпустила бы меня на охоту.
Мы быстро собрались и вышли из дому. Налет, разглядев ружья, закрутился, повизгивая, на крепкой цепи. Должно быть, в такие минуты он забывал или прощал отцу все обиды.
Прямо у крыльца встали на широкие лыжи и пошли в степь. В степи было темно, холодно и пусто. Быстро скользил на лыжах отец, далеко вперед забегал Налет и потом стремительно возвращался, бросался из тьмы на лыжи, и я, спотыкаясь, падал, хватаясь руками за плотную корку снега.
– Пошел! Пошел! – сердито кричал я, а отец издалека отзывался:
– Налет! Ищи! Тут-тут-тут!
Пес торопливо срывался с места и снова мчался, описывая вокруг нас широкие круги в поисках затаившегося косого. Сухой морозный воздух щипал за нос, сводил холодом губы. Я торопился, шлепал тяжелыми лыжами о наст, поспевая за неясно виднеющейся впереди фигурой отца. Позади осталась золотистая россыпь огоньков окон поселка, а вокруг был только ночной мрак, скрип лыж и быстрое, частое дыхание собаки…
И как хорошо было потом, вечером, в тепле сидя за столом, смотреть на подобревшие глаза отца, на улыбчивую маму, вдыхать душистый парок над жареной зайчатиной – сочной и терпкой. Такой вкус у всего зверья, которое живет в поле и в лесу и, кажется, впитывает в себя все запахи трав, цветов, листвы и свежего, вольного воздуха.
Как хорошо было есть это душистое мясо, осторожно пережевывая и катая во рту сочные горячие кусочки, натыкаясь иногда зубом на смятую дробинку. Дробь, попавшуюся в убитой дичи, мы складывали в отдельную коробочку и верили, что если положить хоть одну такую счастливую дробинку в патрон, то не дрогнет рука, не ошибется глаз, и заряд попадет точно.
Вспоминая сейчас отца, я думаю – откуда у него, выросшего в пыльном степном городе, появилась непреодолимая тяга к природе? Все выходные дни, все отпуска свои проводил он в бесконечных охотах, рыбалках, а если не случалось ни того, ни другого, уходил в степь далеко от поселка и бродил там налегке, без ружья, возвращаясь затемно.
Лет с пяти отец, несмотря на протесты и увещевания мамы, таскал меня по рыбалкам и охотам. Возвращался я зареванный от подзатыльников, искусанный комарами, с болячками и насморками, но, если мама в другой раз становилась особенно решительной, не давая меня отцу, я плакал, и она, махнув рукой, говорила: «Сил моих больше нет! И что ж тебя, дурака, к забулдыгам этим тянет! Сожрут ведь комары, или потонешь где-то…»
На охоте мне доставалась самая неинтересная работа: собирать хворост, следить за костром, чистить картошку, ощипывать дичь, мыть посуду и оттирать речным песком черный, прокопченный котелок. Приходилось ходить загонщиком. В загонщики берут обычно каких-нибудь запьянцовских, крутящихся возле заезжих охотников мужичков из соседних сел да мальчишек. И тащились мы по колено, а то и до пояса в снегу, с головою ухая в заметенные сугробами овражки, драли охрипшие глотки, колотили палками по стволам деревьев, выгоняя зверей под выстрел.
Рыбачить отец не любил, да и не умел, по-моему. Когда летом приезжали мы на реку, он без интереса булькал удочкой о воду и через час-другой вовсе бросал рыбалку, уходил шататься по густым зарослям поймы. Под ушицу выпивал водки и снова пропадал, иногда забирая меня с собой – искать ягоды и грибы. Я прихватывал помятый солдатский котелок и долго бродил с отцом по берегу реки, где в тени, облепленные комарами, вызревали крупные, покрытые сизым налетом ягоды ежевики.
Отец мой, равнодушный к рыбалке, преображался, лишь только дело касалось охоты. Лучшим временем для охоты он считал раннюю осень, когда в знойном августовском воздухе повисает вдруг едва уловимый пока, тонкий запах увядания и на теплую землю по утрам опускается холодноватый туман. Листочки потемневших, пожухлых от жара лесов начинают вдруг желтеть, но продолжают еще крепко сидеть на ветвях – будто не веря и страшась, что вот она и наступила уже, эта казавшаяся такою далекою осень. И золотятся в прозрачном воздухе леса и стога соломы на пустых полях под чистой синевой высоких небес…
Есть среди наших степей зеленые камышовые острова на месте старых обмелевших и заросших озер. Камыши тянутся на многие километры, и где-то в середине, невидимая, притаилась узкая полоска чистой воды. Место это можно угадать по тому, как взлетают и садятся утки ранним утром и поздним вечером в центре камышового озера. По ночам оттуда разносятся далеко в степь крики птиц, тявканье корсаков и громкое визжание кабанят.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.