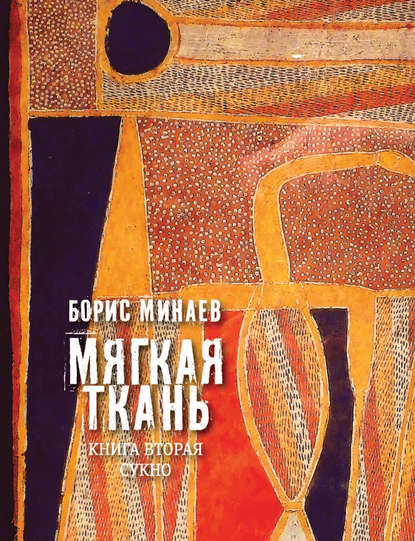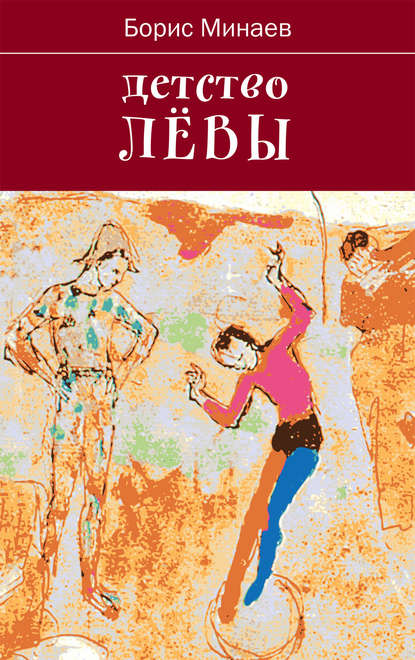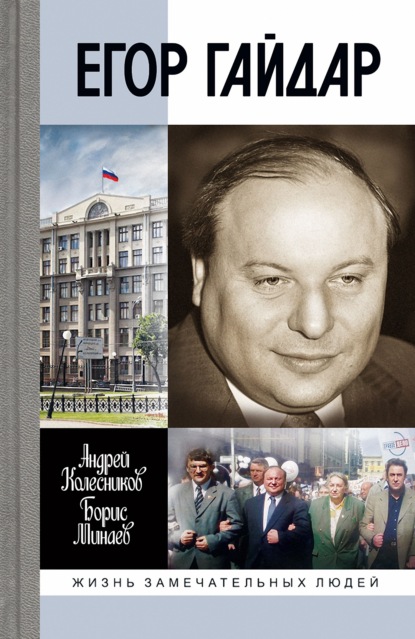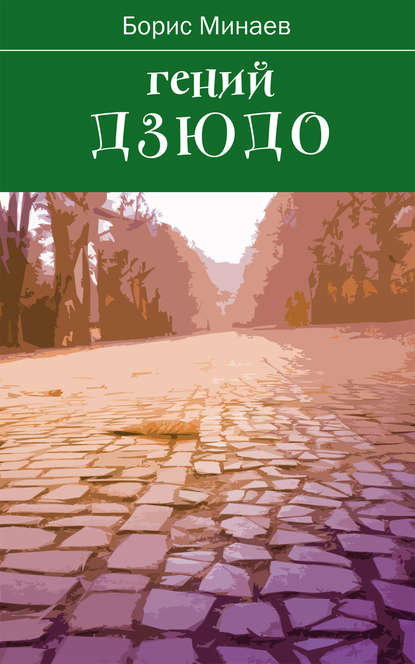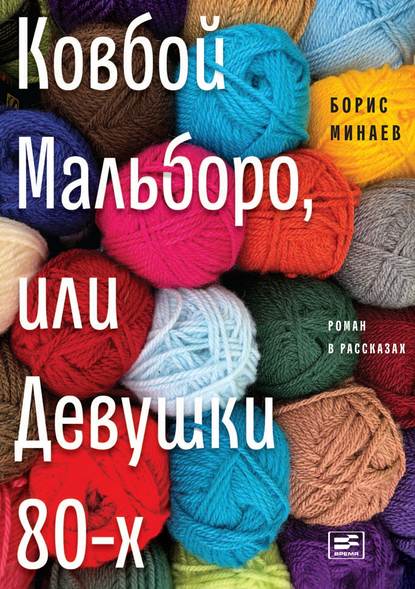
Полная версия
Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х
Москва в ту пору была довольно темным городом. Иногда, конечно, маячили какие-то слабо освещенные буквы: «Слава КПСС», или «Навстречу Великому Октябрю», или «Мир. Труд. Май». Но слишком много электроэнергии на эту ерунду тогда никто не тратил. Многие лампочки были неисправны, и содержание слов становилось загадочным и даже мистическим. Лампочки мигали в ночи как бы сами по себе, отдельно от смысла. Никаких сияющих во тьме огромных реклам, никаких огромных источников искусственного света – торговых центров, или крытых рынков, или платных парковок – еще просто не существовало.
Слабый свет в салоне одинокого автобуса порой был единственным подвижным огоньком на всей улице, не считая фонарей, которые горели совсем уж тускло.
В небе над Москвой еще можно было увидеть звезды.
В такое позднее время из темноты внезапно выдвигались совсем неожиданные лица. Граждане заходили в автобус и настороженно озирались.
Чаще всего это были просто усталые люди. Иногда люди, ищущие приключений по пьяному делу. Иногда – довольно одинокие в этом темном городе парочки.
На последних я смотрел с затаенной завистью. Они ласково прижимались друг к другу. Им было доступно то, что не было доступно мне. Для них было просто и понятно то, что было сложно и загадочно для меня.
Например, я никогда не мог пригласить ее в кино. Это было совсем, ну никак невозможно.
– А как ты себе это представляешь? – спрашивала она. – Идет взрослая тетя с таким малышом, и плюс к тому он еще все время к ней пристает.
– Ну а если я, предположим, твой брат? – тупо спрашивал я.
– Нет, знаешь, наших людей на такой мякине не проведешь! – вспыхивала она. А потом вдруг, сменив интонацию, жалобно просила: – Не мучай меня, ладно?
Домой она меня к себе не пускала. Как правило.
Мы часами гуляли на ее скучном бульваре имени какого-то великого советского генерала, сидели на скамейках, покупали хлеб в магазине, а если приходили вечером гости, то она посылала меня за вином – стоять в очереди вместе с алкоголиками.
Один раз даже послала сдавать белье в прачечную.
Но постепенно дни становились холоднее, и ей пришлось изменить политику.
Она стала читать мне свои статьи вслух.
Вообще для нее это был необычайно важный момент. Он был важнее всех ее мужей, важней подруг и друзей, и уж конечно важней меня, иногда важней настроения и здоровья, а иногда даже важней коммунизма – в который она верила как в торжество нравственного самосовершенствования и большой духовной работы (а не как в лозунги очередного съезда партии).
…Она очень хотела писать большие статьи в газету.
И она писала их, исступленно, по ночам, потому что днем она работала референтом в том же отделе, в котором хотела стать «разъездным» корреспондентом, а вечером у нее были дела, и одним из этих дел обязательно был я.
Поэтому, когда дни стали холоднее и я стал чаще попадать в ее однокомнатную квартиру, она начала использовать меня как первого слушателя. Вряд ли ей было важно именно мое мнение, но читать свои статьи вслух она считала необходимым. Вернее, фрагменты статей. Она проверяла эти фрагменты на слух.
Она так и писала – фрагментами, заполняя серые или желтые страницы писчей бумаги, которую я носил из редакции целыми тяжелыми сумками, – писала огромными замысловатыми каракулями. Каждый такой фрагмент был по десять-двадцать страниц. Потом из него получался абзац, ну или два абзаца.
Я, например, хорошо помню фрагмент про участкового милиционера. Этот милиционер взял шефство над девочкой из своего микрорайона, когда она сбежала из дома и стала ночевать в подвалах.
Это была хорошая девочка, которая даже писала стихи, но она больше не могла видеть свою пьяную мать, или пьяного отца, а может быть их обоих вместе, и вообще эта девочка была романтиком и стремилась к свободе, поэтому в школу ходить перестала, но участковый милиционер быстро ее нашел и буквально спас от хулиганов, от жизни в подвалах и от падения в пропасть. Он ходил вместе с ней по всем предприятиям своего микрорайона: столовым, прачечным, заводам и фабрикам, ателье и комбинатам бытового обслуживания – и устраивал ее на работу. Бюрократы устраивать на работу эту несовершеннолетнюю девочку не хотели, но участковый милиционер упорно обращался в партийные организации и комитеты комсомола, даже дошел до райкома, писал письма (вот так одно из писем попало в редакцию), он был, безусловно, человеком коммунистического будущего, хотя при этом довольно простым парнем, и наконец его стали подозревать в том, что его мотивы не совсем чисты, сначала на него написали анонимку, потом уволили, потом восстановили через суд, потом он уволился сам, и вот теперь они часто встречались и разговаривали – этот милиционер и эта девочка.
– Послушай! – сказала она и подняла на меня глаза поверх очков.
Ее глаза в этот момент сверкали. Эти рабочие, «домашние» очки были совершенно простые, обычные, как мне казалось, в такой тонкой железной оправе, но на самом деле они были тоже остро модные и заказать такую оправу можно было только по блату, в специальной блатной «Оптике» на Нижней Масловке, но об этом я узнал позднее, уже от другой девушки, а тогда я этого не знал и просто отметил про себя, что лицо ее в этих очках становится совершенно другим, более ясным и отчетливым, прорисованным и тонким, я лучше могу ее рассмотреть, и от этого пристального рассматривания мне становится жарко и душно.
– Послушай! – говорила она, подняв руку вверх и не отрывая глаз от написанного. – Только вот этот кусочек.
Слова звучали как музыка. Я слушал эту историю про одинокого милиционера, про одинокую девочку, и мне становилось тепло и светло.
– Но чего-то не хватает. Чего-то не хватает.
– А чего? – недоумевал я.
– Нужен какой-то ударный момент.
– Ты думаешь?
– Ну вот послушай… «Осень. Хлещет холодный дождь. Мокрые листья прилипают к асфальту. Кажется, что в это время года все одинокие люди еще более одиноки, чем всегда. Но я знаю, что где-то там живет человек, который ждет меня у окна, читая книгу под лампой с зеленым абажуром…»
Я выходил на улицу с горящим лицом и некоторое время просто стоял, вглядываясь в темноту.
Однажды она читала мне даже тезисы своего выступления на открытом партийном собрании. Ее попросили выступить как молодого коммуниста. Остро и неожиданно.
– Ну послушай! – сказала она и подняла руку. – «Для нас, молодых коммунистов, это не просто красивая идея, абстрактная мечта, не просто система взглядов или научная теория. Коммунизм – это прежде всего тот нравственный идеал…»
Однажды во время чтения я просто снял с нее очки и привлек к себе.
Она этого совершенно не ожидала.
– Положи куда-нибудь, чтобы не разбились, – прошептала она.
И я положил их в нагрудный карман куртки. Была у меня такая синяя куртка от индийского джинсового костюма.
Куртку я потом снял.
– Выключи свет, я тебя стесняюсь, – прошептала она.
С улицы в однокомнатную квартиру проникал слабый свет фонарей.
Потом я снял рубашку.
– От твоей кожи пахнет парным молоком, как от теленка, – насмешливо прошептала она.
Я пожал плечами.
Резко зазвонил телефон. Она вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами по полу. Я вежливо закрыл глаза.
Она долго сидела на стуле и разговаривала, завернувшись в занавеску.
Потом положила трубку и глухо сказала:
– Тебе пора домой. Слышишь? Мне надо работать.
Я быстро оделся, попрощался и тихо закрыл за собой дверь. Она уже сидела за столом и писала. А может быть, только делала вид…
Уже войдя в метро, бросив пятак и спустившись по эскалатору, я зачем-то сунул руку в нагрудный карман куртки.
Остановился. Минуту подумал и поехал назад.
Я не мог оставить эти очки у себя. Даже до завтра. Не из-за мамы. Какая ерунда. Нет, я просто знал, что она всю ночь будет писать статью.
Я хотел вернуться, но только из-за очков.
Было часов восемь. Я прикинул – полчаса туда. Потом обратно еще час. Нормально, успею даже до одиннадцати.
В ту пору я иногда приходил домой под утро, и ничего, как-то жил.
Иногда она спрашивала меня:
– Слушай, а у тебя же, наверное, есть домашние задания, уроки какие-то… Когда ты все это успеваешь?
Я ответил, что не успеваю.
– Ну и ладно! – весело отмахнулась она. – Подготовишься экстерном. Сейчас все так делают. Нынешняя школа слишком консервативна. В ней не учат мыслить. А тебе это совершенно необходимо.
– Почему? – удивился я.
– Ну ты иногда бываешь, знаешь… слишком прямолинейным, – засмеялась она чему-то своему.
В общем, путь предстоял не близкий. Туда, обратно. А сколько еще там? – задумался я.
Умные люди всегда ходили с книгой, а я нет. У меня не было удобной сумки или рюкзака, куда можно было бы положить книгу, поэтому, шляясь, я вечно придумывал разные истории, воображал себе невесть что. Как ни странно, я довольно часто ощущал себя (в этих фантазиях) в ситуации «последнего слова», то есть в моей туманной голове не возникало четкого сюжета, а возникал лишь последний, то есть самый последний момент, как бы перед смертью, или перед казнью, или перед выходом в открытый космос, или перед последним боем, когда я должен попрощаться со всем миром и вообще как-то кому-то объяснить, что я об этом обо всем думаю.
Почему я должен был так рано умереть, мне было неизвестно, но «последнее слово» складывалось в голове легко и незаметно.
«Я ухожу, – думал я в автобусе, пытаясь протиснуться куда-то ближе к середине, – я ухожу, чтобы вам всем, оставшимся, жилось светлее и, может быть, легче. Я ухожу не с тяжелым чувством своей ненужности, нет. Я ухожу, чтобы когда-нибудь вернуться…»
Прижавшись горячим лицом к стеклу, я повторял про себя эту чушь и пытался понять, где же сюжет, который объяснит мне смысл «последнего слова», и почему оно так важно, и кто его слушает.
Вдоль московских улиц стояли деревья.
Их было много. Везде.
Желтые листья, которые вскоре должны были облететь, падали на крышу автобуса, на асфальт, на тротуар. Город двигался мне навстречу, темнея. Я ехал к ней, чтобы отдать очки.
Войдя в знакомый двор, я остановился.
Что делать дальше, я не знал, вернее плохо себе представлял. Как вежливый человек я не хотел возвращаться после того, как меня попросили уйти.
Кроме того, я боялся, что буду неправильно понят. Да и сам я боялся что-то неправильно понять.
Честно говоря, мне хотелось оставить все как есть. Ровно в том же положении, в каком мы расстались.
Мне не хотелось продвигаться дальше. Я смутно понимал, что она этого тоже не очень хочет.
Тем не менее очки должны были быть возвращены.
Я подпрыгнул и сорвал с дерева кисть красной рябины. В темнеющем дворе пацаны играли в «собачку». Двое бросали мяч друг другу, а один пытался его поймать.
Я схватил одного малого за рукав, когда он побежал за мячом в кусты. У него было испуганное лицо, когда я взял его за плечо. Я ведь был большой взрослый парень.
– Знаешь двенадцатую квартиру? – просто спросил я.
– Да, – честно ответил малый.
– Отдашь? – и я сунул ему гроздь рябины вместе с очками.
– Отдам! – заорал он и понесся в ее подъезд.
Я еще постоял за углом, посмотрел, как он выходит обратно. Выходил он пустой. Ну то есть без очков.
– Ну как? Ты удивилась? – спросил я ее, позвонив ночью из-под одеяла, чтобы мама не слышала.
– Ужасно, – почти заплакала она.
– Что ужасно? – удивился я.
– Я была в старых разбитых очках, с одним стеклом… В каком-то ужасном халате. Взрослая тетка. Представляешь, что он подумал?
– Кто? – не понял я.
– Ну кто, твой мальчик! Кто-кто… Дед Пихто! – не выдержала она и повесила трубку.
…Когда это все-таки случилось и я добился своего, она спросила меня:
– Ну что, ты доволен? Ты выполнил то, что хотел?
Я не знал, что сказать. Кто знает, чего я хотел? Может быть, я хотел только произнести свое «последнее слово»? А может быть, я хотел стать настоящим коммунистом, не по форме, а по содержанию? А может быть, я хотел, чтобы эта осень длилась немного подольше, не как всегда? Ну хотя бы чуть-чуть…
Я надел рубашку и подошел к окну.
Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.
– Наверное, – тупо ответил я. – Наверное, да.
Платформа Турист
Танечка Милорадова (член ВЛКСМ с 1974 г., студентка заочного отделения Института культуры, армянка) никогда не увлекалась никаким пением вообще.
Она любила классическую музыку (Бетховен, сонаты № 14, 15, 27, 32 в исполнении Святослава Рихтера и Глена Гульда, «Багатели» того же автора, «Карнавал» Шумана, некоторые вещи Прокофьева и Скрябина в исполнении Софроницкого), она любила литературу (Цветаева, Ахматова, Пастернак, Илья Эренбург – «Хулио Хуренито» и другие ранние его вещи, Томас Манн – «Волшебная гора»), она любила красоту природы, хорошее вино, но когда некоторые ее друзья стали бесконечно бренчать на гитаре и мычать эту песенную лирику, ей пришлось глубоко задуматься.
Все это, конечно, ей претило и было даже неприятно.
Ну Окуджава. Да и то, прямо скажем, далеко не все. «Из окон корочкой несет поджаристой» – это что, пародия на дворовые песни?
Ну кое-что из Галича, но его толком никто из них не знал и петь не умел.
Уже начиная с Визбора начинались вопросы. Все эти «Кожаные куртки» она просто на дух не переносила. Не говоря уж о таких современных хитах, как «Ежик резиновый с дырочкой в правом боку». Это было просто за пределами добра и зла.
Поэтому когда ей предложили идти на «кустовой слет КСП», она, конечно, сильно удивилась.
Но тут, правда, у противоборствующей стороны были свои сильные аргументы.
– У тебя же есть хорошая палатка, правильно? – сказала Ивлева по телефону.
– Ну и что? – сопротивлялась Танечка. – Она, во-первых, родительская. Еще неизвестно, отдадут ли они.
– Отдадут. Если ты пойдешь, то отдадут, – уверенно сказала Ивлева.
Было понятно, что на палатку у всей их компании большие виды.
– Ну а что же мне делать? – тревожно спросила Милорадова. – Ну если я не могу все это слушать? Мне это неинтересно, понимаешь?
– Давай так… – спокойно сказала Ивлева. – Если тебе не понравится, я побреюсь налысо. Кстати, давно хотела попробовать…
– Скажи, а что такое «кустовой слет»? – подумав, робко спросила Танечка. – И вообще где все это будет происходить?
– Наш куст называется «Разгуляй», – торопливо объяснила Ивлева. – Место для слета еще не выбрали. Я тебе позвоню!
И повесила трубку.
Танечка посидела с трубкой, которая издавала тревожные короткие гудки. Телефон стоял на особой белой тумбочке в коридоре, чтобы всем было удобно. Она сидела на стуле и долго, даже положив трубку на место, не хотела с него вставать.
Нужно было принимать какое-то решение.
Нельзя сказать, что ее мир был слишком герметичным. Ну скажем, она как-то ездила на «картошку», от работы. Долго тряслись по разбитым дорогам, приехали в какой-то колхоз под Егорьевском, собирали картошку в жестяные ведра, спина заболела, но, пожалуй, все это было весело. Потом жгли костер, мужчины пили водку, неприлично шутили, женщины хохотали, она была одета тепло, в резиновых сапогах шерстяные носки, под курткой свитер, на голове шапочка, на руках старые перчатки, максимум неудобства – это когда надо было пойти в кусты пописать, но тут женщины сообразили, договорились, куда идти, кто стоит на стреме, как-то все это совершенно было спокойно и легко, она тоже выпила белого кислого вина половину стакана, вдруг откуда ни возьмись появилось солнце, она посмотрела на это бесконечное поле, на этот желтый лес, вспомнила стихи Пушкина, все это оказалось, в общем и целом, совсем неплохо. Ночевки, к счастью, никакой не предполагалось.
Или все эти субботники, открытые партсобрания – она работала в огромном научно-исследовательском институте, здесь такого добра было много, но все эти ритуалы были настолько проверены, даже тщательно выверены, что ни у кого не возникало вопросов: а зачем я здесь, что я здесь делаю? Всегда находились люди, которые четко все объясняли – работаем здесь два часа, эту хрень переносим оттуда сюда, а эту отсюда туда, сидим два часа, слушаем докладчика, выбираем президиум, голосуем за постановление, пропускать нельзя, чтобы не подвести Ивана Степановича, он хороший человек, а то кворума не будет.
И все было понятно!
…Ну а тут?
Вообще с этой поющей компанией ее познакомил мальчик Сережа Григорян, абсолютно русский армянин, который после этого внезапно от компании отвалился, оставив ее как бы в заложниках, а сам занялся чем-то совершенно другим – то ли йогой, то ли подпольным ивритом.
Но сказать «Нет, я к вам больше не приду» она почему-то никак не могла.
Здесь что-то ее держало, и вот теперь это непонятное «что-то» подвергалось большой, серьезной, фундаментальной проверке.
В компанию входило, наверное, человек десять. Хотя на квартире у Ивлевой (там была основная база) появлялись далеко не все сразу. Не было такого, чтобы эти люди собирались по обычным человеческим поводам – день рождения, Новый год, ноябрьские или майские праздники – как правило, в эти моменты все были как раз «на слете». А возвращаясь оттуда, всегда много рассказывали, хохотали, изображали в лицах, но эти рассказы Танечка совсем не любила, чувствовала себя чужой и всегда хотела пораньше уйти.
Очень часто они собирались по будням, звонили, например, и приглашали на вторник. Почему вторник, откуда вторник, кому удобно во вторник, она не понимала.
Как правило, говорили мало, в основном «распевались» или «репетировали», а проще сказать – бесконечно пели, пели хором, самые разные песни. Как человек может выучить столько песен, она не знала, это было неизвестное науке явление, но иногда Танечка даже пыталась подтягивать, иначе сидеть было скучно.
Наверное, в этом ее жалком «подтягивании» и было все дело, тут и располагалось это «что-то», чему теперь надлежало пройти проверку – потому что, попав один раз в эпицентр хорового пения, человек уже не мог оттуда выйти, в этом была какая-то магия – сидеть в центре звука, и она как культурный человек пыталась в этом разобраться.
Конечно, это было похоже на секту.
Да.
Но еще это были стихи и музыка. Может быть, не самые лучшие в мире стихи и не самая лучшая в мире музыка. Но иногда возникало такое пронзительное чувство, что она буквально сдерживалась, чтобы не расплакаться.
Ну и кроме того – Танечка не боялась себе в этом признаться – в этой компании (и прилегающих к ней кругах общения) были хорошие мальчики. Спокойные, доброжелательные, ироничные, разные по характеру, но какие-то симпатичные при любом варианте. Многие умели играть на гитаре, что тоже им шло. Мужчине вообще идет, когда он что-то делает руками, даже вот такое…
Ну и Ивлева.
Ивлева была очень резкой, но почему-то совсем Танечку не раздражала. Ее шутки Милорадову всегда смешили (ну вот как с этой идеей – постричься налысо), она умела интеллигентно ругаться матом, что Танечку просто завораживало, ну и многое другое. Ивлева умела быть «своим парнем», не теряя при этом присущего ей женского очарования.
Ивлева была какой-то машиной, производящей и сами события жизни, и необходимую для них энергию.
В Танечке все это пока не проснулось, и непонятно было, проснется или нет. Поэтому Ивлева была ее теоретическим курсом какой-то «другой жизни».
И вот теперь настала пора первого практического занятия.
Они приехали на станцию Турист днем – кажется, в час дня. На платформу высыпало сразу человек двести. Столько похожего, даже практически одинакового народу, да еще с гитарами, Танечка еще в жизни не видела. Пассажиры в электричке смотрели на них испуганно, просили громко не петь, кто-то попытался выставить их из вагона в тамбур, кто-то, наоборот, настойчиво лез знакомиться и общаться: какие, мол, хорошие ребята, не хулиганы.
В любом случае это была невероятно огромная толпа, которая Милорадову слегка пугала. Шли долго, растянувшись по проселку, как какая-то армия. Редкие проезжающие грузовики сигналили.
Небо между тем темнело и не предвещало ничего хорошего. Стояла вторая половина октября. Тревожное время, когда у Танечки всегда было не очень веселое настроение. «Куда я иду?» – спрашивала она себя и не могла найти ответа, ей было неудобно в сапогах, которые ей сразу натерли ноги, поскольку, кроме картошки, она ни разу их нигде не носила, а тут надо было пройти целых три километра, в этой неприятной брезентовой штормовке, от рюкзака болела спина, но главное, болело сердце, – словом, практические занятия пока не предвещали ничего хорошего.
Но постепенно она втянулась…
Большое небо в окрестностях платформы Турист, как писал поэт, «осенью дышало», но в этом не было привычного ей осеннего одиночества, ведь оно дышало для всех этих людей, которых становилось все больше и больше – колонна растянулась километра на два, а когда они наконец миновали перелесок и вышли к поляне, Танечка просто ахнула. Это было просто невероятно.
«Поляна» (так называла ее Ивлева) представляла собой гладкое, ровное как доска огромное поле с вытоптанной мелкой травой, с редким кустарником, а по обе стороны от поля поднимались небольшие пригорки, за одним из пригорков текла мелкая, спрятавшаяся в кустиках река, и все это пространство, на сколько было видно, оказалось усыпано людьми.
Люди ставили палатки, тянулись за водой с бидонами и ведрами, разжигали костры, сколачивали из бревен и досок сцену, уже, конечно, пели, настраивали гитары, она оглянулась – вокруг было несколько тысяч таких же, как она, ну или почти таких же, гавриков. По дороге ей попадались какие-то очень близкие, ну прямо до боли близкие лица, в некоторых девочках, растерянно и вместе с тем благодарно и восторженно бредущих в этой толпе, она почти узнавала собственное отражение, – то было переживание, равного которому она потом долгие годы не знала, а может, такого больше уже никогда и не было.
– Ладно, – командным голосом сказала Ивлева, – ставим палатку здесь, рядом со штабной. Танечка, пойдем за хворостом.
Ребята остановились, развернули ее палатку и начали вбивать колышки, она с интересом смотрела, как это делается, но Ивлева увлекла ее за собой. А ребята пошли рубить лапник – еловые ветки.
Лапник был, оказывается, нужен вовсе не для костра, костер будет общий, лапник был нужен, чтобы на нем спать! Это ее удивило.
– Как спать? – спросила она. – На земле, что ли?
– Ну а на чем? – засмеялась Ивлева. – Смешная ты, Танька. Конечно, на земле. Сверху лапник. Потом надувной матрас. Потом мешок. А ты как думала?
Она думала, что идет в цивилизованный поход, где все, в общем и целом, предусмотрено предыдущими поколениями людей, но оказалось, что «простудить придатки» или какие-то другие внутренние органы на слете КСП можно легко – если заранее не позаботиться о том, чтобы рядом с тобой оказались опытные туристы.
– Но тебе повезло! – на подъеме закончила Ивлева. – Рядом с тобой есть такие люди! Проблема-то в другом…
– В чем? – спросила Милорадова.
– Мои худшие предположения, к сожалению, подтвердились… – торжественно сказала Ивлева. – Он будет спать в нашей палатке.
– Кто? – опешив, спросила Таня.
– Леша Бирман, кто! – недовольно ответила Ивлева. – Я же тебе все рассказывала.
Действительно, с ее слов Таня знала о сложных переживаниях Бирмана по поводу его пассии – красивой девушки Оли Семеновой, которая прекрасно играла на гитаре и пела сильным низким голосом («контральто», думала Милорадова про себя). Впрочем, прервала она ход своих мыслей, Бирман ей не настолько интересен.
– А что случилось-то?
– Ну я же тебе рассказывала… У них там все очень сложно…
– А что сложно-то?
– Ну что-что, я не знаю что, это их личное дело. Но спать он будет у нас! Такие были последние известия.
Пособирав таким образом хворост еще с полчаса и поговорив о нелегкой женской доле, они вернулись назад.
Слет был устроен следующим образом – большая сцена, где ночью ожидался основной концерт, и несколько малых, где «кустовые слеты» выдвигали своих лауреатов и представителей.
Радиофицирована была только одна, основная.
Кустовые сцены довольствовались «живым звуком». Звук и безо всякого усиления разносился по лесу хорошо, чисто, как будто они пели в церкви.
Бросили куртки, сели на траву. Мальчики услужливо принесли маленькие какие-то то ли доски, то ли пни, быстро сделали удобные сиденья.
Слушали всякие песни, Танечка сделала над собой усилие и вся превратилась в слух. Тут, на «Разгуляе», выступали какие-то знаменитые группы из МАИ, МИФИ, МФТИ (пели они, конечно, довольно красиво), подруга Ивлева по-прежнему была в большом возбуждении, здесь вообще все было очень ярко и необычно и совсем не то, чего она ожидала, тем не менее она никак не могла избавиться от мысли, что еще кто-то, кроме них с Ивлевой, будет ночью спать в их палатке.