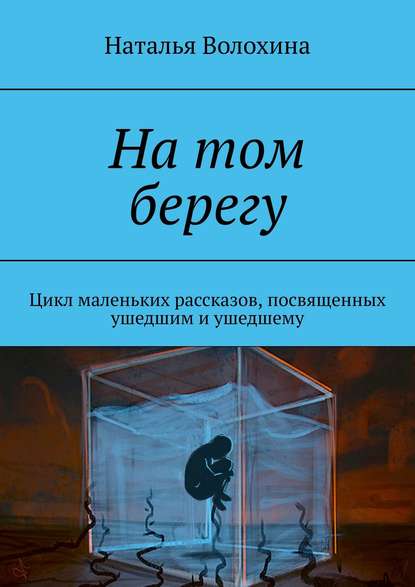
Полная версия
На том берегу. Цикл маленьких рассказов, посвященных ушедшим и ушедшему
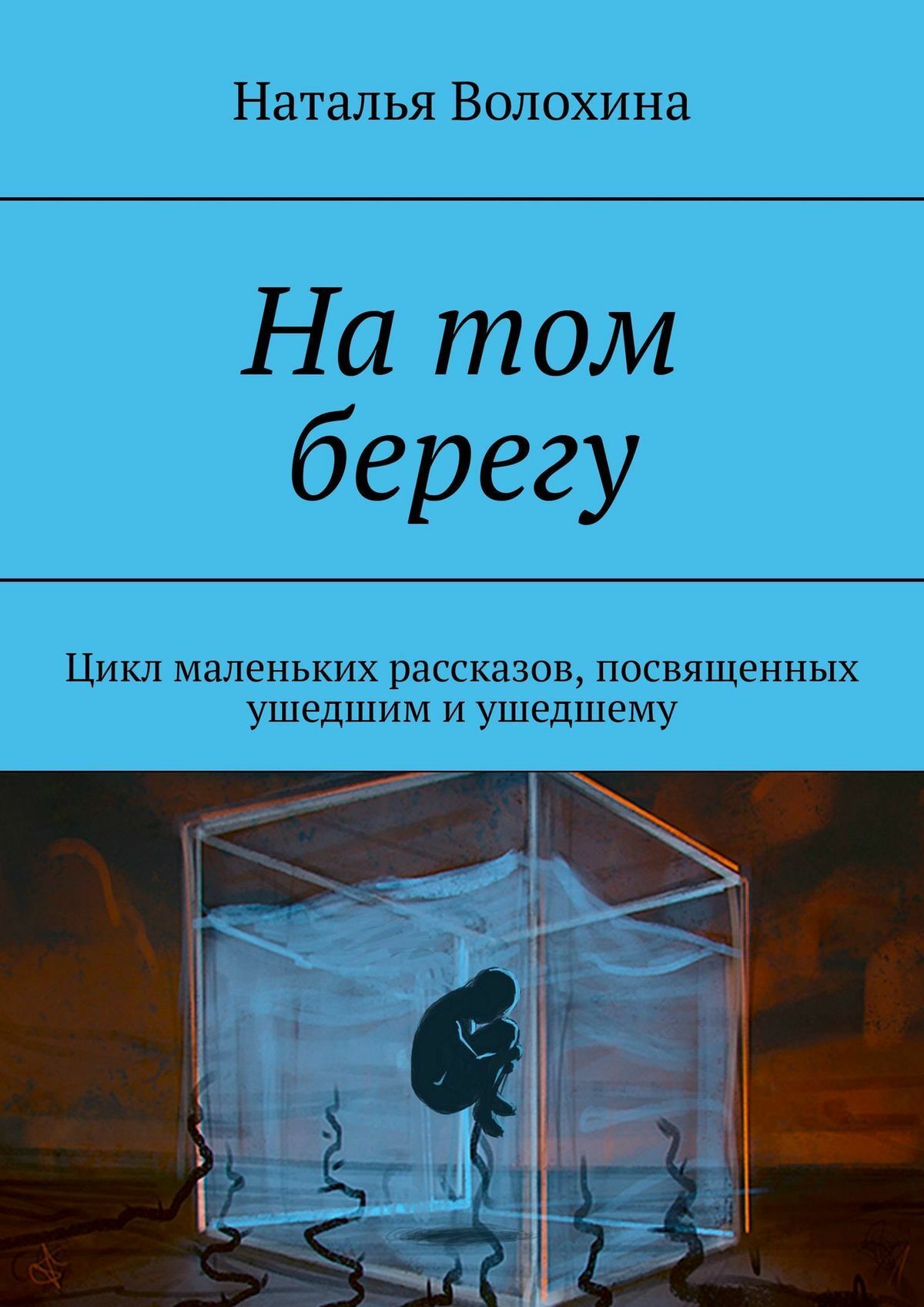
На том берегу
Цикл маленьких рассказов, посвященных ушедшим и ушедшему
Наталья Волохина
© Наталья Волохина, 2018
ISBN 978-5-4474-2149-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Берега, берега, берег этот и тот,
Между ними река – моей жизни…
Между ними река, моей жизни течет,
От рожденья течет и до тризны…
А на том берегу – незабудки цветут
А на том берегу – звезд весенний салют
А на том берегу, мой костер не погас
А на том берегу, было все в первый раз…
(Юрий Рыбчинский)Куда все уходят, куда?
Бегут, как подземные реки.
А кажется мне и не реки,
Куда все уходят, куда?
Слагают иные союзы
Попутчики славы моей…
Куда все уходят, куда?
Не знаю и думать не буду.
Я знаю, уходят отсюда,
И в сердце навек, навсегда
Бедою открытые двери
Грозой за собой затворив
(Алла Пугачева)От автора
Я благодарю людей, прошедших через мою жизнь, через моё сердце – друзей, родных, любимых. Живых и ушедших, оставивших неизгладимый след в моей душе. Люблю вас, тоскую о вас, благодарю вас, надеюсь на встречу на том или этом берегу. Простите за все, если можете.
Все имена и фамилии в книге изменены, совпадение с реальными людьми абсолютная случайность, за исключением имен моих близких родственников, которые в силу обстоятельств уже не смогут предъявить мне претензий.
Наталья ВолохинаГурий

Мой дед был младше меня на девять дней. Я родилась первого числа львиного месяца августа, а он десятого. Поэтому, он хоть и считался главой прайда, старшинство получалось моё. Дедушка приходился братом своей жене Дарье Григорьевне – тоже был Григорьевич. Имел Райское происхождение – звался Гурий. Из любимых сказок мне было известно, что Гурии живут в Райских кущах и поскольку они все особы женского пола, получалось, дедушка у них главный. Когда племянница называла его коротко «дядя Гутя», сразу же получала от внучатой Гурии выговор.
Потрясением стала встреча с женщиной – Гурией, тёткиной соседкой, оказавшейся на поверку Бабой Ягой, сидевшей в валенках при тридцатиградусной жаре на завалинке своей развалюхи. Наличие у старухи черной курицы убедило в её ведьмачестве и оправдало отсутствие у избушки ног. Сперла их шустрая квохчущая шельма! Оправившись от испуга, признавать старуху Гурией я категорически отказалась.
Гурий Григорьевич – «белый» брат «красного» командира. Первое надолго определило его на земляные работы, второе спасло жизнь.
Главное! Ни у кого не было такого красивого стеклянного глаза, как у деда. Впрочем, дедом его назвать было трудно, даже в пору моей юности. Когда в воскресный день мы совершали ритуальное шествие по «нашему» маршруту, все незнакомые принимали его за моего отца. Григорьевич в синем габардиновом костюме, голубой рубашке с распахнутым воротом, высокий, благоухающий воскресным одеколоном, ведет за руку маленькую девочку кукольной внешности и размеров. Дюймовочка состоит в основном из пышного платьица, полыхающего алыми маками, и красного банта. Дедушка го-о-ордый! Я первая и единственная, пока, внучка, он сам дал мне необычное, звучное имя, каждый выходной гуляет с ребёнком, как молодой папаша. Мы идем по родной улице Горького к знакомому магазину, покупаем две шоколадки «Аленка». Большая пойдет на угощение домашним, а маленькая, размером с ладошку, принадлежит только мне. Фантики со сказочной Аленкой аккуратненько укладывались в жестяную, раскрашенную коробку. Дальше в маршруте место тайное, запрещенное бабушкой страшным заклинанием: «Близко с ребенком не подходить», – уличная пивная. Одноногий стол гораздо выше меня, на уровне глаз только металлические крючки для авосек да дедовы синие брюки и начищенные ботинки. Вокруг дядьки, сдувая пену, пьют пиво, жуют рыбку, блаженно покуривают. Что делает дед мне из-под стола не видно, поэтому на бабушкин вопрос, пил ли он пиво, с чистой совестью отвечаю: «Не знаю». Хотя она и так унюхает «всего одну кружку».
Возможно, профессия наложила отпечаток на дедовский характер, но только утаить выпитую рюмочку дедушка не мог от бабушки никогда, и не только по причине запаха. «Купил разговор!» – немедленно раскрывала она его тайну. «Купи разговору – поговоришь», – советовала язвительно золовке, комментируя её неудачные попытки душевно побеседовать с братом. Но в трудные жизненные моменты именно дедушка говорил, где нужно и кому нужно, веское мужское слово, защищая интересы семьи.
На работе и дома проводил он в одиночестве целые дни в мастерской, напевая за работой. Радио в столярке никогда не было. Чистота, запах дерева, кружева стружек. Вся мебель в дедовском доме сделана его руками. Точеные ноги с фигурой восточной красавицы под огромным, круглым обеденным столом, рюмочки балясин на «последнем этаже» буфета, матовый блеск лака на дверцах шкафа, кожаный корабль дивана, с резной спинкой вместо классической полочки для слоников. «Столяр краснодеревщик» называлась уважительно его профессия, ныне убитая высокотехнологичным ширпотребом.
Пел редко. Играл на гитаре, на балалайке охотнее, но, если случалось ему петь, все замирали. Густой, мощный голос выдавал натуру волевую, чувственную. «Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно дождь шумел, и вихри в дебрях бушевали» – песня об атамане Ермаке воспринималась бабушкой, как протест всему мироустройству в целом и семейному в частности, она немедленно начинала шикать, что, мол, надо меру знать, пора чай разливать. Бдительность проявлялась уже на подступах к бунту. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой!» – низко, прочувствованно запевал дед. Обычно жена старалась пресечь митинг и перевести мятежника в безопасное русло: «Ой, папка, не надо о грустном, давай твою любимую». Иногда получалось, и «папка» начинал нашу с ним любимую: «Забота наша такая, работа наша простая… И снег, и ветер, и звёзд ночной полет…». Довольно долго я пыталась понять, что такое «извёст ночной полет», придумывая разные варианты, вместо того чтобы спросить, кто он, таинственный «извёст», делавший загадочной дедовскую песню.
Никогда не слышала, чтобы предки ссорились, просто появлялось какое-то напряжение – бабушкина непривычная молчаливость, дед же всегда был немногословен. Но на семейный уклад размолвки не влияли ни в коем случае. Каждое воскресенье дедушка становился бабушкой. Она не вставала с постели ни свет ни заря, не проводила время до обеда на кухне. Дед надевал коротковатый ему фартук и гремел отчаянно кастрюлями и противнями. В результате «погрома» на круглом, накрытом воскресной скатертью столе, появлялись его коронные блюда: холодец с хреном, рыбный пирог, куриная лапша. Меню страдало одним недостатком – перебором специй: соли и черного перца. Я мужественно – солидарно съедала все, сводя на нет бабушкину критику.
Стирка и глажка. Сам процесс я обычно не заставала, но дискуссии о его результатах слушала в течение всей следующей недели. Бабушкиной патологией домоводства я страдала лет до тридцати пяти. Стирать, полоскать на два – три раза, отбеливать, крахмалить, подсинивать, утюжить каждую складку строго определенным образом до идеального результата, долго переживая досадные промахи. Однажды, когда Григорьевич был в командировке, помочь вызвалась его племянница, о чем сильно пожалела. Безнадежно «испорченное» бельё Гурий вынужден был по возвращении перестирать и перегладить заново. Стиральные машины появились не очень давно, их результат облегчения физического труда некоторое время рассматривался бабушкой критически, до момента выведения собственной технологии машинной стирки. Тут надо уточнить одну деталь. Довольно молодой еще женщиной бабушка перенесла инсульт и до конца своих дней самостоятельно передвигалась только по дому, с помощью трости, переставляемых табуретов и множества ручек, закрепленных на косяках. При этом много лет идеально вела хозяйство большой семьи. Но сейчас речь о дедушке. У них с бабулей была настоящая семья. Мои родители не смогли повторить и части успеха их тандема. Разве что, дядя немножко приблизился к родительским пережиткам успешного домостроя. Построить дом, добыть продукты, наладить быт – кладовую, погреб, теплый туалет в доме (в те давние времена!), добыть новинки чудо – техники, как только они поступили в продажу (телевизор, радиола, стиральная машина, холодильник, увлажнитель воздуха – в 60-е годы, черт побери!), к Новогодним праздникам перебелить весь дом и украсить потолки нежно голубыми облаками, а стены модным «накатом» под обои (можно переделать, если жене не понравится), не забыть шампанское…
Долго берегли меня от взрослой жизни, храня семейные тайны. Думаю, это к лучшему, иначе человек лишается незамутненной радости беззаботного детства. Но взросление приходит неумолимо и превращает Деда Мороза в ряженого дядьку с оплаченными подарками. Уже в отроческом, или даже юношеском, возрасте, мне стала очевидной бабушкина ревность, а чуть позже понятна её причина. Впервые она поделилась со мной, как со взрослой, лет в четырнадцать, хотя, наверное, поспешила, а может, я была недоразвитая, но смысл произошедшего уловила не сразу. Сосед – большой начальник Петр Иванович, был на службе, а его супруга – сдобная, изнеженная Людмила Иннокентьевна (за глаза – Людочка), попросила дедушку помочь открыть заклинившую раму. Не было его, со слов бабушки, подозрительно долго, и она пошла к соседям. В дальнейшем эмоциональном словоизлиянии живописалась вся гнусность преступного деяния – созерцание соседкиного шикарного неглиже (пеньюара). Вместо того, чтобы покинуть бесстыдницу, возлежащую в соблазнительной позе на диване, дед продолжал ковыряться с окном. Понятливая подруга разъяснила мне, что раз не уходил – значит, возжелал, изменник! Бабушка-то все экивоками изъяснялась. И уж совсем взрослой я узнала от мамы, что, построив после войны дом, дед ушел к другой женщине, по причине внезапной страстной любви. Бабушка осталась с параличом на нервной почве и двумя маленькими детьми. Дед одумался, хотел вернуться, но куда там, гордость, ревность, обида за предательство не только не отпускали много лет, но и подняли на ноги эту железную женщину. Она согласилась принять мужа только на свадьбе старшего сына, моего отца, и разрешила остаться. Супруги пережили вместе «любовь» родины к ним, деклассированным элементам, страшную войну, голод, дедову дизентерию, общую цингу, бабушкину «куриную слепоту», тяжелую стройку под ссуду! Я никогда не слышала упреков и ссор, но дедовское молчание в ответ на любую бабушкину «правоту» стало мне понятным только после «взросления правдой».
Однажды бабушка еще раз пожаловалась мне на деда, обвинив его в оскорблении, долго не соглашаясь сказать «страшное», очень обидное ругательство. Через несколько лет я все же допытала её, слово оказалось «падлюкой». Вообще, мне неинтересно было жаловаться на деда, я совершенно искренне не верила и не понимала, что к чему. Кроме того, всегда становилась на его защиту, как и он на мою. Я прощала ему не только прегрешения против бабушки, но и по отношению к себе. Раз в месяц проводил он генеральную уборку и тогда, «кто не спрятался, я не виноват». Все, что не там лежало, не являлось вещами их дома, безжалостно отправлялось в мусорку. Жертвами «генералки» стали две пары моих моднейших перчаток, на его же деньги купленных, регулярно забываемых на полке в прихожей. Перчаток было жаль, но как только бабушка начала дедулю распекать, я немедленно перевела все в шутку. На третью пару мне, разумеется, выдали.
Мой сдержанный, молчаливый дед скучал обо мне всегда, а я, подрастая, все реже успевала забегать к старикам. Помню, как он приходил к нам и сидел с мамой на кухне за рюмочкой, говорил свой душевный, «купленный» разговор, потом мы провожали его до такси.
Львы болеют редко, но метко. В нашем прайде всё случилось неожиданно и судьбоносно. Я лежала в больнице, мучаясь страшными болями, борясь с опасной болезнью. Однажды ночью очень уж расшумелись в коридоре, и бессонная я пошла посмотреть, кого там привезли. У деда был постинсультный шок. Он кричал, вскакивал, падал с кровати, ничего не соображал, меня не узнал. У меня тоже был шок. Я не могла поверить, что это с ним, что это он, но не кричала, тихонько плакала в туалете. За ним ухаживали сначала дядя, потом отец. Я пришла в родной дом, непривычно пахнущий лекарствами, болезнью, страхом. Говорили, дед никого не узнает. Вывезли на коляске. Он узнал и заплакал, пытаясь выговорить моё имя. Я держала его за руку и слезы размывали родные черты, так и не утратившие благородной породы.
День, когда он ушел, был страшным. Я думала, что самое жуткое уже пережила на бабушкиных похоронах, ошибалась. Отец спустился в дедовскую мастерскую и сидел, тупо глядя на осиротевшие инструменты. В свое время папа именно там умрет – судьба! Хуже стало на кладбище. Невыносимая боль, будто меня по живому распилили надвое и закопали нижнюю половину в сырой яме вместе с дедом. Не было больше ног, опоры, половины души. И еще – пустые отцовские глаза!
Он ушел, оставив меня без защиты и любви, дедушка с небесным именем Гурий, нарекший меня вдохновительницей, наделивший львиной породой, дедушка, который был младше меня на девять дней.
2015 г.8-е Марта

Во времена моего детства 8-е марта считался рабочим днем, праздник был – Международный женский день (о чём международное сообщество не догадывалось), а выходного не было. По городам и весям необъятной родины: в детских садах, школах, организациях, предприятиях – везде, строго соблюдался ритуал чествования. Особ женского пола всех возрастов в средине рабочего дня мужская половина коллектива одаривала сувенирами, цветами, песнями. По завершению официальной части школьники отправлялись по домам, трудящиеся к праздничному столу с коллегами. Взрослые после возлияний разбредались кто куда – одни в семью, другие «продолжать» в гостях.
Всю жизнь моя бабушка была домохозяйкой. Совсем не советская профессия, да и праздника «8- е марта» не было в её дореволюционном детстве. Поэтому каждый год, когда моложавый дедушка, красавец мужчина, в Женский день, собираясь на работу, особенно тщательно наряжался, а возвращался в подпитии, бабушка возмущалась. Она его и без того ревновала, а тут, совершенно ясно, что наряжался для дам и, официально оправданный, весело проводил с ними время. Подарок ей, разумеется, преподносил, но приглашать на служебные застолья жен было не принято.
Однажды бабуля придумала вот что: «У них на работе праздник, а у меня дома». И 8-го марта пригласила таких же неработающих подружек в гости. Набралось три с половиной человека: тетя Валя, тетя Надя, золовка Фаина и я.
Меня считали за половинку – по росту и возрасту. Не помню, по какой причине в тот день я с удовольствием прогуливала школу. С детства, отличаясь асоциальностью и презрением к формализму, я ненавидела процедуру официального поздравления в классе. Мальчики дарили девочкам, закупленные чьей-то мамой, одинаковые подарки, читали нелепые стихи, учительница торжественно-именинным голосом несла разный вздор, и все чувствовали себя участниками идиотской пьесы. 23-го февраля (День Советской Армии) всё повторялось, только теперь одаривали девочки. Однажды наша «классная», славная, толстая математичка, решила изменить обряд, предложила каждому преподнести, что захочется, но одариваемого выбрали не по желанию, а по жребию (чтобы не обидно было). Дома я спросила папу, что подарить однокласснику (мальчика «вытянула» хорошего, он мне нравился). Отец ответил, не задумываясь, мол, дарить надо самое ценное, что сама хотела бы получить. Подарила любимую книгу – роскошное издание арабских сказок. Одноклассницы и их родители, видимо, имели другое мнение, обошлись расческами, мелкими сувенирами. Короче, я выглядела полной дурой и парня засмущала (сразу зашептались о нашей симпатии). 8-го марта, помня мою неудачную попытку, мальчишки не выделывались – подарили всем зеркальца и прочий сувенирный хлам. На следующий год учительница от своей затеи очеловечивания формальности отказалась.
Тёти пришли нарядные, принесли к столу свои кулинарные шедевры и наливочку. Выпили, закусили, поздравили друг друга. Поздравляли интересно, не то, что в школе. Они были женщины, пережившие войну, а бабушка и раскулачивание. Поздравляли друг друга с тем, что выжили, сберегли и вырастили детей, вспоминали, плакали, смеялись, всего понемногу. Потом бабушка взяла гитару, заиграла, стали плясать. Запели частушки: «Ах, проклятая война, что наделала она! Позабрала мужиков, не досталось женихов!.. Кому Федя, кому Вася, кому Коля Голышов… кому чо, кому ни чо, кому хрен через плечо!». Валя и Надя выражения в частушках пропускали, заменяли, а Фаину, как известную матерщинницу, бабушка предупредила: «Смотри мне! Ребенок тут!». Файка терпела, как могла: «Оба-оба – зеленая ограда!», «Обана, да обана, вся деревня в елочку». Но где там! То и дело под бабушкино шиканье и общий хохот вырывалось: «Ох, елка стой и березка стой, первый раз вижу я мужика с мандой!». Запыхались, уселись за стол и завели свое, женское: «Что стоишь качаясь, тонкая рябина…». Смахнули слезинки вдовые подружки.
«Отчего такие песни невесёлые в праздник?» – раздалось от порога. Это дед пришел, с первыми весенними цветами, с подарком. Застолье изменилось. Сразу почувствовалось – мужчина рядом. Женщины преобразились, расцвели, защебетали. А он успевал за всеми ухаживать. Потом взял балалайку, кивнул жене: «Давай нашу!». И гитара подхватила перебором знакомую мелодию: «Степь да степь кругом…».
Дедушка проводил женщин. Две жили неподалеку, а Фаину посадил в автобус. Так закончился официальный праздник «8-е марта» для неорганизованных домохозяек.
2015 г.Свет земной

Неправдоподобно большие снежинки планировали, искрились, переливались в оранжево – желтом свете фонарей, как блестки на шубе ватного Деда Мороза. Если смотреть на свет сквозь опушенные инеем ресницы, получалась радуга огней из игрушки «калейдоскоп». Мороз щипал щеки, студил ноги, гнал в тепло, а красота задерживала, и маме приходилось дергать мою руку в варежке. Если б не мама, я, конечно, плелась бы, любуясь кристальными чудесами, пока не занемеют от холода пальцы на руках и ногах, а дома расплачивалась за погляд жуткой ломотой в оттаивающих конечностях. Вечная история – красота требует жертв. Взять елочные игрушки. Какими красивыми они были в моем детстве! Но хрупкими! Задел еловую веточку – сказочный заснеженный домик «дзинь» об пол и на ме-е-еленькие кусочки, и слезы. Мама знает, как вдохнуть новую жизнь в порушенную красоту. Нужно завернуть осколки в плотную бумагу, растереть пустой молочной бутылкой и «оп-ля!» – блестки как из сугробов на улице, даже лучше. Теперь нужно вырезать из картона корону, оклеить ватой, сверху тоже намазать клеем и посыпать драгоценной стеклянной «пудрой». Сказочно! Как у принцессы, как у Снегурочки. Когда взрослых нет дома, можно надеть мамины туфли на каблуках, корону, бусы с елки и танцевать, петь перед зеркалом. Каблуки мешают и губнушки не хватает, но мама не красится, а туфли можно и скинуть.
Солнечный зайчик из забытого на кровати зеркальца, утренний свет, дробленый на лучи тюлевой занавеской, мерцание голубой звезды, жившей много лет напротив моего окна, завораживали. Часто проверяю, когда улавливаю красоту – засматриваюсь или нет? Да – облегченно вздыхаю, со мной все хорошо. Вечером в зазвездившемся небе первым делом отыскиваю синеглазую подружку, безо всяких оснований, считая её Венерой.
Мерцающий морозный узор на стекле, грубое подражание которому рисуют кругом под Новый год, нужно успеть рассмотреть, пока окна не «заплакали». Потом бабушка выдаст две мягонькие тряпочки, утереть плаксам слезы. Солнце взойдет и окончательно высушит множество оконных глазиков, они заблестят радостно – облегченно, как у деток после прощенных обид.
Свет преломляется в голубых папиных глазах. Уцепившись за его сильную руку, как мартышка за лиану, болтаю в воздухе ногами, разглядывая отражение лучиков. Можно забраться папке на плечи чтобы с верхотуры смотреть сквозь ресницы прямо на заходящее солнце, и глаза зальёт алой краской. Так бывает, если сильно надавить пальцами на опущенные веки и резко отпустить, но это не солнце, а кровь – другое. Багровой стрелой летит в нас закатный свет, когда дядька, крепко удерживая меня перед собой, пускает лошадь в галоп, я ловлю ртом ветер, глазами – мельканье вокруг. Под ложечкой холодок, но не ору, то ли от страха, то ли из упрямства.
С дядей всегда много света и цвета. Капельки воды дрожат на веслах драгоценными бусинами, ослепительный блеск речной глади за кормой лодки. Изумрудно – переливающиеся под ветром и солнцем юные листочки, вдоль дороги. Мы едем в коляске, запряженной рыжей, веселой лошадкой, обдаваемые сквозь лиственное сито светящимся дождем! Ярко – желтые цветы акации, превращенные дядькой в свистульку. Шок от Врубелевского «Демона». Огромный альбом с репродукциями на коленях девятилетней девочки. Дядя вручил мне его и ушел по своим делам, даже не подозревая, о том, что натворил. Картин были сотни, но запомнился именно Демон. Похоже на удар током (к тому времени опыт имелся). От опасного электричества тоже есть свет – искры, но дело может кончиться слезами. Дергаю за шнур утюга (не за вилку, как было велено) и вижу веер искр. Удар, ожег, вопль, распухшая синяя ладошка, испуганные теткины глаза, голубые, как у отца. Искры случались из глаз. Врезалась переносицей в жесткий угол холодильника, похоже на бенгальский огонь, от удивления даже боль сначала не почувствовала.
В лесу никто не мешает разглядывать свет. Солнечный луч пробивается сквозь плотные кроны деревьев, в нем медленно плавают пылинки. В тени их нет, они все слетаются к лучикам, а говорят, что только растения тянутся к свету. Рано утром, в пионерском лагере, можно отойти на несколько шагов в сторонку от домика и, присев на корточки, замереть перед капелькой на земляничном листочке, пока, разбуженное горнистом множество ног, не разрушит хрупкую красоту. Днем горн ослепительно сияет в пионерской комнате, вечером магнитит возбуждающий фейерверк искр от костра, прожигая майку и шорты. Если подержать прутик в огне, можно раскаленным кончиком рисовать мерцающие магические знаки в воздухе.
Когда-нибудь я увижу другой свет, а пока мои земные глаза радует свет земной, даря безвозмездно счастье – ВИДЕТЬ!
2015 г.Глухой?

Я жалела бы любимого дядю за глухоту, если бы могла представить, как это – не слышать. Жалко мне стало его, когда я услыхала нечаянно, как он поет.
Во время семейного пения, после ужина, на праздничных застольях, он молчал. Музыкальное семейство никогда не заостряло на этом внимания. Он читал по губам, а если стоял спиной, окликали громче, легонько касались плеча. Все было естественно, и я долго не понимала, что дядя плохо слышит. На своей половине к домашнему телефону приладил световой сигнал, я решила – для красоты. По утрам, если дядечка не приходил к завтраку, бабушка, боясь, что сын опоздает на работу, посылала будить. На предложение позвонить, отшучивалась: «Дядька твой спит, как медведь в берлоге, из пушки не разбудишь, не то что телефонным звонком».
Наше притяжение было взаимным, и, если рядом не шлялся злой петух, а огромный волкодав был надежно заперт, я ускользала на другую половину при первой возможности. Услышав из-за двери странные, похожие на плач, звуки, замерла и, решив, что дяде плохо, ринулась спасать. Он не плакал, он… пел, завывая громко, как все глухие, да еще пытался себе аккомпанировать на отцовской гитаре. Пел ужасно фальшиво и так вдохновенно – яростно, что вены вздулись на шее и на лбу. Я не узнала ни мелодии, ни даже слов, наверное, от шока. Не помню, сколько длился столбняк, но самое страшное случилось, когда он меня увидел. Его шок был не меньше моего. Воцарилось молчание. Встретились два взгляда: мужской – полный муки, стыда и детский – изумленный, сострадающий. Я мгновенно поняла, что значит – «он глухой». Невыносимая жалость стиснула детское сердечко, слезы хлынули градом, дядя очнулся, прижал меня к себе и молча поглаживал по голове. Ни слова не было сказано, он простил мне жалость так же легко, как я прощала детские обиды. Тот случай сблизил нас еще больше. Конечно, я никому не рассказала, даже любимой бабушке. Со временем поняла, как она оберегала сына, приучив всех домашних, ничем не привлекать внимания к его недостатку.












