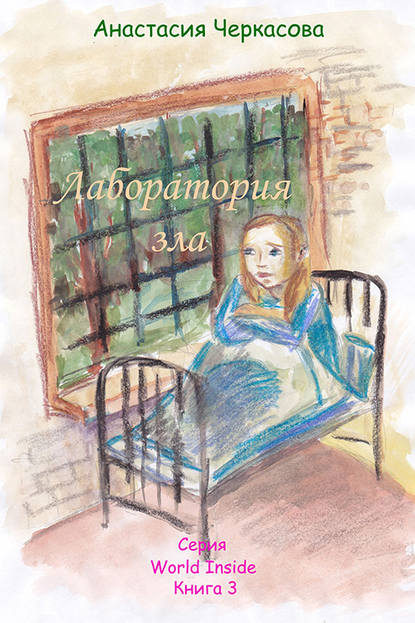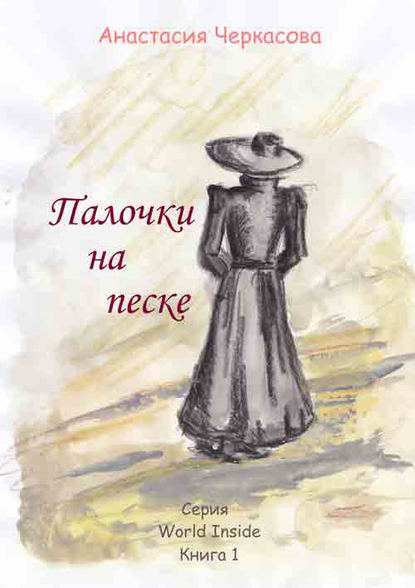
Полная версия
Палочки на песке (сборник)


Анастасия Черкасова
Палочки на песке
Вступление
Огромный мир. Просторные дали. Большие города со множеством горящих огней, в каждом из которых — чья-то жизнь. Небо — такое большое, что его видно отовсюду, из любого уголка планеты — и эти облака, окрашенные багрянцем солнечных лучей, освещающих так же все, абсолютно — все. Леса, многочисленные деревья, бескрайние поля. Моря — огромные, необъятные для человеческого глаза. И эти блики на воде, рожденные все тем же солнцем — одним для всех. Цветы, запахи растений. Сколько в мире запахов? Целая гамма. Сколько их? Миллиарды? Больше? Не сосчитать. Не представить. Макушки гор, кажущиеся издали такими крошечными, словно игрушечными, а на самом деле — все таким же огромными, что ни одному из людей, лицезреющих их макушки, не хватит и целой жизни на то, чтобы обойти их все, заглянуть в каждую из ложбинок искрящегося камня. Сколько тропок на свете, сколько дорожек — не пройти. Никогда не пройти, и даже не представить. Множество зверей. И птиц. Чаек, латающих над этим морем. Маленьких черточек, парящих в этом небе — одном для всех. Птица издали — это тоже крупинка, такая маленькая, что не пройдет и минуты, как она скроется вдали, потерявшись навсегда в этом мире, скрывшись от глаз человека, наблюдающих за ней. Степи. Бескрайние пустыни. Теплый песок. Запах листьев. Запах моря. Привкус морской пены, осязаемой где-то внутри так явно, что кажется, словно кусочек моря умещается на кончике человеческого языка. И везде — звери. Сколько их? Таких разных, таких непохожих друг на друга. И везде, везде в этом мире — люди. Столь же разные, несмотря на некоторое внешнее сходство. Множество лиц. Множество отражений человеческих душ. Словно блики на воде. Словно искорки на многогранном хрусталике. День — и ночь. Темнота и свет. Холод — и тепло. Многочисленные блики. Многочисленные оттенки миллиардов запахов. Все это — мир. Все это — наша жизнь.
Возможно, мир не имел бы столь громадного количества оттенков одних и тех же вещей, на первый взгляд кажущихся таким похожими, такими одинаковыми. Он был бы проще и однозначней, если бы не существовало в нем этих разных человеческих душ, порождающих такое разное восприятие окружающего. Даже эти блики на воде — каждый человек видит их по-своему. Чувствует. Или не чувствует совсем. Представить только: внутри каждого человека есть это все — и чайки, и сверкающая гладь воды, и легкий шум крон могучих деревьев, и многоголосное цоканье зверьков. И опять же — души, эти разные человеческие лица. Каждый человек — все чувствует по-своему, воспринимает по-своему. Внутри каждого — такой вот огромный мир, окрашенный своими собственными цветами. Пропитанный запахами и звуками, и каждый из этих миров — уникален. Все это, все — все умещается внутри одного-единственного человека, даже самого маленького. Внутри каждого из нас — целый мир, единственно уникальный.
В серии книг «World Inside» я хочу поделиться с читателями своим собственным миром, открыть глазам других свое восприятие. Каждую из книг я постараюсь сделать так же особенной, отличной от других, дабы открыть разные грани, разные отблески своей души.
Первая книга серии «Палочки на песке» посвящена всем таинственным и непонятным сторонам нашей жизни. Сомнения. Душевные муки. Неоднозначные нюансы человеческой психологии. Страхи, предрассудки и убеждения. И, наконец, край той тонкой грани, где кончаются собственные фантазии и в жизнь вмешиваются реально существующие высшие силы. Либо просто человеческое воображение, перестающее ограничиваться рамками насыщенного внутреннего мира, перерастающее в истинное сумасшествие, захватывающее жизнь человека всецело, вынуждая его потерять контроль над собственными поступками и лишая возможности понимать происходящее, заставляя метаться, гонимому и страхами, и страданием, и безнадежным отчаянием.
Рассказы

Полет
Тук-тук.
За окном ветряная погода, ветер швыряет кроны деревьев из стороны в сторону, забавляясь и, восторженно подвывая, ныряет в щели гнилых подвалов, пролетает по трубам и скважинам, ударяясь об края и стены потрепанных мусоропроводов, а потом резво выскальзывает из какой-нибудь трещины и кидается тяжелым ударом на дверь квартиры.
Тук-тук.
Он летает, проникая в любую щель, и бесполезно от него прятаться, это только позабавит его, и он радостно будет гоняться сзади, распевая свою жуткую песню, которую находит весьма забавной, со свистом пролезая под всеми дверями и колотя по их рукояткам.
Тук-тук.
Иногда он замирает и просто стоит около входной двери и как будто застенчиво скребется лапами, слегка нажимая на скрипучие доски, но на самом деле за этой робкой деликатностью прячется злая насмешка.
Тук-тук…
Может, это кажется? Это проделки ветра. Каким же простым и забавным кажется ему изобразить, что кто-то стоит за дверью.
Тук-тук!
Или не кажется? Он навязчив. Никита открывает дверь. Он сидит на пороге. Маленькое ехидное существо, покрытое короткой шерстью, словно сгорбленный карлик, отрастивший себе крылья и длинные уши, чтобы напоминать себе образ чего-то вроде гаргульи. Он сидел, сложив на чуть шиповатый хвост когтистые лапы, нетерпеливо теребя самый кончик своего хвоста.
— Николос! Ты опять пришел!
Существо фыркнуло, чуть обнажив желтые зубы и, хлопнув крыльями, перелетело через порог.
Закрыв входную дверь на цепочку, Никита вернулся в комнату, из которой вышел, где Николос уже непринужденно летал вокруг люстры.
— Слезай оттуда, Николос.
С тяжелым шлепком существо приземлилось на стол и почесало напоминавший человеческий нос.
— Нервы расслабляю. Ты опять слишком долго не открываешь дверь.
— Николос, ты мне помешал. Что тебе нужно?
Существо внимательно глядело желтыми глазами, теребя верхней лапой маленькие твердые рожки на лбу и шевеля большими остроконечными ушами, покрытыми рыжей шерстью, как и все остальное его нелепое тело. Оно не могло оставаться без движения.
— Пойдем летать, Никита. Ты же можешь. Пойдем летать.
— Какое летать! Ты же знаешь, что я не могу. Прекрати, уймись!
Николос склонил голову набок и выдохнул столбик неприятно пахнущего воздуха.
— Никита, еще раз говорю тебе — пойдем летать.
— Николос! Зачем ты пристал ко мне? Ты же видишь, у меня нету крыльев!
— Чтобы летать, не нужны крылья. Поднять тело в воздух может только сам дух.
— Но у тебя есть крылья!
— Глупец! — щелкнув острыми зубами, Николос нервно поднялся в воздух и снова стал летать вокруг люстры, — Я — высшее совершеннейшее существо, у меня есть многое, и я распоряжаюсь сам, как что нужно применять.
Пролетев круг по периметру комнаты, Николос шмякнулся на верхнюю полку книжного шкафа и взял когтистой нижней лапой фотографию в рамке.
— Занятно, очень занятно, — пробормотал он, небрежно осмотрев снимок, и отшвырнул его лапой, отчего тот слетел на пол, и рамка, ударившись об пол, треснула. Николос посмотрел вниз, подскочив от восторга, хлопнул крыльями и снова посмотрел на Никиту.
— Николос! — воскликнул Никита, — Я повторяю тебе еще раз: я не смогу летать!
— Трус! — гневно оттолкнувшись нижними лапами от полки — так, что все вещи посыпались на пол вслед за фотографией, Николос взлетел и, ударом распахнув оконную раму, пулей вылетел в окно. С мгновенье помаячив грязно-рыжей точкой на фоне серого пасмурного неба, он исчез из виду.
Ветер, мгновенно ворвавшийся в комнату через окно, распахнул книгу, валявшуюся на полу и перелистнул с десяток страниц. Взгляд Никиты упал на открытый лист, и губы его прошептали: «Pride…». Слово, попавшееся на глаза — «pride» — «гордость, гордыня».
Отодвинув книгу ногой, он подобрал треснувшую фотокарточку. Мельком осмотрев изображенную на ней девушку, он швырнул ее обратно и подошел к окну. Совсем расшалившийся ветер встрепал его волосы ледяным порывом, гуляя, завывая где-то как будто в стене. За окном летали птицы, с легкостью размахивая крыльями.
Он брел по улице и замерз. На него дуло, и было тяжело идти. Холодный ветер гуляет по улицам, с легкостью перепрыгивая с дерева на дерево, с машины на машину, с человека на человека. Он хватает своих жертв ледяными пальцами, и смеется им в лицо, и плюет с пренебрежением, и, отбросив человека как бестолковую надоевшую забаву, мчится дальше с протяжным воем.
Подняв голову, Никита посмотрел на птиц, летящих в небе, и его заполнили зависть и восхищение. Достойные соперники ветра! Истинно свободные существа.
Тук-тук. Ветер крадется по лестнице подъезда, сливаясь с шагами поднимающегося человека.
Тук-тук. Он хочет спрятаться, замаскироваться, чтобы его не распознали, чтобы потом напугать.
Тук-тук… Или это звук со дна квартиры?
Вернувшись домой, Никита застал там Николоса, развязно отдыхающего на его столе, постукивающего кончиками когтей левой верхней лапы по гладкой поверхности. Тук-тук…
— Николос! Откуда ты опять появился?
Существо высокомерно фыркнуло, перевернувшись со спины на живот.
— Что же, я, по-твоему, опять должен был дожидаться, пока ты откроешь мне дверь?
Николос широко зевнул, предоставляя Никите возможность увидеть множество его желтых слюнявых зубов.
— Слышишь, Никита? Пошли полетаем?
— Николос! Опять ты за свое!
Зверь покрутился на столе и уселся поудобнее, уставившись на Никиту своими огромными глазами.
— Послушай, Никита. Ты ведь этого хочешь. Ты ведь так желаешь ощутить себя покорителем этой воздушной стихии, почувствовать воздушную массу, поддерживающую твое тело! Признайся, ты мечтаешь о том, чтобы ощутить полет, ты жаждешь его! Ты завидуешь каждой птице, парящей в небе, пролетающей мимо, и ты завидуешь мне, мне! Ты хочешь летать, и воздух подвластен тебе, но ты боишься этого, боишься своей же собственной силы, жалкий трус!
— Люди не летают, Николос!
Горбатое существо с маленькими рожками в ярости подпрыгнуло и зашипело:
— Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, Никита, если никогда этого не пробовал? В этом ли сила вашего бравого человеческого ума, если вы уверены в том, что не способны сделать то, чего никогда не делали и даже боитесь попробовать! Жалкие людишки! А я говорю тебе, ты, никчемный человечишка, что ты можешь летать! Просто шагни в окно и ничего не бойся, просто лети!
Никита озадачился:
— А как же Игорь? Он жил в доме напротив и свалился из окна.
Зверь перестал сердиться, весело хихикнув, он хлопнул перепончатыми крыльями и уселся, улыбаясь во все свои кривые зубы.
— Ну, это было недоразумение, — беспечно заметил он, — Он просто не смог воспользоваться своей силой. А ты сможешь — давай!
— Откуда ты знаешь, Николос?
— Не забывай, что я высшее совершеннейшее существо… Я говорю тебе: ты можешь, давай!
Распахнув оконную раму, Никита посмотрел вниз, затем перевел взгляд на летающих птиц.
— Давай, давай! — прыгал Николос. Зажмурившись, Никита шагнул. И полетел вниз.
— Не бойся! — прокричал ему на ухо сопровождающий его Николос, которого, похоже, забавляла эта игра, — Вспомни ее! Вспомни! Ты ведь любишь!
Перед глазами Никиты мельтешило, все переливалось и кружилось, и в конце концов слилось в одну-единственную картинку: портрет с расколотой рамкой.
Никита открыл глаза и обнаружил, что, чуть качаясь, лежит на воздухе на уровне седьмого этажа. Он осторожно посмотрел в окно, где было видно, что в комнате в ужасе застыла женщина, затем перевел взгляд вниз и увидел множество пятен человеческих лиц.
— Николос, гляди, они на меня смотрят!
— Сколько можно висеть на одном месте? — проворчал Николос, — Полетели!
— А как?
— Так же, как и вылетел из окна! — маленькие рожки висящего рядом Николоса раздраженно запылали, — Полетели отсюда!
С этими словами он взмыл ввысь, и Никите ничего не осталось, как разобраться в управлении своим телом. Оставаться одному в воздухе ему было страшновато. Подул ветер, и он закачался в пространстве, как будто бы он был пустым поплавком, лежащим на воде. Он с ужасом посмотрел вниз, затем осторожно перевернулся и посмотрел вслед улетающему Николосу.
«Лететь — как плавать», — решил он и бросился догонять своего незаурядного приятеля. Развернувшись, Николос нагнал Никиту и сделал вокруг него круг.
— Выше! — скомандовал он, вытянув тонкую змеиную шею.
Никита послушно летел сзади, следуя за этим маленьким уродливым созданием, поднимаясь все выше к тусклому солнцу, поражаясь легкости своего тела, простоте движений и тому, каким ласковым и податливым бывает ветер. Где-то там, внизу, простиралась панорама серых домов, изрезанная линиями дорог, по которым лениво ползли машины.
— Извините, — проронил Никита, наткнувшись на чайку. Он послушно летел вслед за грязно-оранжевой кляксой, думая о портрете, о том, как он ее любит, как она помогла ему взлететь.
Решившись на отчаянный шаг, Никита отсоединился от Николоса и полетел в другую сторону.
«Я могу это делать один!» — подумал он, и все его сознание потонуло в блаженстве, — «Я могу справиться с этим сам, и мне не нужен этот маленький черт!»
— Я бы на твоем месте не был столь самоуверенным, — едко заметил появившийся откуда-то Николос, — Ну ладно, я тебя прощаю. Помни: люби! Думай о том, что ты любишь. У тебя нет крыльев, тебя окрыляет то, что у тебя внутри, это твоя любовь. Если ты забудешь об этом — тебе конец!
Резко дернувшись в свойственной ему манере, Николос взметнулся рыжей молнией, и исчез в небе.
Люби! Никита парил, и ему казалось, будто все внутри него парит и расширяется, разворачивается от счастья и восторга. Перед глазами Никиты всплыл расколотый портрет. Но он не хотел оставаться на одном месте, он рассеивался, растворялся, ускользал, и на смену ему приходила картина захватывающей внимание панорамы заканчивающегося города и лесных границ. Небо было ярко-голубое, птицы пролетали так близко, и все внутри летящего человека не могло не петь от удивительной легкости, не испытанной никогда ранее.
«Я не могу о ней думать. Город так мал, так приземист. И она в том числе. А я сделал то, чего не могут другие. Я — Бог! Она не достойна меня, она всего лишь одна из крупинок, простирающихся подо мной!»
Взмахнув руками, Никита взлетел еще выше, но вдруг руки его отнялись, по голове неожиданно ударила какая-то разрушительная слабость, и он резко упал вниз на асфальтированную трассу, испещренную гоняющими машинами, и разбился.
— Так-так, еще одно недоразумение, — беспечно заметил Николос, пролетающий мимо, посмотрев вниз, на дорогу, — Бывает!
Хихикнув, он на лету хлопнул своими перепончатыми крыльями и, взлетев рыжим бесформенным пятном, растворился в небе.
2007–2008
Слезы художника
Он сидел один посреди комнаты. Он сидел совсем один, он вообще все время был один, и не было у него ничего, кроме того, что его окружало. Вокруг него лежали великие ценности, настоящее богатство: везде в этой пустой комнате, в которой почти совсем не было никакой мебели, лежали произведения его искусства — картины, изображавшие портреты незнакомых ему людей — людей, которым он никогда не сможет показать их изображения, поскольку их не существовало на самом деле — он сам их придумал. Они взирали на него отовсюду — портреты, написанные им, стояли здесь везде, они стояли прямо на полу, опираясь на стены, на которых практически во всех местах были ободраны обои, и висели, прибитые к этим голым пустым стенам, и лежали на полу, мрачно взирая на своего создателя чужими, незнакомыми глазами.
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. И здесь же, в этой комнате, наверное, в доказательство этих слов, лежали так же пачки его рукописей — помимо художника, он являлся еще и писателем, и поэтом.
Он был талантлив. Он это твердо знал, и подтверждения этого лежали здесь вокруг него повсюду. Он был талантлив, одарен, и, вероятно, даже гениален, и не было у него в жизни больших ценностей, чем продукты его искусства, если не сказать, что они и были его единственной ценностью.
Им не было цены, для него они были особым его миром, его творением, все они были сотворены им сквозь безумные нечеловеческие старания и стоили ему многих бессонных ночей, усталых пальцев и воспаленных глаз, горевших необыкновенным возбуждением, увлеченных своим единственно важным и великим делом.
Он был талантлив, безусловно талантлив, и восторг его, горящий в его жаркой груди, восторг, когда он с новым приливом безумного влечения писал новый свой шедевр, не мог сравниться ни с чем, ни с какими благами на свете, и ни у кого из тех, кого встречал он на своем пути, не было даже и частицы того, что было в нем.
Он был безумно талантлив и безумно увлечен, и оттого он даже относился к другим людям с некоторой долей высокомерия и даже определенной степенью пренебрежения, ибо не было ни в ком больше того, что было в нем, и никто на свете не мог понять хотя бы краешком своей приземистой души даже крохотную частичку его чувств, и он предпочитал ни с кем не общаться, отдаваясь полностью своей божественной трепетной работе.
Он был талантлив, невероятно талантлив — вот только некому ему было показать результаты своих работ. И некому было зачитать свои произведения, и некому было посвятить свои гениальные стихи, и все его удивительное творчество стонало, сжимаясь от невероятнейшей пустоты одиночества. Портреты плакали на его стенах, ему некого было рисовать, на него смотрели только эти глаза — эти чужие, несуществующие глаза, которых никто и никогда не сможет увидеть.
Его творениям действительно не было цены. Их просто некому было оценить.
Он сидел на полу в своей комнате. Он был неописуемо талантлив — и так же неописуемо одинок, и не было смысла в трудах всей его деятельности, закопанной, зарытой в пучине его нелюдимости. Он сидел один, и только стопки исписанной бумаги, окружавшие своего хозяина, печально лежали на полу, да чужие одинокие глаза тоскливо и пренебрежительно взирали на него со стен его жалкой комнаты.
03 — 04.09.2008
Палочки на песке
Шестеро друзей сидели во дворе. Трое из них примостились на стоявшей здесь обшарпанной скамейке, один сидел перед ними на корточках, опустив голову и что-то задумчиво чертя огрызком тонкой палочки на песке, а оставшиеся двое стояли тут же, рядом, сбоку от него. Стояло лето, но вечер выдался серый, непогожий, солнца не было, и от этого серые сумерки казались еще темнее, и наступление их было как будто несколько раньше обычного. Ветер мелкими порывами гонял грязный песок из стороны в сторону, принося с собой почти осенний холод, заставляя молодых людей ежиться, закутываясь в свои куртки еще сильнее, и ерзать на месте, но они не уходили. Двор был совсем безлюдным, словно стоял уже поздний час, но они так и оставались на месте, прозябая и противясь этому ненастному вечеру и вместе с тем каждый своей собственной гадости — но по-прежнему не собирались расходиться и оставались каждый на своем месте, изредка тихо переговариваясь между собой. Каждый из них был печален, каждого тревожила своя беда, и они сидели на этом месте, горько жалуясь друг другу и понуро качая головами.
Тут ветер снова бросил в них холодный порыв, показавшийся словно еще зябче прежнего, и дунул он, пожалуй, сильнее, чем до этого, подняв над усталой землей облако пыли и песка, смахнув, уничтожив в один миг рисованные очертания, которые так старательно выводил палочкой на песке один из молодых людей — и откуда-то, словно из самой этой пыли, неожиданно вышел человек — высокого роста, одетый во все темное — и уверенно зашагал приблизительно в их сторону. Окинув их взглядом, он улыбнулся какой-то насмешливой, неприятной улыбкой — и остановился подле них, внимательно их рассматривая.
Человек этот был совсем неприятным и несколько странным — это был мужчина среднего возраста, одет он был в длинный кожаный плащ черного цвета, высокие кожаные сапоги, такие же перчатки и шляпу с широкими полами, трепыхающимися на ветру, как и полы его плаща. Лицо его было красным, каким-то как будто неровным, с выступающими вокруг носа синеватыми прожилками и тонкими бесцветными губами, скривившимися в неприятной усмешке. Волос на голове, по всей видимости, не было — ни волосинки не выбивалось из под его кожаной шляпы. Вероятно, он был совсем лысым, а глаза его, водянисто-голубые, были какими-то тусклыми, отталкивающими, в них тоже таилась эта самая отвратительная насмешка — недобрая, непонятная, отталкивающая своим высокомерием и странностью.
— Добрый день, молодые люди! — воскликнул он, усмехнувшись, и голос его тоже показался таким надменным, таким отвратным, что хотелось отвернуться, спрятаться, и процедить сквозь зубы, чтобы этот человек скорее ушел подальше — но вместе с неприязнью у молодых людей возникло и чувство некоторого страха, и почему-то никто из них не решался смотреть открыто в эти водянистые голубые глаза.
— Уже вечер, — тихо ответил наконец один из молодых людей, не поднимая головы — тот, что сидел перед всеми на корточках, все еще сжимая тонкими пальцами свою палочку, хотя рисунок его на песке был уже безнадежно заметен.
— Вечер? — вскрикнул незнакомец, чуть подавшись вперед и выпучив свои отвратные голубые глаза, — А и правда — вечер! Ну да ладно, какая разница. Впрочем, нет — зачем же думать, что уже вечер? Разве уже темно? Еще не совсем стемнело — а, стало быть, день. Не нужно думать, что день уже прошел, когда он не иссяк до конца, и последние искры его тлеют, растворяясь в воздухе. Решить, что время уже прошло, перечеркнуть еще один день раньше времени — значит сдаться, значит отказаться от всего необыкновенного, что он в силах еще дать, не закончившись. Где же ваш оптимизм? Где ваша вера в настоящее?
— А никакого настоящего нет, — сказал один из молодых людей, которые сидели на скамейке — тот, что был справа, дальше всех от странного пришельца, — И веры в него, соответственно, тоже.
— Ну, ну! — воскликнул незнакомец с притворным участием, — Молодой человек! Откуда такие черные мысли в столь юные годы? Разве совсем вам не во что верить? Разве не к чему стремиться?
— Не к чему, — ответил ему все тот же парень, и незнакомец нахмурился:
— Так уж и не к чему? Неужто все потеряно?
— Все, — ответил незнакомцу другой парень — на сей раз тот, что стоял к нему ближе всех, безразлично обернувшись на него через плечо.
— Так уж и все! — ахнул незнакомец, — Так это, стало быть, и счастья в жизни нет?
— Нет, — ответил ему парень и отвернулся обратно.
— Так, так… — пробормотал мужчина в плаще, прищурившись и поглаживая пальцами гладкий подбородок, — Так это у вас, получается, общество страдальцев — правильно я понимаю?
— Можно сказать и так, — ответил спокойно еще один парень, стоявший чуть поодаль — справа, не подававший до этого голоса.
— А что значит счастье? — спросил незнакомец, оглядывая всех присутствующих по очереди, — Кто-нибудь может мне ответить?
— Счастье — это значит жить, не страдая, — ответил ему снова стоявший ближе всех парень, снова обернувшись через плечо.
— А все вы страдаете? У каждого из вас, вероятно, есть какая-то беда?
— Есть, — горько ответил ему этот же парень, грустно глядя на незнакомца.
— И что же, если у каждого его беду отнять — вдруг разом взять и отнять — тогда вы будете счастливы? Уверены ли вы в этом? Знает ли каждый из вас твердо, что нужно ему для счастья?
— Конечно, уверены! — горячо воскликнул парень, сидевший на скамейке слева, близко к незнакомцу, — Конечно же, каждый из нас знает, чего он хочет!
Незнакомец улыбнулся, глядя на молодого человека, и хитро склонил голову набок:
— А если я скажу вам, что смогу исполнить каждому по одному желанию — вот представьте: раз, и все исполнится! — будете ли вы тогда счастливы? Может ли каждый из вас сказать мне точно, чего он хочет?
— Слушай, иди-ка ты, дядя, отсюда, — сказал вдруг парень, сидевший на скамейке посередине, в самом центре среди всех, — Надоели уже твои глупые сказки и лишние расспросы.
— Ох, как грубо, молодой человек! — захохотал незнакомец, запрокинув голову, — Отчего же такая грубость? Это ли благодарность за мою щедрость? Или ты не расслышал меня правильно? Ну так я повторю тебе — говорю же: назовите мне каждый из вас по одному желанию, исполнение которого необходимо вам для вашего счастья — и я охотно исполню его.