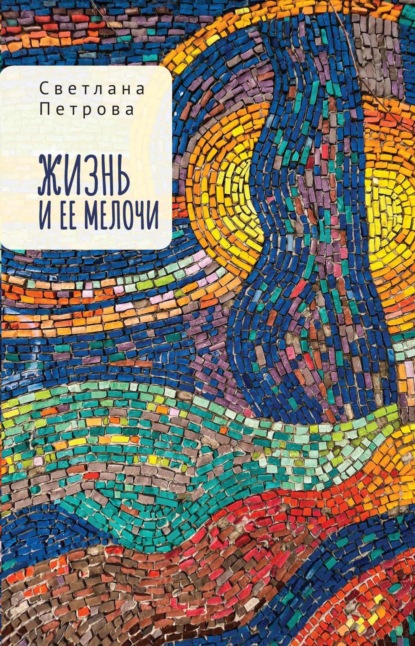Полная версия
Лента Мёбиуса, или Ничего кроме правды. Устный дневник женщины без претензий
Смерть дана нам только в воображении, мы не можем её почувствовать, а главное – не хотим. Какие бы уловки не использовал человек живущий, как бы ни кривлялся, ни рефлексировал, он не в состоянии ощутить и чистосердечно признать возможность физического конца. Где-то глубоко есть крючок, на котором висит неверие. Поэтому философы не любят ходить на похороны и всячески избегают разговоров о покойниках, хотя современный крупный мыслитель, ныне покойный Мераб Мамардашвили, полагал, что философия – это наука размышления о смерти.
Человек впадает в панику, если у него обнаружена неизлечимая болезнь, но спокойно относится к тому, что обречён на смерть от рождения. Какая тут разница? Мы привыкли произносить буднично, словно перебрасывая камешки из ладони в ладонь: он умер…у она умерла…, чисто английское убийство… А ведь речь идёт не о каком-нибудь мелком воровстве, похищена жизнь – единственная и неповторимая. По телевизору постоянно талдычат: «В горячей точке погибли три сотрудника», «Результат автомобильной аварии – пять жертв, в том числе ребёнок», «Маньяк изнасиловал школьницу и бросил труп в лесу»… Кокетливо придаём выражению memento mori – приветствию католических монахов-троппистов – оттенок показной покорности судьбе, мол, все там будем. Трагические слова становятся привычными, стирающими реальное представление о том, сколько за этими звуками и цифрами, незавершённой любви, надежд, жажды нового утра! Неужто, всё-таки Бог создал нас просто так, не на вырост, без взгляда в бесконечность? Спасибо, что хотя бы не сообщил каждому последней даты этого сладкого сна, иначе можно спятить.
Наглядное доказательство того, что мы не верим в смерть, во всяком случае в собственную и скорую, – сохранение вещей, которые наверняка не понадобятся в этой жизни. Потёртые очешники, допотопные телефонные трубки, вышедшие из моды кейсы с механическими замками, красивые упаковочные пакеты и коробки, удобные баночки из-под варенья, наивные настольные игры, потеснённые сначала рыночной «Монополией», а потом компьютерными стрелялками, ключи и ключики от дверей, гаражей и потерянных чемоданов, старые книги – их уж точно никто никогда не станет перечитывать, потому что не вернётся время, в которое они владели умами и которое помним только мы. Если бы вдруг разразилась катастрофа и уцелевшим пришлось начинать сначала, на голом месте, то кое-что ещё можно приспособить. Но других жизней не случится, у тех, кто следует за нами, будут иные пристрастия.
Не хочется думать о бренности земного. Человек начинает воспринимать угрозу реально, лишь тяжело заболев или с удивлением обнаружив на своём теле противно обвисшую кожу. Трагическая участь – пережить всех, кого любил. Единственная отрезвляющая мысль, даже молитва: не дай Бог потерять своих детей. Сейчас мы крайние, потом крайними станут они. Но только потом. Господи! Не нарушай природного порядка, это за гранью добра и зла.
* * *Дети давно отделились и отдалились, это они мне нужны, а я им уже нет. Ну, может, только в роли умозрительной завесы, скрывающей острые края бездны. Мы словно живём на разных планетах, в разное время. Горько? Да. Но молчу, сама через это прошла. Помню жгучий вкус освобождения, когда научилась обходиться без матери. Это не порок воспитания, это диалектика жизни, и если её вовремя не принять, начнутся обоюдные обиды, ссоры, валидол. А всего-навсего надо твёрдо уяснить, что твоё поколение отжило и дети тоже познают эту печальную истину со своими детьми и, если поймут правильно, оставят мир спокойно, с любовью, а не с ненавистью.
Федя прилетел на похороны отчима, который его воспитал. Ну, спасибо, а просто так – не дозовешься. В разговорах мы всё время цепляемся к словам, и я кусаю язык, чтобы не сорвалось лишнее, но сын всё равно говорит поперёк, осуждает мои поступки. Не может простить детские обиды, жизнь в доме деда, моё новое замужество, а я ему, что бросил институт и уехал в Читу за своей первой любовью, которая не задалась, но возвращаться не стал. У него там, в Сибири, своя жизнь, словно в другой стране. Уже и корни пустил, построил с приятелем мастерскую, делает школьную мебель на заказ. Дело не приносит серьёзной прибыли, держится на старой дружбе, к тому же сын начал выпивать. Его отец, Донат Орленин, или Дон, как все его называли, говорил: спиртное доставляет мне удовольствие, если б не профессия, стал бы пьяницей, но не алкоголиком – с эти геном у меня в порядке.
Видно, насчёт генов он ошибся. Федю уже две жены бросили, к счастью, третья прибрала к рукам вместе с бизнесом, который хотя бы кормит. Мне эта деваха – грубоватая, крепко стоящая на толстых ногах – мало симпатична, но в своей сумасшедшей молодости сына я проморгала, а она спасла, отвадила от бутылки, народила детей, и я готова, как царице, целовать ей подол. Только на меня она глядит исподлобья, шестым чувством угадывая неприязнь. Одни внуки рады бабушке, чувствуют, что я их люблю и готова исполнить любое желание, просто родители желать что-либо от меня запрещают. Господи, ну эти-то при чём?
Их младшая дочь Лиза отвергла всех поклонников и постриглась в монашки. Для меня это удар. Одно дело верить в Бога, другое – провести единственную жизнь в закрытом пространстве, наблюдая мир через узкую щель фанатизма. Я редко видела девочку, но помню заботливый взгляд и тонкие нежные руки, так похожие на руки Дона. Внученька моя дорогая, зачем же ты так?..
Удручает бессилие тела пред силой души. Спрашиваю Федю:
– Как допустил?
Пожимает плечами.
– Её право. Она искренне считает земную жизнь прелюдией к той, настоящей. Может, и так, кто ж знает? У Лизы есть всё, чего нам не хватает – её существование осмысленно, а главное, она счастлива. Чего ещё можно желать для своего ребёнка?
Федя, помятый жизнью, умный и добрый. В волосах пробивается первая седина. На кладбище я прислонилась к его плечу – единственному мужскому плечу, которое мне осталось, и почувствовала, как сын невольно отпрянул.
– Не жаль маму, – сказала я без упрёка.
– Это ведь не тебя хоронят.
– Может, и меня. – Я вздрогнула. – Холодно.
– Ну, извини. – Сын поцеловал меня в висок. – Отвык. Тебя никогда не было рядом.
Всё правда. За ошибки – раньше или позже – приходится платить.
Кирилл был мальчику хорошим отчимом, но родным не стал. Десятилетний парень успел воспитать в себе одинокого волка и из двух равнодушных родителей непонятно почему выбрал отца.
Уже не помню, в чём Федя провинился, важно, что он не хотел сделать так, как требовал отец. Ну, да, Бог и Адама из рая выгнал не за яблоко, а за то, что воспротивился Отчей воле и захотел вкусить свободы, вот и Дон однажды сказал: пусть уходит, могу обойтись без него. А у мальчика опасный возраст, неизвестно, что в голове, возьмёт и прыгнет с крыши. Я встала на колени: сынуля, ну, пожалуйста, попроси у папы прощения. Умоляю! Это твой отец, и он тебя очень любит, просто рассердился. Наконец Феде стало жаль меня, он вытер слёзы и пошёл каяться. Всё улеглось, но я чувствовала, что сын так и не простил мне своего унижения – а кому же? Конечно, мне, а не отцу. Зато, когда дворовый мальчишка попал из рогатки Феде в лицо, Дон так избил хулигана, что даже попал в милицию, потом отпустили. После операции гнойного аппендицита Федя оказался между жизнью и смертью, и Дон поднял на ноги всю медицинскую Москву, задействовал все связи, отменил концерты, сидел возле него ночами. Именно это ребёнку запомнилось.
Первый муж всегда оставался для меня главным в семье. И сыну я внушала то же чувство – как бы папа ни поступал, он всегда прав. Мама бывает не права, у мамы много забот, она устаёт и может сорваться, быть несправедливой, поэтому часто, отшлёпав малыша, просит у него прощения. Но папа – домашний бог, его авторитет непререкаем.
Прекраснодушная политика обошлась мне потерей сыновнего уважения. Пока он был мал, я этого не чувствовала, а когда вырос – стало поздно. Я ничтожная мать: поссорившись с Доном, в запале собиралась повеситься. И оставить сына? Идиотка. Эгоистка. Я и теперь понятия не имею, как надо воспитывать детей. Говорят – просто любить. Но я любила Дона, и на двоих меня не хватало, Федя оказался брошен на бабушку и домработницу.
Иногда мне приходило в голову, что моя мать может сломать ему характер, а следовательно и жизнь, как сломала собственному сыну. Но внук – отдельная ипостась, к внукам нежности больше. Следить за процессом воспитания у меня не было ни опыта, ни времени, я утаптывала дорожку к будущему, пытаясь собрать разбросанные на большое расстояние составляющие собственной жизни. И хотя уже дважды побывала в нокауте, всё ещё жаждала любви. Любовь полна иллюзий.
После похорон отчима Федя увёз много фотографий отца, афиши, магнитофонные записи. Я пыталась слабо протестовать, сын усмехнулся:
– Сколько ты к ним не прикасалась? Лет тридцать? Тебе они не нужны, правда?
Пришлось сознаться:
– Я их боюсь.
– А у меня больше ничего нет. Единственный мостик из прошлого в настоящее.
* * *Дочь успела только на поминки, она замужем за французом, который занимает хорошую должность в какой-то пароходной компании в Марселе. Сумасшедший город, набитый арабами с фальшивой миной покорности на лицах. Разложив товар прямо на тротуарах, они сидят на корточках в своих белых простынях и хватают прохожих за щиколотки – купи! Это открытая видимость деятельности: так они демонстрируют властям легальность, а зарабатывают как-то иначе, втёмную. Втёмную копят организованную ненависть против неверных, которые сладко спят, наивно веря в силу разума и не чуя, что новые гунны уже стоят у ворот цивилизации.
Дочка не приезжает ко мне даже на лето: кому нужна больная старуха, которой надо хотя бы сочувствовать, а у тебя настроение хорошее, ты позагорал, наплавался, выпил пивка, съел бифштекс с кровью. Зачем портить удовольствие? Катя с мужем и детьми, между прочим моими внуками, отдыхает на Средиземноморском побережье и на Канарах, подальше от призраков смерти. Правда, поступали осторожные намёки – продать квартиру на Кавказе и купить в Евпатории или в Ялте: у внука слабые лёгкие, ему нужен сухой климат. Ну, уж дудки. Мне всегда был противен и смешон хохляцкий национализм, хотя преступно подаренный Украине Крым по традициям и языку всегда оставался, бесспорно, русским. Не то, что Прибалтика, где демонстративно говорили только на родном языке. Или Грузия, в которой по-русски не брехали разве что собаки, а всё равно чужая территория, и жили, и думали там по-другому. Слава Богу, Крым вернулся в Россию, но над ним висит грозовое облако. Просто так всё не кончится.
Звонит дочка часто, но говорит скоренько, по верхам, ссылаясь на сумасшедшие телефонные тарифы. Я ничего толком не знаю о её личной жизни: довольна ли Катенька ролью супруги необщительного задумчивого мужа – будто и не француз вовсе, есть ли у неё привязанности, кроме него, как со здоровьем? Что за характеры у девочек-двойняшек, которые отучились в Англии, по-русски говорят с акцентом и в Россию не рвутся? Я не осуждаю. Конечно, хорошо бы повидаться, но мало ли чего кому хочется. Главное, чтобы все были счастливы насколько возможно. Счастливой можно быть в любом пространстве, просто надо уметь. Катя умеет не очень. Она не в меру категорична, безапелляционна, и во всех неудачах кто-то виноват.
После куцых объятий начинает упрёкать, это её стиль:
– Мам, ну успокойся, перестань плакать, ну что ты, в конце концов! Люди умирают, так жизнь устроена. У тебя дети, внуки, тебя любят. Чего ещё надо?
– Деточка, ты не понимаешь. Вы все – в этом мире, а мы с папой в другом.
– Не очень-то ты при жизни его ценила.
Ох. Слова неожиданны и обидны. Откуда такая жестокость? Хочет встряхнуть меня, привести в чувство, чтобы меньше страдала? Но как не страдать? Жизнь в основном состоит из страданий, и даже в моменты, когда судьба дремлет, страдания прячутся по закоулкам сознания. Споткнёшься на каком-то пустяке, и откроются шлюзы. Увидела в телефонной книжке номер, записанный почерком Кирилла, и поползло, и затопило, обжигая, ощущение потерянного рая. Душевные и физические страдания формируют нас, заставляя шевелить мозгами, чтобы избежать боли, учат сопереживать и ценить минуты счастья. Покой тоже надо выстрадать.
В моём отношении к дочери что-то неуловимо меняется. Без Кирилла чувствую себя уязвимой, осторожно подбираю слова, боясь обнажиться и услышать отповедь. Я уже не очень-то хочу быть по́нятой. Мы и прежде не чувствовали себя подружками, а теперь душевно отдалились ещё больше. К Кириллу она всегда была ближе, он с нею нянчился, млея от нежности, и она его обожала. Для моей девочки отец – первая серьёзная потеря, однако относится она к смерти по-деловому – пришло время, в конце концов все там будем. Возможно, переживает сильно, но не показывает, ну, да, её воспитал Кирилл, а он умел скрывать свои чувства.
А может, печаль сдерживается чужой кровью? Впрочем, в голос крови я не верю, живые контакты важнее, тем более девочка правды не знает. Катя подозрительно быстро повзрослела, стала самостоятельной, умной, крепко схватила судьбу поперёк туловища. Чётко знает, чего хочет, всегда, собрана и организована. Семья у Катюни на первом месте, и она всех донимает опекой, забывая о себе. Мало и не вовремя ест, ещё меньше спит, старается всё делать своими руками, делать до отвращения тщательно, даже очки мужу протирает, а когда тот ложится спать, прыскает дезодорантом в домашние тапочки. Каждое утро его ждёт свежая сорочка и отутюженные брюки. Француз терпит, видимо, сильно любит, мирится даже с тем, что она зачем-то преподаёт ему русской язык. Семья ходит строем и живёт по расписанию. При случае Катя учит меня. Я сопротивляюсь.
– В том-то всё и дело, детка. Сердцу нечем успокоиться. Но ты не волнуйся, я справлюсь.
Вру, не краснея. Бесполезно кричать в уши глухому. Она смирилась, а я нет, для меня Кирилл ещё жив и во снах, и наяву, для неё же отец глубоко в прошлом. Она права, и Федя прав, не существует одной правды, у каждого своя, даже правда факта может быть истолкована по-разному, чего уж тут говорить о понятиях. И в этом вся суть: как бы ни любили нас дети, мы живём в разных измерениях.
* * *Вернувшись с поминок в пустой дом, бесцельно брожу среди привычной мебели, картин и фотографий на стенах. Как много значат вещи. Мучительно хочется передать их детям, чтобы те, как в эстафете, передали палочку дальше. По природной наивности, а она нас никогда не оставляет, и слава Богу, а то уж совсем было бы страшно – мы видим в вещах залог хоть какого-то несуразного и неполноценного, но продления рода. Вещи, в которые вложено столько усилий и любви, единственно материальное, что остаётся от нас после смерти, и, потрогав их, можно уловить нашу энергетику.
Всё приобреталось с тщательным выбором, каждую своевременно чистили, гладили, мыли и хранили бережно. Оказалось напрасно. Теперь привыкли, пусть и к дешёвому, но новому, самим купленному. Время пришло более обеспеченное, с возможностью долго отсутствовавшего выбора, и массовая психология тоже изменилась: вряд ли кто-то из нынешних станет терзаться ностальгией по комоду из ДСП. Мне удалось всучить добротные костюмы Киры ассенизатору «из понаехавших», что приходил чинить унитаз, но от фрака с дырочками от лауреатских значков на шёлковых лацканах и концертных лаковых штиблет Дона мигрант отказался. Отнесла в церковь, там берут, пристраивают бомжам.
Вещей, обросших воспоминаниями, как днища кораблей ракушками, мне жаль. Люди вполне обойдутся без меня, а некоторые даже с облегчением, а вот вещи беззащитны перед новыми распорядителями их судеб. Терзает мысль: как будут жить сиротки? Кто будет пить из моей зелёной чашки, поливать мой нежный цветок на окне, смотреть в моё бездонное небо? Через вещи, которые много лет окружали меня, пытаюсь удержать в себе ушедшее время и угасающую любовь. Другим эти бесконечные мелочи непонятны, смешны, а правнукам станут уже безразличны, как нам безразличны погребённые под домами старые кладбища.
Всё правильно. Вечного нет ничего, вечно только то, что происходит сейчас. Просто вещи живут дольше нас. Вернее, могут жить, но живут ли? Когда их было мало, они высоко ценились, и шкафы XX века недалеко ушли от сундуков XIX. Нынешние людишки, особенно кто при деньгах, чтобы не лишаться мобильности – главной константы грядущего, даже квартиры и дома предпочитают арендовать, а не приобретать в собственность. Проще купить новый гардероб, нежели возить за собой прежний. Любые предметы производят в таком количестве и разнообразии, что хранить их бессмысленно и непрактично. Понятие «личные вещи» отмирает. Потомки с легким сердцем выбросят родительское барахло на помойку, и разорвётся печальная связь времён.
Но у меня цепкая память, я ещё не забыла, откуда что явились. За стеклом буфета стоит набор открывалок для винных бутылок, которые мы с Кириллом привезли из Чехословакии, была такая страна, а фаянсовую кружку с изображением Кипра купили позднее, на курорте в Пафосе. Хрустальный колокольчик он приобрёл из утилитарной надобности, чтобы заболев, я звонила, когда нужна помощь. Стекло хранит прикосновение его пальцев, его взгляд.
Зажигалка-пистолет – уменьшенная копия того, из которого Дантес застрелил Пушкина – парижское изделие, привезена некурящим Доном, как и белоснежный коралл из Австралии и коробка с изображением кенгуру – в ней фарфоровые шпажки, на которые я терпеливо нанизывала чернослив с оливкой, завёрнутый в полоску бекона. Шпажки осиротели, потому что двадцать пять гостей давно не собираются в нашем доме по праздникам или просто по весёлым выходным.
От моей бабушки, Натальи Христофоровны, осталась всего одна вещица, которой я очень дорожу: простенький фаянсовый молочник, каких уже не выпускают, потому что молоко хранят в пакетах в холодильнике. Аккуратненький молоточек с рукояткой, до глянца отполированной трудолюбивой ладонью, – рабочий инструмент дедушки, Дмитрия Андреевича. Самодельная пепельница из гильзы от снаряда, с надписью За победу принадлежала хостинскому свёкру, прошедшему войну. Бабочка с магнитиком машет крыльями над газовой плитой, когда запускается вытяжка – её принесла покойная Кондрашова, аккомпаниатор из консерватории, она часто сопровождала Дона в гастролях. Две серебряные кокотницы подарила одинокая соседка Зина, не на память, а просто так, от души. Она была намного моложе меня, работала в банке и не собиралась умирать, но умерла в одночасье – подошла небесная очередь. Дальние родственники разнесли по блюдечку накопленное на долгую жизнь и разъехались довольные, позабыв о хозяйке. А я вспоминаю Зину каждое утро, пробегая взглядом по буфету. Иконку «Утоли моя печали» подарила дочка, странно, ведь Катя атеистка.
У каждого предмета, даже не связанного ни с кем персонально, свой шрам памяти. В свитере из мохера, выношенном до дыр, приятно спать по осени – отопление на юге отключают поздно и, сколько не насилуй электрокамин, по ночам зябнут ноги и нос. Или вот декатированные временем и уже позабытые промышленностью вафельные полотенца: окунёшь в них лицо, слегка приложишь к груди – и они сами впитывают влагу, лаская кожу, словно руки любимого мужчины.
Больше всего в доме картин, их собирал Дон. В середине прошлого века показателем достатка являлся хрусталь, живопись была прихотью немногих, чувствующих искусство кожей. Природа одарила скрипача художественным чутьем, он дружил с молодыми живописцами и принадлежал красоте. Несколько работ Петрова-Водкина, эскизы Маковского, бело-серые снега Бялыницкого-Бирули, но больше всего «маленьких голландцев» и картин неизвестных мастеров, скорее всего, не подделки, поскольку вывезены после войны из сытой Европы. Москву завалили трофейным, часто криминальным антиквариатом, правда, денег у нас с мужем тогда водилось не густо, но он находил какие-то возможности, менялся или брал полотна в долг, не представляя, как будет расплачиваться, и я не жалела, что аукнулась новая шуба. Шить одежду в правительственном ателье, которое обслуживало нашу семью, мне уже не полагалось, поскольку я замужем: большевистские бонзы законы более или менее соблюдали, а не только требовали этого от низов. Выручала мама, умудряясь оформлять заказы не только себе, но и мне, туда же привозили импорт по смешным ценам.
Когда Дон начал выезжать за рубеж, деньги появились – хотя платили по-советски мало, но всё в сравнении – и он радостно одевал меня, как куклу. Неизбалованные соотечественники останавливались на улице, чтобы рассмотреть мой прикид. Дон и сам, в мягких велюровых шляпах с широкой лентой, выглядел, как актёр американского кино. После смерти его вещи долго томились в запертом шкафу, ключ от которого я спрятала. Второй муж никогда не тревожил эту сторону моей жизни.
Часть памятных предметов поглотил переезд в Хосту, другие я выбросила сама. Сожгла скрученное в трубку фото, нас, обнажённых, сделанное Доном после ночи любви – взвёл затвор аппарата и успел влететь ко мне в постель – чистый Роден. В мусоропровод отправлен плюшевый кот в сапогах, с ушами, обсосанными годовалым Федюней, и сильно помятое бархатное сердечко, проткнутое позолоченной стрелой – робкий подарок моего одноклассника Толика. Житийного хлама хватает. Меха разлезлись, лучшие в мире итальянские туфли устарели, я живу в окружении долгоиграющих кусочков прошлого и веду с ними внутренние монологи.
* * *Безмолвие сторожат кипарисы. Даже при большом ветре, когда другие деревья отчаянно шумят листвой и в ужасе размахивают ветвями, эти самоуверенные колонны покачиваются грозно, но бесшумно. От тишины звенит в ушах, тишине удивительно точно подходит шаблон «мёртвая». Бегущее время, с его тайной константой, кем-то заранее обозначенной, теперь целиком принадлежит мне одной, но наполнить этот подвижный образ вечности нечем – отсутствуют потребности и желания, которые вращают стрелки вселенских часов.
Ближе к вечеру с противоположной стороны реки прорываются невнятные голоса, звуки ресторанной музыки. Люди приехали отдыхать, они пьют и смеются. Меня всегда восхищала способность человека радоваться жизни, не думая о конечной станции.
Первая ночь без Кирилла. Сдерживая озноб, я укуталась пуховым платком и вжалась в угол дивана. Сквозь полупрозрачные шторы пробивается свет уличного фонаря. Шторы вешал муж, расплавлял пухлыми белыми руками и всё время спрашивал: хорошо ли? Ему важно моё мнение. Трудно поверить, что он больше никогда не войдёт ни в эту комнату, ни в другую, что он уже вне пространства живых. Тридцать лет мы каждый день разговаривали, касались друг друга пальцами, щекотали губами – и вдруг провал. Память о нежности осязаний предстояло безжалостно умертвить.
Можно попытаться память обмануть и найти милого друга, или создать новую семью, или просто совокупляться на кухонном столе в ярости бесчувствия. Фантазии отчаяния безграничны, а вот встретить человека, чувствующего похоже – из области мечты. Революциями, перестройками, рынками остаточный слой интеллигенции размазало по стенке. На смену пришли либералы, которые скоренько трансформировались в прагматиков и циников, причём, что удивительно, совершенно невежественных, с ними не о чем говорить. Сойтись с каким-нибудь духовным пигмеем после мужчин, которые у меня были, всё равно, что заснуть с принцем крови, а проснуться с сантехником из ЖЭКа.
Сгодился бы мужчина без претензий, образованный, не пьющий и не слишком поношенный, который ужинал бы и спал со мной, возил на дикий пляж и целовал руки, спасая от одиночества. Но таких, кажется, уже нет в природе. Нарисовался один, сильно помятый жизнью, но ещё не утративший романтических позывов инженер на пенсии. Я уже и уши развесила. Пригласил в гости, поил чаем, цветом и градусом напоминавшим верблюжью мочу, кислым молодым вином, на закуску – виноград и плитка шоколада, для удобства аккуратно поломанная на квадратики, и ни один не лопнул вкось – это надо постараться. Я помахала в воздухе сладкими пальцами. Он протянул бумажную салфетку, предварительно разорвав её пополам. «Стоп! – сказала я себе. – Девушка, ты не в ту дверь вошла».
Ещё забавнее оказался отдыхающий из Кемерово. Совсем свежий, лет тридцати пяти, не больше. У меня фигура без живота, кожа без целлюлита, педикюр и французские духи. Я выгляжу моложе своих лет, однако же не настолько. И чем ему приглянулась? Каждый день занимал мне место под тентом, за руку выводил из моря на берег, что очень кстати: на гальке легко потерять равновесие даже в резиновых туфлях. Недели через две, когда я уже на него насмотрелась и собрала досье недостатков, стал называть желания своими именами. Пришлось отпугнуть: «Дурачок, я же развалюсь на ходу». Обиделся. Ну, как мужику объяснить, что женщин надо брать сразу, не оставляя времени на анализ и сравнения? Тут у него очень кстати и путёвка закончилась.
Наиболее серьёзные намерения лелеял сосед по лестничной клетке. Когда-то я приятельствовала с его женой, но она уже несколько лет как умерла. Мне шестьдесят с небольшим, ему семьдесят – округлённо. Чем не пара? За ним присматривают сын и невестка – стоматологи из Москвы, с недавних пор постоянно живущие в большом доме на гребне горы. Они открыли на главной улице Хосты врачебный кабинет. Частная практика приносит хороший доход, поскольку зубы разрушаются раньше других частей тела и имеют подлое свойство нестерпимо болеть.