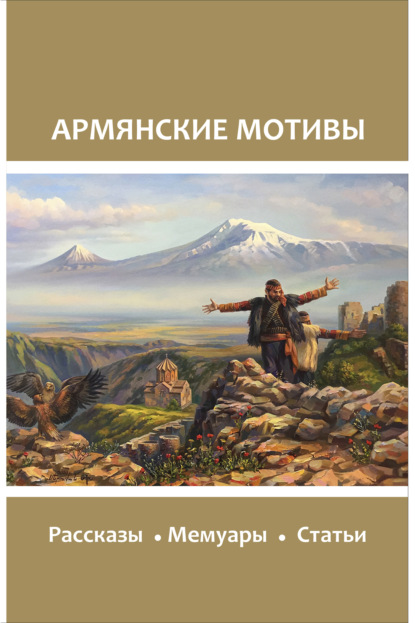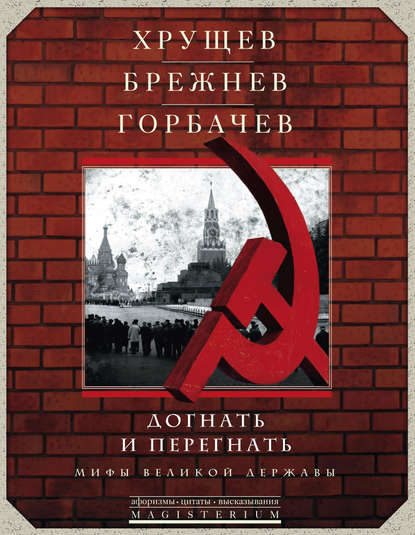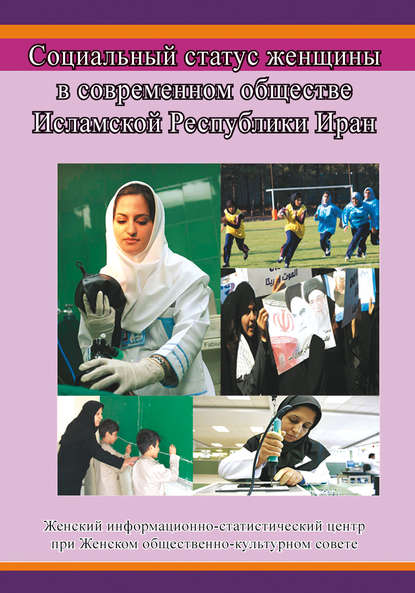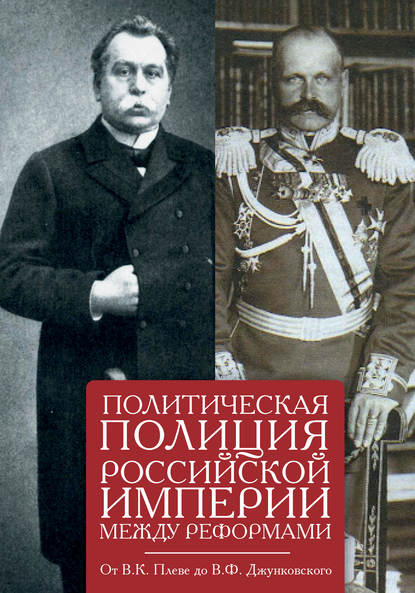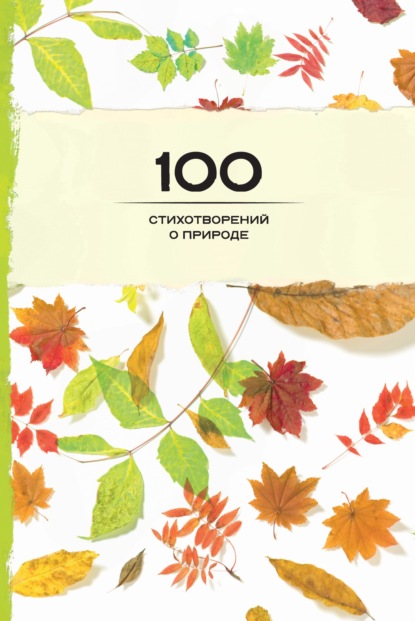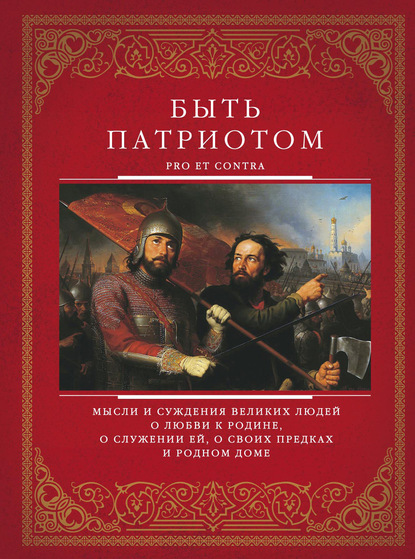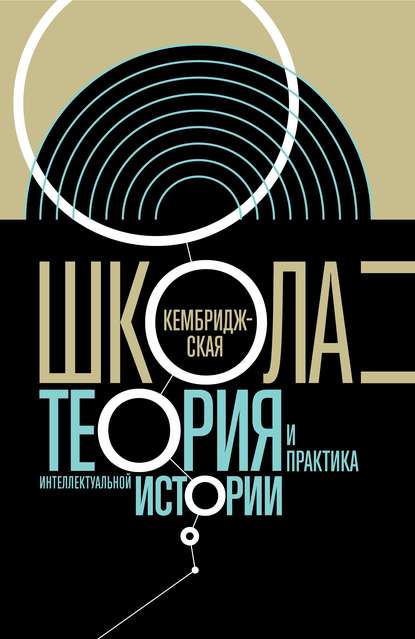
Полная версия
Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории

Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории
Тимур Атнашев, Михаил Велижев
Кембриджская школа: история и метод[1]
Кембриджская школа изучения политических языков Нового времени – одно из самых влиятельных направлений в современной исторической науке о политической философии: она насчитывает множество ученых, исследовательских проектов, книжных серий и изданий. Историки, называющие себя последователями «кембриджского» метода, проводят регулярные конференции и семинары во многих странах мира – от Новой Зеландии и Бразилии до США и Финляндии. Наряду с Begriffsgeschichte Кембриджская школа является яркой и привлекательной методологической программой изучения политических понятий и языков. Дебаты вокруг соперничества двух направлений – британского и немецкого – конституируют научную идентичность отдельных исследовательских сообществ (так, один из таких центров, занимающийся в том числе анализом методологических полемик, находится в итальянской Падуе, где работают С. Киньола и Дж. Дузо)[2].
В России известны отдельные работы основателей Кембриджской школы – Кв. Скиннера, Дж. Покока, Дж. Данна. В жанре истории политических языков работают специалисты центра «Res Publica» под руководством О. В. Хархордина и другие исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге (в том числе развивая научные концепции других теоретиков – прежде всего, М. Фуко и Б. Латура)[3]. Кроме того, важные материалы по истории и теории Кембриджской школы (включая переводы) появились на страницах журнала «Логос». С 2015 года авторы настоящего предисловия предприняли серию публикаций в журнале «Новое литературное обозрение», призванных ввести в российский научный оборот концептуальные труды Скиннера и Покока и интерпретировать классические для российской истории случаи общественных полемик, прямо опираясь на «кембриджскую» методологию. Широкая рецепция теории и практики Кембриджской школы постепенно начинается; свидетельство тому – недавний перевод на русский язык opus magnum Скиннера «Истоки современной политической мысли» [Скиннер 2018][4], который вышел в издательстве «Дело». Отрадно, что, наконец, спустя сорок лет после первой публикации двухтомника он – в прекрасном переводе А. Олейникова и А. Яковлева – стал доступен российской читающей публике. Вместе с тем дискуссия о методологии Скиннера, по сути, отсутствует, ее еще только предстоит провести.
В настоящем сборнике мы попытаемся продолжить разговор о состоятельности методологической концепции Кембриджской школы и о границах ее применения на российском материале. Для этого мы объединили переводы на русский язык классических статей по методологии Кембриджской школы интеллектуальной истории и ряд историографических работ отечественных ученых (Тимура Атнашева, Татьяны Борисовой, Константина Бугрова, Михаила Велижева, Сергея Польского, Екатерины Правиловой), которые предлагают свои подходы к изучению общественно-политических языков в России. Бóльшая часть исследований выполнена под прямым методологическим влиянием Кембриджской школы, а часть – реализована с близких теоретических позиций.
Кембриджская школа как институт
Прежде всего отметим, что термин «Кембриджская школа» является конвенциональным. Это не столько самоназвание научной группы, сколько описание широкого круга исследователей, объединенных общей методологической программой, прежде всего связанной с историческим анализом политических идиом. Корни школы связаны с Кембриджским университетом – биографически и программно. К Кембриджу так или иначе имеют отношение основатели направления – именно в этом учебном заведении долгое время преподавали Скиннер и Данн, а Покок учился в аспирантуре и защищал диссертацию. Одновременно указание на кембриджский интеллектуальный контекст (особенно на рубеже 1940–1950‐х годов) указывает на основополагающую для Скиннера и Покока связь их воззрений на политический язык с разысканиями Людвига Витгенштейна и с его посмертно изданной работой «Философские исследования». (В скобках заметим, что Оксфордский университет, в котором работал Дж. Остин, также немаловажен для истории Кембриджской школы.) Нам не удалось установить, кто именно ввел в научный оборот термин «Кембриджская школа». Возможно, устоявшееся название связано с книжными сериями Кембриджского университета «Cambridge Texts in the History of Political Thought» и «Ideas in Context» [Clark 2006: 215–216; Бивир 2010: 114]. Кроме того, структурообразующими для институционального строительства школы стали сборники «Philosophy, Politics and Language», ежегодно издававшиеся в Кембридже Питером Ласлеттом с 1956 года, и, существенно позже, работа целого ряда центров истории британской политической мысли, самый известный из которых – центр в Вашингтоне (на базе Шекспировской библиотеки Фолджера), основанный Пококом.
Символическое начало «Кембриджской школы» было положено в 1949 году, когда Ласлетт выпустил (что характерно – в Оксфорде!) отдельное издание трактата «О патриархе» английского политического мыслителя середины XVII века Роберта Филмера. Ученый четко разграничил три «контекста», которые задавали разные смыслы для высказывания: создание, публикация и активная рецепция текста. Тем самым Ласлетт отделил авторскую интенцию от идеологического воздействия, которое впоследствии оказало сочинение Филмера («intention» от «effect», по выражению Покока [Pocock 2006: 37]). Более того, оказалось, что связанные с текстом «О патриархе» «Два трактата о правлении» Дж. Локка написаны не после, а до Славной революции 1688 года, – и тем самым политический ход, связанный с обнародованием сочинения Локка, обретал совсем иной смысл: служил не оправданием революции, но призывом к сопротивлению. Таким образом, Кембриджская школа более чувствительна к коммуникативной природе политических высказываний. В дальнейшем синонимическим термином для определения «кембриджского» научного направления стало понятие «contextualism» (обсуждение метода см. в: [Skinner 1988a: 275–277[5]; Bevir 1992; King 1995; Hume 2006; Бивир 2010; Floyd, Stears 2011]), указывающее на ключевую роль исторического контекста при интерпретации политических текстов прошлого. Историзирующий подход формируется в противовес истории идей, эмблемами которой для Покока и Скиннера служили «антиисторичные» А. Лавджой и Л. Штраус[6], и гипостазированию объективно реконструируемых «идей» или «концептов» в рамках Begriffsgeschichte Райнхарта Козеллека.
Ныне понятие «Кембриджская школа» устоялось настолько, что обозначает хорошо известную методологическую программу; ссылка на него порой позволяет избежать длительных терминологических объяснений. Огромная литература, включающая несколько десятков статей и монографий, рассматривает Кембриджскую школу как объект анализа и фактически легитимирует полноправное использование термина, несмотря на возражения или осторожный скепсис самих «подозреваемых» – представителей школы (см., например: [Pocock 2013]; в собственных методологических текстах Покок предпочитает термин «историк дискурсов»). Общий философский «бэкграунд», действительная принадлежность к Кембриджу в период становления и – пожалуй, самое важное – общность методологии и несколько десятилетий внутренней полемики и взаимного признания говорят о наличии общего подхода и в этом смысле о существовании академической школы. Разделяемая участниками установка на подчеркнутую методологическую щепетильность в отношении ярлыков и универсальных категорий остается последним и (лишь отчасти) ироническим аргументом в пользу общности подходов в группе ярких британских индивидуалистов, избегающих гипостазирования идей.
Сложнее и запутаннее дело обстоит с понятием «интеллектуальная история», которое часто связывается с деятельностью Кембриджской школы. В статье, посвященной трактовкам этого концепта в гуманитарных науках, французский историк Роже Шартье отмечает, что континентальная традиция в ХХ веке почти не знала подобного дисциплинарного именования [Шартье 2004]. Более того, сам термин «интеллектуальная история» кажется чрезвычайно размытым, что приводит к частым злоупотреблениям в его использовании, – грубо говоря, «интеллектуальной историей» при желании можно назвать любую область знаний, связанную с изучением текстов прошлого. При этом если мы посмотрим на то, кто в западных гуманитарных науках называет себя «интеллектуальными историками», то в первую очередь столкнемся с именами постмодернистов Хейдена Уайта или Доминика Лакапры [White 1969; LaCapra 1983; Toews 1987; Pagden 1988; Jacoby 1992; LaCapra 1992]. Те же, кого принято именовать «интеллектуальными историками», представляющими Кембриджскую школу, с такой квалификацией прямо не согласны или относятся к ней с явной настороженностью.
В 2013 году группа датских историков, издающих серию «5 Questions», выпустили специальный номер, посвященный «intellectual history»[7] и состоящий из ответов, данных ведущими представителями этой научной области (в том числе Скиннером, Пококом, Карло Гинзбургом, Шартье и др.) на пять вопросов о предмете. В предваряющей выпуск заметке авторы сформулировали такое определение «интеллектуальной истории»: «Мы понимаем интеллектуальную историю в самом широком смысле. Она включает в себя историю идей, историю понятий, генеалогию, историю чтения, Кембриджскую школу, культурную историю и другие традиции, анализирующие структуры идей в их историческом контексте» [Jeppesen, Stjernfelt, Thorup 2013: IV]. Из этой дефиниции, в частности, следует, что «интеллектуальную историю» можно идентифицировать не через предмет исследования, а через методологический прием. В силу этого обстоятельства термин «интеллектуальная история» оказывается полезным, когда речь идет о разных по содержанию и научным задачам теориях, скрепленных тем не менее единой исследовательской программой[8]. Подходы в интеллектуальной истории могут отличаться друг от друга в диапазоне от социолого-статистических методик в истории чтения до языкового анализа в истории политических идиом[9] или истории понятий, однако все они объединены общим фокусом – признанием детерминирующей роли методического изучения исторического контекста или контекстов при анализе текстов прошлого. Символично в этом смысле, что свою статью, посвященную юбилею выхода в свет «Оснований современной политической мысли» Скиннера и повествующую об истории кембриджского метода, Покок начинает с девиза: «Context is king» [Pocock 2006: 37].
Одним из самых ярких представителей Кембриджской школы, чье имя неизбежно связывается с контекстуальной методологической парадигмой, является Квентин Скиннер. Его можно счесть классиком мировой историографии еще и потому, что он удостоился отдельной биографии, написанной финским политическим философом Кари Палоненом [Palonen 2003]. Работы Скиннера и второго «кембриджского» классика, Джона Покока, анализировались в специально созданных в их честь сборниках статей – «Meaning in Context» [Tully 1988], «The Political Imagination in History» [DeLuna, Anderson, Burgess 2006] и «Rethinking the Foundations of Modern Political Thought» [Brett, Tully, Hamilton-Bleakley 2006]. В октябре 2009 года в Центре аспирантуры Городского университета Нью-Йорка прошла специальная конференция, посвященная сорокалетию выхода в свет программной статьи Скиннера «Значение и понимание в истории идей», материалы которой были опубликованы в престижном «Journal of the History of Ideas» (2012. Vol. 73. № 1).
Помимо индивидуальных научных трудов, Скиннер, Покок и их коллеги инициировали выход в свет большого числа тематических коллективных сборников, которые дополнительно свидетельствуют об общности подходов (и полемике) внутри Кембриджской школы. Среди наиболее важных книг такого рода, значительная часть которых была опубликована в издательстве Кембриджского университета, упомянем следующие: «Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776» [Pocock 1980], «Philosophy in History: Essays on the Historiography of Philosophy» [Rorty, Schneewind, Skinner 1984], «The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe» [Pagden 1985], «The Return of Grand Theory in the Human Sciences» [Skinner 1985], «Machiavelli and Republicanism» [Bock, Skinner, Viroli 1990], «Political Discourse in Early Modern Britain» [Phillipson, Skinner 1993], «The Varieties of British Political Thought, 1500–1800» [Pocock, Schochet, Schwoerer 1993], «Milton and Republicanism» [Armitage, Himy, Skinner 1995], двухтомный «Republicanism: A Shared European Heritage» [Van Gelderen, Skinner 2002], «States and Citizens: History, Theory, Prospects» [Skinner, Stråth 2003], «British Political Thought in History, Literature and Theory, 1500–1800» [Armitage 2006], «Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept» [Kalmo, Skinner 2010], «Families and States in Western Europe» [Skinner 2011]. Кроме того, Скиннер в качестве соиздателя участвовал в таких фундаментальных издательских проектах, как, например, «The Cambridge History of Renaissance Philosophy» [Schmitt et al. 1988].
Квентин Скиннер и Джон Покок в интенсивном и продуктивном диалоге и полемике сформировали общий методологический подход и своеобразный канон изучения политической философии как серии связанных друг с другом полемик в раннее Новое время в Италии, Англии, Голландии и США. Они являются двумя безусловными лидерами «школы». Питер Ласлетт был значительно старше Скиннера и Покока и в конечном счете оставил интеллектуальную историю в пользу социальной. Джон Данн, разделявший исходные интересы коллег, также впоследствии перешел от историографии к жанру чистой политической философии. Ко второму поколению Кембриджской школы мы можем отнести Иена Хемпшер-Монка, Мартина ван Гелдерена, Джеймса Талли, Ричарда Така, Дэвида Армитеджа, Кари Палонена, Мелвина Рихтера, Энтони Пагдена, Сьюзан Джеймс, Маурицио Вироли, Джонатана Кларка, Филипа Петтита (в том, что касается политической философии) и др. В близком методологическом ключе работают исследователи так называемой Сассекской школы (С. Коллини, Д. Уинч), которые, в отличие от Скиннера, Покока и их последователей, занимаются историей британской политической мысли XIX столетия.
Квентин Скиннер и Джон Покок
Квентин Роберт Дути Скиннер родился в 1940 году в графстве Йоркшир в Англии. Он почти на поколение младше Джона Покока (р. 1924), многолетнее сотрудничество и полемика с которым исходно и дали основание говорить об особой Кембриджской «школе». Скиннер – наиболее влиятельный и цитируемый представитель этого академического направления, которое заняло одно из господствующих мест в англоязычном научном мире к концу ХХ века. Он известен как автор фундаментальных работ по истории политической философии раннего Нового времени, показавший принципиальную важность «республиканских» аргументов и языка для политических дискуссий в Италии и Англии. Он также знаменит и как радикальный и тонкий критик «лавджоевской» методологии истории политических идей и истории политической философии. Ученому удалось историзировать изучение классических текстов западноевропейских философов и одновременно добавить полноценный философский радикализм в осмысление методологии историков политических идей. Наконец, в последнее время (в частности, совместно с Филипом Петтитом) он активно выступает как современный политический философ, предлагая неореспубликанское прочтение ряда ключевых вопросов актуальной политической жизни Великобритании, Европейского союза и США (об этом см.: [Palonen 2003: 173–180]). Таким образом, мы можем выделить три значимых научных амплуа Скиннера, которые, дополняя друг друга, остаются тем не менее автономными: историк политической мысли, политический философ и теоретик в области интеллектуальной истории.
Академическая карьера Скиннера была стремительной и успешной – он дебютировал в печати в 25 лет, а в 29 лет написал знаменитый методологический манифест «Значение и понимание в истории идей» [Skinner 1969][10]. Блестящий выпускник Гонвил- и Каиус-колледж в Кембридже, он сразу после сдачи выпускных экзаменов получает два приглашения преподавать и выбирает Крайст-колледж, где с 1965-го по 2008 год занимает должности профессора истории Нового времени, затем профессора политических наук (1979–1996) и королевского профессора истории (с 1996 года). Одним из наиболее весомых признаний успешности совершенной интеллектуальной революции становятся принятие Скиннера в Британскую академию в 1981 году и его последующее вступление в ряды академиков Американской академии наук и искусств, Европейской академии и других уважаемых институтов. В 2008‐м он принимает приглашение Лондонского университета королевы Марии, где по настоящее время занимает позиции профессора гуманитарных наук и соруководителя Центра изучения политической мысли. Кроме того, Скиннер (в качестве приглашенного профессора) часто выступает в ведущих университетах Австралии, США, Франции, Бельгии, Голландии, Китая, России и других стран мира.
Вопреки традиционному для Великобритании разделению областей исследования, Скиннер изучает историю политической философии и одновременно фактически выступает в роли философа языка. Впервые он заявил о себе не столько как историк, сколько как теоретик, в знаковой работе 1969 года «Значение и понимание в истории идей», где подверг жесткой критике существовавшую в британской интеллектуальной истории научную («лавджоевскую») парадигму и предложил новый «контекстуальный» метод изучения политических текстов прошлого[11]. В первой половине 1970‐х годов он публикует целую серию методологических работ, позднее собранных вместе в первом томе «Visions of Politics» [Skinner 2002, 1]. Как историк Скиннер утвердил свою репутацию первоклассного профессионала и знатока политических текстов Нового времени в 1978 году, когда в свет вышло его двухтомное исследование «Основания современной политической мысли» [Skinner 1978]. Первый том «Оснований» посвящен истории политической мысли Ренессанса, второй – политическим аспектам протестантской теологии и полемикам лютеран и кальвинистов с католическими философами XVI века вокруг вопроса о светских функциях папской власти и власти как таковой. Возможно, наиболее оригинальным и влиятельным стал тезис Скиннера о возникновении современных представлений о государстве как способе преодолеть негативные последствия религиозных войн в Европе раннего Нового времени.
По подсчетам К. Палонена, в период с 1978-го по 1982 год было опубликовано не меньше 35 развернутых рецензий на «Основания» [Palonen 2003: 91]. Биограф Скиннера отмечает:
Спустя почти двадцать пять лет в печати так и не появилось ничего, что можно было бы сопоставить с «Основаниями» Скиннера, как внутри интересующего его исторического периода, так и по любому другому периоду европейской политической мысли. Конечно, трудно представить себе, чтобы кто-то мог сделать подобное тому, что Скиннер сделал в «Основаниях» [Palonen 2003: 93].
Главной заслугой Скиннера Палонен считает анализ политической теории внутри исторического контекста конкретной политической борьбы – между итальянскими городами-государствами эпохи Возрождения, между папой и императором, католиками и протестантами, сторонниками и критиками монархического правления. Он пишет:
Перемена в отношениях между политической мыслью и «политической жизнью», обоснованная Скиннером в «Основаниях», задает образец изучения политической мысли и свидетельствует о приоритете политики над мыслью. <…> Работа задает парадигму – образцовую модель в витгенштейновском смысле, согласно которой мы можем использовать способ изучения мысли, горизонт возможного, как необходимую перспективу в изучении политики-как-деятельности в целом [Palonen 2003: 94].
В дальнейшем Скиннер продолжил изучать историю политической мысли Ренессанса, а также активно занялся английским XVII веком – в частности, анализом политической философии Т. Гоббса. При этом в центре исследований историка неизменно оставался вопрос о смыслах и истории понятия «свобода» в Новое время. Так, в 1981 году Скиннер выпустил небольшую, но концептуальную биографию Никколо Макиавелли [Skinner 1981], в 1996‐м – монографию «Разум и риторика в философии Гоббса» [Skinner 1996], в 1998‐м – работу «Свобода прежде либерализма» [Skinner 1998][12], в 2008‐м – книгу «Гоббс и республиканская свобода» [Skinner 2008], в 2014‐м – труд «Судебный Шекспир» [Skinner 2014], в котором исследовал пьесы Шекспира в контексте риторики британского судебного красноречия. Интерес Скиннера к методологии социальных и гуманитарных наук нашел выражение в составленной им коллективной монографии «Возвращение большой теории», вышедшей в 1985 году [Skinner 1985]. Книга содержит очерки о великих теоретиках второй половины XX века – Гадамере, Деррида, Фуко, Куне, Ролзе, Хабермасе (за авторством Э. Гидденса), Альтюссере, Леви-Строссе и историках школы «Анналов», – которым было предпослано концептуальное предисловие самого Скиннера. Наконец, в 2003 году ученый собрал свои отдельные работы по истории республиканской мысли в обширное трехтомное издание «Ви́дения политики» [Skinner 2002]. Первый том включает в себя теоретические статьи, второй посвящен истории политической мысли итальянского Ренессанса (в том числе анализу фресок А. Лоренцетти в Сиене[13]), третий связан с интерпретацией английской политической теории XVII столетия, прежде всего трудов Гоббса. Наконец, уже в 2018 году Скиннер напечатал новую монографию – «От гуманизма к Гоббсу: Исследования по риторике и политике» [Skinner 2018].
Как указывает Покок в обзорной работе о вкладе Скиннера в науку о политической теории, «делом его жизни» была полемика с историей политической философии, ориентированной на использование великих текстов прошлого как предлога для самовыражения и обсуждения современных вопросов. Скиннер отстаивал точку зрения, согласно которой философ-историк считает принципиально важным методически исследовать тексты и голоса прошлого в их собственной логике. Одновременно мы можем обнаружить в работах Скиннера (в частности, в текстах, созданных в сотрудничестве с Петтитом) идеологически значимую политико-философскую повестку, причем речь не идет о простом воспроизводстве прежней схемы истории идей. Историк-философ в лице Скиннера не просто проецирует на прошлое собственные политические предпочтения и представления о настоящем, а воссоздает смыслы через методологически ответственное открытие ушедших языков и риторических жестов в дискуссиях прошлого.
История политических языков не мыслится Скиннером как логичное (или телеологичное) развитие определенных линий политической мысли, завершившееся созданием современного политического канона. Скорее речь идет о наборе отдельных контекстов и ситуаций, в которых движение не осуществлялось по заранее заданной траектории, а происходило под влиянием сознательно воздействующих друг на друга акторов. Способность историков реконструировать оригинальные намерения и риторические ходы мыслителей прошлого в контекстах, отличных от нашего, создает дистанцию с современным политическим языком. Одновременно это расширяет репертуар возможных политических высказываний и ходов в современной политике – высказывания, сделанные в прошлом, могут получить новое политическое значение в современной полемике. Однако историк здесь не действует от первого лица как идеолог или философ – он предоставляет «старые» и уже непонятные нам ходы как «новые» для современного понимания именно благодаря работе с контекстом. Традиционное прочтение классических текстов часто не замечает эти оригинальные речевые акты, проецируя настоящее в прошлое. Кембриджский подход лишает актуальную политико-философскую повестку ее телеологичности (здесь особенно очевиден антидетерминистский и антимарксистский пафос Скиннера[14]) и дает новые средства для полемики. Как результат, глубокое взаимообогащение философии языка, политической философии и истории делает академическую и интеллектуальную траекторию Скиннера одновременно влиятельной и уникальной.
Джон Гревилл Агард Покок родился в 1924 году. Он на год младше Козеллека, на шесть лет старше Пьера Бурдьё, на пять – Юргена Хабермаса, на два – Мишеля Фуко, на год – Зигмунта Баумана и на шестнадцать лет – Квентина Скиннера. Покок – по заслугам и возрасту – является одним из ведущих современных теоретиков в области исследований политической философии Нового времени, чей авторитет сопоставим с репутацией Козеллека, Фуко и Хабермаса. Наиболее оригинальный методологический вклад Покока в развитие его дисциплины – это интерпретация истории политической философии как истории «политических языков», «идиом»[15] или «дискурсов». Междисциплинарная направленность методологического подхода Покока очевидна: в нем сочетаются элементы таких наук, как политическая философия, история права, теология, политическая история, историография, теория языка и филология. Ученому удалось реализовать чрезвычайно плодотворную исследовательскую программу, направленную на изучение эволюции и взаимопроникновения различных устойчивых социопрофессиональных идиом в политической культуре Запада XV–XVIII веков.