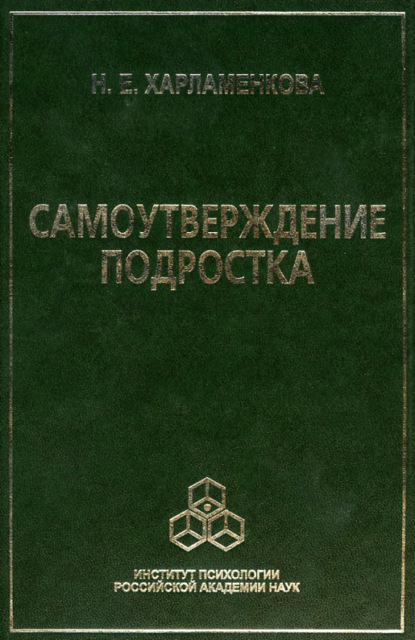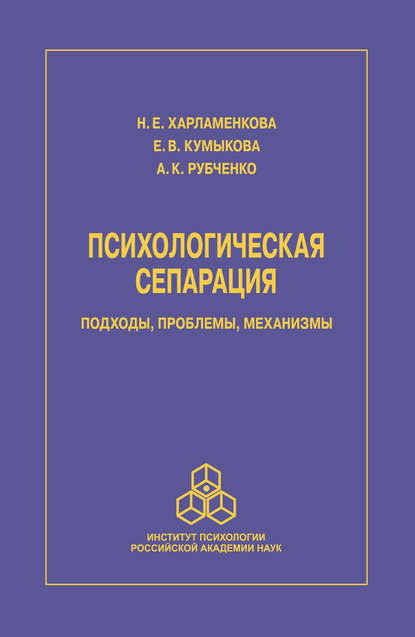
Полная версия
Психологическая сепарация: подходы, проблемы, механизмы
Третий аспект принципа субъекта был соотнесен нами со стремлением человека к автономности. Необходимо отметить, что со стремлением личности к автономности тесно связаны два предыдущих аспекта – выделение себя из мира объектов и других субъектов и формирование интегрированной идентичности. А. В. Брушлинский писал, что человек стремится к выделению, а не к отделению себя от мира. Представляется, что характеристика стремления к автономности важна именно с этой точки зрения, т. е. с точки зрения того, чтобы объяснить ее необходимость для субъекта и при этом показать принципиальное отличие от механизмов отделения, отчуждения, изоляции от мира. Триада «выделение – интеграция идентичности – автономность» представлена таким образом, что первая составляющая связана с переживанием себя как отдельного субъекта, вторая – с представлением о себе как об особом субъекте, а третья – с независимыми функционированием, т. е. с проявлением собственных чувств, утверждением взглядов, высказыванием мнений, совершением поступков, которые имеют четкое авторство – утверждение себя как субъекта своей жизни.
Четвертый аспект принципа субъекта – организация отношений субъекта с объектами и другими субъектами в пространстве Бытия с целью осуществления собственной жизни и реализации задач своего жизненного пути – проявляется в интеграции себя в пространство своей жизни. Согласно К. А. Абульхановой-Славской, категория субъекта, которая объединяет в себе три принципа – способ организации жизни и деятельности, способ разрешения противоречий и совершенствование, обозначает высший уровень развития личности. Она отмечает, что акт становления личности субъектом имеет «временную протяженность всей жизни и ее предельность» (Абульханова, 2005, с. 12), и, «становясь субъектом, личность выступает в новом качестве» (там же, с. 16).
Определяя специфику активности субъекта, мы характеризовали ее как способность человека к предсказанию своего жизненного пути (его направленности, достижений, препятствий и др.), а также к его регуляции средствами ретросказания при обращении к своему опыту (Харламенкова, 2010). Активность субъекта проявляется в особой временной развертке, представленной ретроспективой и перспективой. Ее принципиальное отличие от классической триады «прошлое – настоящее – будущее» состоит в свободе ментального передвижения в пространстве времени, учитывая законы обратимости мысли. При этом движение может происходить как попеременно, так и одновременно в обоих направлениях. В последнем случае это необходимо тогда, когда ожидаемое событие является следствием переоценки свершившегося и определяется степенью его проработки. Отсутствие некоторой точки отсчета (например, фиксированного настоящего) снимает проблему прерывности жизненного процесса и его строгое разграничение в соответствии с метрикой физического времени. Безусловно, активность субъекта проявляется в его деяниях и умонастроениях, в его продуктивности и не может быть изолирована от деятельности, бытия (Трубников, 1987), однако, с нашей точки зрения, активность в реальной деятельности обусловлена способностью субъекта ментально выходить за ее границы, тем самым обеспечивая ее наибольшую оптимальность, недизъюнктивность, перспективность, осмысленность и результативность.
Было показано, что ретроспектива как обращенность субъекта к своей истории конструируется методом ретросказания, позволяющим представить ее не только образно, но и вербально, т. е. путем символизации опыта с помощью слова. Психологическими механизмами выступают регрессия, эмоциональная переоценка и когнитивная реконструкция, с помощью которых осуществляется процесс восстановления своей истории по неполным данным. Перспектива как продолжение субъектом своей истории строится средствами предсказания, которые в отличие от научного метода предвидения включают в себя ожидания, связанные с достижением благополучия и успеха. Тем не менее активность субъекта в форме предсказания учитывает не только возможность достижения успеха, но и вероятность неудачного исхода события в будущем, однако последняя чаще всего планируется как возможность, которую следует обойти, избежать. Психологическими механизмами выступают антиципация и мотивационное опосредствование.
Взаимное функционирование психологических механизмов как реализация активности субъекта позволяет понять природу этого процесса, представить его в неделимости на отдельные топологии с фиксированной хронологией (прошлое, настоящее, будущее). Описанные механизмы относятся к разным составляющим активности субъекта, отражая в своем единстве мотивационные, эмоциональные, когнитивные и коммуникативные процессы. Специфичность этих процессов относительно ретроспективы и перспективы не исключает возможности их взаимопересечения и взаимообусловливания. Такое взаимодействие проявляется в том, что эмоциональная переоценка эпизодов личной истории может стать причиной формирования новых предпочтений относительно перспективных вариантов этой истории, и, наоборот, изменение субъективной ценности ожидаемых достижений способно повлиять на интерес к прожитому и вызвать эмоциональные переживания, сопутствующие процессу ретросказания. Аналогичным образом антиципация, которая проявляется, например, в форме целеполагания, инициирует воспоминания об идентичных планах в прошлом, активизирует поиск причин их неудачного воплощения, который, в свою очередь, опосредствует процесс антиципации. Эти аналогии позволяют нам сделать вывод о том, что активность субъекта, представленная в ретроспективе и перспективе жизни, непрерывна и определяется двумя базовыми особенностями – своей обратимостью и внутренней связанностью, т. е. возможностью проживания разных эпизодов личной истории – истории длинною в жизнь, между которыми существует «смысловая перекрестная связь» (К. Юнг). Выходя за пределы актуального времени, охватывая в своем единстве ретроспективу и перспективу жизни, активность способна нарушать ее границы, находя продолжение в продуктах своего жизнетворчества.
Итак, методология настоящего исследования основана на личностном принципе, принципе развития и принципе субъекта, которые в целом определяют круг наиболее общих представлений о проблеме самоопределения человека в мире как об одном из серьезных философских вопросов. Этот поиск продолжается всю жизнь, в иных случаях выходит за ее границы, воплощаясь в продуктах своего жизнетворчества.
Пути решения поставленной проблемы, безусловно, разнообразны, прежде всего, потому что сугубо философский вопрос может быть переформулирован в терминах методологии конкретного научного знания, например, методологии социологии, истории, психологии и др., которая, конечно, достаточно специфична.
Для психологии важным остается принцип, согласно которому, личность как проблема исследования выступает двояко – и как объект такого исследования, и как субъект. Личность как объект предстает в статичном виде, «теряет» свои рефлексивные характеристики в том смысле, что они практически не учитываются в процессе психологического исследования. Личность как субъект исследования представляется подвижной, динамичной, рефлексирующей, живой системой, способной изменяться в пределах, заданных биологическими и социальными ориентирами, по-разному проявлять себя во всем многообразии бытия. Кроме того, она способна ставить и искать ответы на один из сложнейших экзистенциальных вопросов, который только может задать себе человек: «В чем заключается смысл человеческой жизни и, в первую очередь, в чем смысл моей собственной жизни?». Ему предшествует другой вопрос: «Кто я такой?», а последний закономерным образом возникает из опыта переживаний, который в чувствах, мыслях, ощущениях определяется так: «Я есть». Инвертируя эту цепочку открытий, получаем, что сначала появляется опыт, благодаря которому ребенок обнаруживает, что он сам и его мама являются двумя отдельными людьми (появляется чувство «Я есть»). Потом формируется и постепенно интегрируется идентичность (у каждого человека в разной степени обобщенности и единства), и ставится вопрос «Кто я?», который, по существу, не снимается полностью никогда. Проблема осмысленности жизни, ее глубины и богатства появляется как следствие серьезной внутренней работы, направленной на интеграцию идентичности, а также в результате осознания человеком не только своей отдельности и уникальности, но и включенности в мир.
1.5. Принцип единства человека и его бытия
Принципиальная неотчуждаемость человека от своего бытия и одновременно переживание и осознание им своей особенности, отдельности создают глубокое и устойчивое ощущение сопричастности единичного человека миру и необходимость постоянно доказывать уместность своей роли в общем процессе жизни. На психологическом уровне это фундаментальное основание человеческого существования проявляется в виде не всегда гармоничного, а часто и противоречивого процесса социализации личности, в ходе которого возможно доминирование одной из двух тенденций – тенденции идентифицироваться с социальными ролями и тенденции разотождествляться с ними. Для К. Юнга эти тенденции часто проявляются последовательно в жизни человека: интроекция внешнего – в первой половине жизни, избавление от интроецированного содержания и путь к себе – во второй половине. Поиск своего места в мире может быть замкнут на описании ролей, выполняемых человеком в обществе, и на идентификации с ними либо на таком же наивном и некритичном принятии суждений других людей (прежде всего, суждений родителей) о себе. Описывая процесс индивидуации, Юнг и его последователи отмечают, что он происходит в двух направлениях и представляется как аналитическое (separatio) и как синтетическое (coniunctio) движение. Первое определяется как дифференциация, аналитическая сепарация и «включает расчленение выкованной человеком идентичности, отделение ее как фигур и содержаний, имеющих изначальную основу во внепсихической реальности (т. е. в других людях и объектах), так и тех, что укоренены в первую очередь в самой психике (так называемые внутренние фигуры…) (Стайн, 2009, с. 19). Второе предполагает приобщение к коллективной психике, «к проявлению архетипических образов коллективного бессознательного…» как сознательное интегрирование его содержаний. Юнг описывает эти процессы в качестве внутренних, т. е. процессов, происходящих в психике человека, хотя понятно, что они не исключают внешних проявлений – вербальных оценок, поведенческих реакций, эмоций и чувств. Однако это – лишь необходимое уточнение осуществления процесса индивидуации, а в целом нам хотелось бы обратить внимание на то, что для полноты методологического анализа изучаемой философской проблемы – поиска человеком своего места в мире и формулируемой на ее основе психологической проблемы – внутренней и внешней сепарации личности, систему философских принципов исследования важно дополнить принципом единства человека и его бытия. Этот принцип тесно связан с принципом развития и принципом субъекта, в которых, однако, не полностью представлена инициативная роль человека. В принципе субъекта содержится идея его активности, однако эта активность мыслится в основном как регуляция собственных личностных особенностей, их организация и реализация в процессе жизненного пути, который рассматривается как уникальный способ жизни. Поиск человеком своего места в мире не может быть осуществлен без сопоставления себя, своего мира с миром в целом, без оценки своего вклада в коллективное, общественное, общечеловеческое. Когда учитывается такая система как «Я в бытии», тогда с необходимостью возникает вопрос об организации этой системы, о принципах ее функционирования. Мы полагаем, что эти принципы многообразны и не могут быть сведены к единственно верному. Тем не менее наш собственный интерес направлен на обсуждение одного из них, а именно на анализ принципов интеграции системы и ее дифференциации, через механизмы отождествления и разотождествления. Сразу же отметим, что механизмы отождествления и разотождествления могут проявляться как внутренние, интерпсихические, так и внешние, интрапсихические, но в целом принципы их функционирования остаются идентичными. Обсуждая эти механизмы на уровне методологии, мы не склонны проводить их детальную дифференциацию, которая, однако, возможна на уровне теории и эмпирии.
Поставленная нами философская проблема поиска человеком своего места в мире в ее конкретно-научном аспекте – проблема психологической сепарации личности – в большей степени согласуется с механизмом разотождествления человека с другими людьми, с бытием. Тем не менее практика показывает, что индивидуация и сепарация не могут быть представлены отдельно от социализации, а значит, механизмы отождествления не могут быть выведены за рамки методологического анализа проблемы разотождествления человека с миром.
Обсуждая в свое время проблему опосредствования (Харламенкова, 2008), мы утверждали, что ее анализ невозможен без изучения непосредственного знания, ведь если абстрагировать одно знание от другого, то вопрос о том, каким является конкретное событие – непосредственно или опосредствованно воспринимаемым – будет неуместным, поскольку «любой факт действительности или мышления с равным основанием может считаться как опосредованным (т. е. всегда можно найти нечто промежуточное, посредством которого этот факт существует), так и непосредственным (поскольку можно обойтись без этого промежуточного члена)» (Философская энциклопедия, 1967, с. 148). Тем более, что, несмотря на противопоставление непосредственного и опосредствованного видов знания, соответственно связанных с чувственным созерцанием и рациональным обоснованием, усвоение первого стало ассоциироваться не только с чувствованием, но и с интеллектуальным познанием, т. е. с прямым усмотрением истины, с созерцанием посредством ума, а второе оказалось тесно связанным с исходной чувственной основой. Было показано, что непосредственное знание не всегда есть нечто недоказуемое, но часто безусловно очевидное, поэтому и не требующее никаких доказательств.
Договорившись, таким образом, о том, что рассматриваемый нами принцип важен во всей полноте своего содержания, перейдем к его обсуждению, прежде всего, к важной идее об отождествлении и разотождествлении человека с другими людьми и с миром в целом.
Тождество предполагает равенство объектов, совпадение их существенных признаков. Отождествление как процесс ориентирован на сопоставление объектов в определенном интервале времени с целью обнаружения их сходства, совпадения. Тенденция субъекта к отождествлению себя с другими людьми связана с желанием считать себя принадлежащим к ним, идентифицироваться с ними, прежде всего, для преодоления чувства опасности и одиночества. Однако в таком отождествлении скрыты и другие мотивы. Э. Эриксон утверждает, что стремление юношей и девушек стать участниками неформальных объединений или желание постоянной смены партнеров является показателем диффузной, т. е. спутанной, идентичности. В присоединении к группе, в отождествлении с ней можно увидеть стремление юноши или девушки к тому, чтобы найти себя, ответить на вопрос «Кто я?». Отождествление, переходящее в слияние с другим человеком, снимает проблему ответственности, но усиливает чувство страха, сепарационную тревогу, которые сопутствуют этому симбиотическому состоянию. В норме процесс отождествления способствует установлению коммуникации, доверительному общению. Эмпатийное отождествление несет терапевтический эффект, позволяет партнеру принять отвергаемые им характеристики и идентифицироваться с ними. Именно поэтому отождествление сопровождается познанием другого объекта и самопознанием, через приемы сравнения и символизации это открывает человеку путь к себе.
Отождествление выступает основой единства человека и его бытия, которые могут мыслиться только в таком виде. «Человек должен быть взят внутри бытия, в своем специфическом отношении к нему, как субъект познания и действия, как субъект жизни. Такой подход предполагает другое понятие и объекта, соотносящегося с субъектом: бытие как объект – это бытие, включающее и субъекта» (Рубинштейн, 1997, с. 64–65). Отсюда, как говорит Рубинштейн, бытие не может быть сведено к вещам, к объективной реальности и противопоставлено субъекту. Через познавательное отношение к миру, к другому человеку субъект познает и себя, и пытается определить свое место в этом мире, прежде всего, как сознательного и действенного, активного субъекта. Механизм отождествления, таким образом, позволяет субъекту открыть в себе сугубо человеческие качества, понять свою активную роль в мире бытия, осваивать и изменять его, меняя себя. Через отождествление открывается все многообразие человеческого существования, показывающее одновременно со сходством и различия, варианты жизни.
Разотождествление можно было бы описать как противоположный по направленности процесс, способствующий разъединению, разобщению, разделению. Именно таким часто и видится процесс сепарации, что создает неверное и неполное представление о нем. Даже практикующие психологи часто ошибаются, рассматривая разотождествление, сепарацию как самоцель, как задачу, которая состоит в том, чтобы клиент справился с сепарационной тревогой, отделившись от родителя. Как общечеловеческая стратегия жизни разотождествление вызвано, прежде всего, стремлением к самосохранению, а также потребностью в поиске себя, в открытии своей индивидуальности. Это подтверждает Ж.-М. Кинодо, когда говорит, что болезненная реакция на разотождествление в то же время является структурирующим переживанием, поскольку «восприятие боли одиночества, во-первых, убеждает нас в том, что мы существуем в качестве отдельных и уникальных существ, уважающих других, и, во-вторых, в том, что эти другие отличаются от нас» (Кино-до, 2008, с. 15).
Потребность в самосохранении как причина стремления к раз-отождествлению имеет как индивидуальный, так и видовой характер. В последнем случае разотождествление обеспечивает разнообразие, вариативность, разброс в проявлении человеческих свойств, что всегда рассматривается как основание для выживания вида и его адаптации. Обсуждая проблему личного и коллективного бессознательного, К. Юнг писал, что «игнорирование индивидуального означает, естественно, ухудшение всего уникального, посредством чего в сообществе искореняется элемент развития… Как следствие в отдельном человеке… процветает только общественное и всякого рода коллективное, а все индивидуальное осуждено на гибель, т. е. на вытеснение» (Юнг, 1994, с. 210).
Для отдельного субъекта самосохранение через разотождествление тоже имеет глубокий смысл, поскольку в симбиозе с другим объектом человек теряет не только свою индивидуальность, но и право на инициативу, и становится полностью зависимым от Другого, чье мнение может оказаться неверным и даже опасным. Простым примером является разница между людьми в типах темперамента и, соответственно, в способах компенсации темпераментальных свойств в тех ситуациях, которые требуют дополнительных ресурсов. В этом случае ориентация на человека с другим типом темперамента и игнорирование своих особенностей может привести к эмоциональному выгоранию и снижению уровня активности, а также к более серьезным последствиям – к болезням и физическим травмам. Кроме потребности в самосохранении, разотождествление привносит в отношения между людьми эффект новизны, позволяет субъекту развивать свою идентичность, переживать свои подлинные чувства, совершать поступки, которые не были навязаны ему извне, но которые присущи ему самому. Именно разотождествление высвобождает идентичность из уз зависимостей, открывая перед человеком его природу и его дух, позволяет на новом уровне общения строить отношения с близкими людьми.
Можно ли утверждать, что разотождествление является одним из процессов, способствующих поиску человеком своего места в мире? Думается, что можно, ведь разотождествляясь, например, со значимыми людьми, субъект не дистанцируется от них, не разлучается с ними, а, наоборот, осваивает новые формы отношений, используя их вместо тех, которые уже изжили себя. Благодаря раз-отождествлению как способу упрочения своих позиций в мире осуществляется не столько разграничение (разделение) бытия на свое и чужое, не столько его пространственная дифференциация, сколько особое понимание бытия человеком, открытие бытия для себя, постижение его смысла, как уникального для данного субъекта. Разотождествление, конечно, может сопровождаться негативными явлениями – сильными эмоциональными реакциями, неадекватными действиями, неуверенностью вследствие потери опоры, авторитетной фигуры, которые не всегда воспринимаются как естественные и поэтому как преодолимые. Однако, способствуя развитию рефлексии и сопровождая ее, идентификация с Другим заменяется самоидентификацией, самотождественностью, но не в пространстве своего внутреннего мира, а в пространстве бытия, которое тоже открывается заново.
Оба процесса – отождествление и разотождествление функционируют в своем единстве на всем протяжении жизненного пути личности и создают основу для осуществления динамической целостности человека и бытия. Средствами отождествления раскрывается стремление субъекта к пониманию своей человеческой природы, а также к преодолению чувства одиночества и опасности; разотождествление ведет к индивидуальному своеобразию, к созданию особой бытийности, к раскрытию уникальной позиции конкретного человека в мире.
Обобщая методологические принципы научного исследования проблемы поиска человеком своего места в мире, выделенные нами, подчеркнем, что среди важнейших следует отметить личностный принцип, принцип развития и принцип субъекта, а также принцип единства человека и его бытия.
По существу, каждый из принципов раскрывает в человеке определенную сторону его жизненного устремления к самоосуществлению, и по-разному объясняет это устойчивое желание найти себя в мире.
Следует попытаться очертить изучаемую проблему в целом, опуская маловажные детали, и показать место каждого из обсуждаемых выше принципов в контексте ее философского обоснования, «мировоззренческого осмысления». По-видимому, начать методологический анализ проблемы стоит с представления ее в виде некоторого парадокса. Парадоксальность поиска смысла жизни, поиска человеком своего места в мире состоит в том, что, с одной стороны, субъект представляет собой и часть человечества вообще, и часть бытия, центром которого он является, но, с другой стороны, как только мы пытаемся объяснить природу человека именно таким образом, он теряет свою человеческую сущность, поскольку перестает быть индивидуальностью. Х. Плеснер пишет: «Сознание индивидуальности собственного бытия и сознание контингентности этой совокупной реальности необходимо даны вместе и требуют друг друга. В собственной его безопорности, которая одновременно запрещает человеку иметь опору в мире и открывается ему как обусловленность мира, ему является ничтожность действительного и идея мировой основы» (Плеснер, 1988, с. 150). Получается, что субъект отчуждается от мира, чтобы вернуться к нему, но уже в другом качестве. Если же он остается в мире, ища в нем опору, т. е. не обнаруживая своей индивидуальности, то он теряет не только себя, но и мир как таковой, поскольку перестает их различать, перестает дифференцировать мир и себя. Думается, что в разрешении каждым человеком этого парадокса и заключена суть человеческой жизни, человеческого существования, хотя понятно, что разрешить его не представляется возможным, но можно, однако, ориентироваться на него, распознавать его, а значит, и стремиться к познанию своей природы, индивидуальности, уместности. «Эти два образа – меня и моей ситуации по отношению к другим субъектам – не могут слиться воедино, эти две перспективы не могут совпасть. Я колеблюсь в довольно жалком состоянии между ними. Если я буду ориентироваться на перспективу субъективности, то погружу все в себя, и, жертвуя всем во имя своей уникальности, я приду к абсолютному эгоизму и гордыне. Если я буду следовать перспективе объективности, я буду поглощен всем, а растворяясь в мире, изменяю моей уникальности и уступаю своей судьбе» (Маритен, 1988, с. 237).
Взаимосвязь обсуждаемых выше принципов в целом определяет общеметодологические основания теоретического и эмпирического исследования проблемы сепарации личности, отражающие отношение авторов настоящей книги к изучаемой проблеме. В этой системе принципов личностный принцип указывает на два важных положения, первое из которых состоит в том, что формирование человека как личности происходит в определенной системе отношений, в мире, прежде всего, в отношениях между родителями и ребенком, становление которых происходит еще до момента его рождения; второе положение, раскрывает суть принципа детерминизма, сформулированного С. Л. Рубинштейном как «внешнее через внутреннее» и заключается в том, что внешние воздействия преломляются через внутренние условия, т. е. через мотивацию, ценности, опыт личности. Однако, как отмечалось выше, личностные особенности нередко служат человеку для приспособления, адаптации к определенному социальному окружению, к обществу, в котором он живет. В этом смысле в личностном принципе обнаруживается, если можно так сказать, «центробежная» сила, экстернальная установка, направленность на мир.