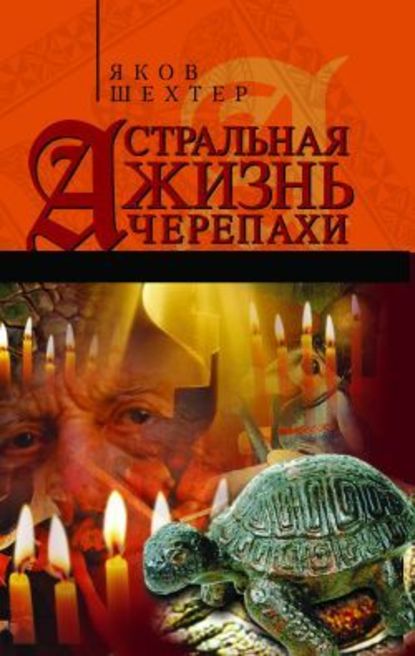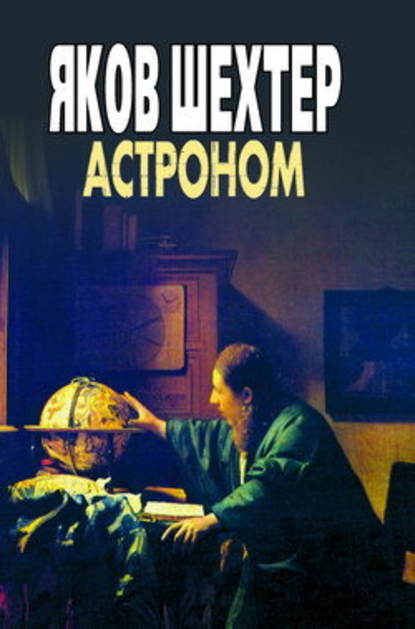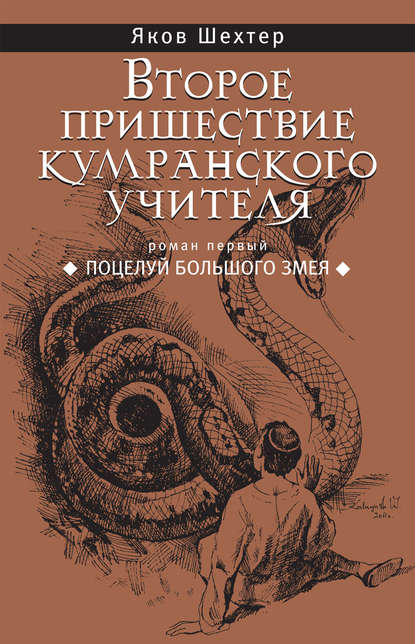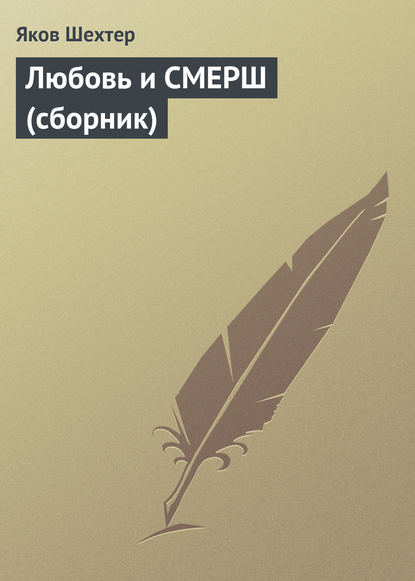
Полная версия
Любовь и СМЕРШ (сборник)
– Нет, нет, ничего, просто задумался. Слушай друг, – он с нежностью посмотрел на черновицкого, старый, безотказно работающий прием, когда нужно докрутить, расколоть собеседника, – а чего ты уехал из своих Черновцов. Оставил паркет, литые решетки, старинную архитектуру. На хрен тебе, извини, пали помойки Большого Тель-Авива?
– Тут наша Родина, и мы должны ее любить, – выскочил малец, усмехаясь глумливо и стыдно.
«Дурак, – подумал Аркадий. – В России и я смеялся над этим анекдотом, а теперь мне не до смеха. Какой уж тут смех, ведь это действительно наша Родина, но как же ее такую любить?»
Ему вдруг захотелось сделать что-то приятное черновицкому, наивному простаку с доверчивыми глазами. Работает, поди, фрезеровщиком на заводе, гнет спину посреди голимого железа, а нынешний разговор воспринимает как глоток воздуха, общение с богемой. Потом еще долго токарям будет байки рассказывать.
– Выпьем за парижан! – Аркадий поднял стакан, – за курчавых, картавых парижан с горбатыми носами. Лехаим!
Выпили. Малец, еле прожевав кусок картошки, принялся снова разливать.
– Я ведь тоже урожденный черновицкий, – поспешил он присоединиться к успеху. – Когда мне было три года, родители переехали в Кишинев. Так что вырос я в Молдавии. Но родились мы, – он дружески прикоснулся к плечу черновицкого, – в одном городе.
– М-м-м! – Аркадий застонал от восторга, – Черновцы и Кишинев, это же просто золотой сплав, настоящая альгамбра!
– Амальгама, – робко поправил черновицкий.
– Пусть амальгама, – Аркадий развеселился и потому подобрел. – Какая, на фиг, разница, главное, что красиво!
Все заулыбались, и, отвечая на улыбки, Аркадий вернулся к причине застолья.
– Пошто гуляем, братие? Повод есть или вообще, в честь приятного климата и высокой зарплаты?
– Поминки у нас, – отозвался мальчонка. – На скаку потеряли товарища…
– Кто, кто умер?
– Македонский. Помнишь, был такой графоман философ.
– Как, – ахнул Аркадий, – Алекс Македонский?
– Увы, – склонил голову черновицкий, – увы и ах.
«Саша… В последний раз он позвонил откуда-то с севера, кажется из Цфата. Говорили недолго, прощаясь, он сказал:
– Жди, скоро увидимся.
Когда теперь увидимся, и где? И сколько осталось ждать?»
– Итак, помянем, – черновицкий призывно поднял стакан, – за упокой души и на вечную память.
«Саша…. Фиглярствую и куражусь, а его уже нет и никогда не будет. Вот так и о тебе вспомнят, как ты вспоминаешь о нем».
– А как это случилось и когда?
– Что случилось? – не поняла Берта.
– Саша, Македонский.
– А просто, – опять влез мальчонка. – Сочинил новую тягомотину. Еще глупее прежней. Понес советоваться. Объяснили ему – не пиши, Сашок, не мучай собачку. А он возьми и напечатай. После издания такой чуши в моих глазах он скончался.
– Та-ак, – Аркадий стал потихоньку соображать, о чем идет речь. – Книжка ладно, книжка туда, книжка сюда, с ним-то что?
– Да ничего с ним, – наконец сообразила Берта. – Живехонек, целехонек, здоровехонек. Живет в своем Цфате, наслаждается горным воздухом и молодой женой сефардкой…
Стало скучно. Ну просто совсем, до самого дна зеленой, илистой скуки. Когда-то давно, у костра в стройотряде, Аркадий спросил хорошего приятеля о самом заветном, любимом, недоступном. Было такое желание в молодости – говорить по душам. Особенно у костра, глубокой ночью, когда дрова уже прогорели и по жару углей молниями проскакивают искры.
– Парить над толпой, – ответил приятель.
Умом Аркадий принял, но сердцем не понял, посчитав приятеля снобом и зазнайкой. А вот сейчас, спустя столько лет, пришло понимание.
Ругать или объяснять что-либо этим придуркам не было ни сил, ни желания. Дешевая муравьиная возня, суета бесполезных букашек. Он смотрел на них сверху, возвышаясь, а может, действительно паря над бездарной убогостью игры. Делать тут больше нечего…
– Двадцать два.
– Что-что? – переспросил мальчонка. – Уже рецензию, простите, некролог, в журнале успели поместить?
– Перебор, говорю, перебор.
Аркадий встал, сухо кивнул головой и двинулся к выходу. Берта, привыкшая к его закидонам, молча шла следом. Выйдя за порог, Аркадий остановился. Полуприкрытая дверь отделила его и Берту от подвала.
– Дура, – сказал он, укоризненно смотря ей в глаза, – пускаешь в дом всякую шушеру.
Глаза Берты слегка сузились.
– А я думала, тебе понравятся мои любовники…
– Как, эти двое?
– Нет, трое.
«Вот змея, не сдержалась все-таки. Весь вечер молчала, хорошая девочка, и вот, не сдержалась. Таких надо учить на месте, не отходя от тела».
– Берта, – он закашлялся, словно преодолевая нерешительность. – Я, собственно, к тебе по делу. Хотел рассказать, поделиться… Трудно тащить в одиночку, а тут эти придурки, словом не перемолвишься…
– Арканя… Чего ж ты молчал, дурачок, я бы их выгнала, поговорили б. Может, и сейчас не поздно… возвращайся… я мигом устрою.
– Да нет, неудобно. Вот послушай, я в двух словах. Послушай, а потом созвонимся.
Он снова закашлялся, на сей раз без труда, то ли войдя в роль, то ли действительно смущаясь. Берта прикрыла плотнее дверь и внимательно посмотрела на Аркадия. В конце улицы деловито сновали сборщики мусора, самоуверенный базарный кот неторопливо возвращался из рыбного ряда. Холодный свет луны переливался в его распушенных усах.
– Я шпион, провокатор, – тихо произнес Аркадий. – Казачок засланный. Внедряюсь в религиозную террористическую группировку.
Он помолчал.
– Все вроде нормально… но сегодня я почувствовал, что меня подозревают. Ты понимаешь, чем это пахнет.
– Аркашка, – Берта испуганно прикрыла рот рукой, – Арканечка, ты совсем спятил. Ты ж иврита совсем не знаешь, какой из тебя провокатор?
– Я под раскаявшегося канаю, – сумрачно произнес Аркадий. – Под вернувшегося к религии. Хожу в ешиву, ношу кипу. Пока сходит нормально. И знаешь, – он с нежностью заглянул Берте в глаза, – это вовсе не так глупо, как представляется со стороны.
– Возвращенец! – ахнула Берта. – Так вот почему ты отказался от сервелата. Я-то думала, шиза давит, а оно, гляди, куда покатилось.
– Дура! – во весь голос закричал Аркадий. – Поверила, дура! Сколько спермы на тебя извел, сколько сердца отдал – а ты поверила!
Он повернулся и бросился вниз по улице, злобно топча ногами мусор.
– Дурачок… – Берта плакала уже по-настоящему. – Любовники… и ты поверил! Вернись, куда ты бежишь, дурачок!?
Но Аркадий не слышал. Домой, ему вдруг отчаянно захотелось домой. Не в сырую квартиру, снятую за полцены рядом с арабским районом, которую он официально указывал в качестве адреса, а в светлый дом, с голубыми занавесками, замирающими на сквозняке. Стать как все; уходить в пять с работы, выбрасывая из головы производственные проблемы, чтоб ждала жена, теплое, любящее существо, дети, нет, один, одного хватит, ужин, телевизор, газеты – ха-ха-ха – спокойная любовь перед сном в чистой постели. Мещанский быт, над которым он всю жизнь подтрунивал и смеялся, вдруг превратился в желанную, но недоступную сказку, мираж перед глазами заблудившегося в пустыне путника.
«А ведь было все это у тебя, было: и жена, и ребенок, и чистая квартира. И работа была, престижный труд сценариста-эстрадника, поездки, знакомства. Но ведь как грыз ты ее, жену свою, как мучил, терзал. Изменял с каждой допускавшей до себя самкой, о свободе кричал, просторе для творчества. Вот сейчас у тебя свободы хоть отбавляй и простора навалом, чего же стонешь, чего бьешься о борт корабля?»
Он потер щетину на подбородке и прибавил шаг. Освещенная Алленби осталась позади, Аркадий погрузился в полутьму Керем Хатейманим, привычно продираясь сквозь путаницу коротеньких улиц. Разноцветные огни причудливых вывесок хорошо освещали дорогу. Говорят, раньше в каждом втором доме тут была синагога, но времена изменились, у публики возникли иные запросы и теперь вместо синагог – рестораны.
«Не любил, оттого и мучил. Злой был – на нее, на себя, бесталанного. А пил для того, чтоб проснуться утром, в мерзости и паскудстве и выплеснуть злобу свою на страницы очередного скетча. Ведь иначе не писалось, то ли потому, что жил не с той, а может, оттого, что занимался не своим делом.
Но какое оно, твое дело? Ведь сроду другого не умел, как составлять слова в цепочки, играть ими, будто кистенем, или опахивать, словно черный невольник, лицо утомленного султана.
Невольник, негр, литературная моська… Ничего, он еще напишет свою Книгу, главную, обо всем. И кровь будет в ней, настоящая, большая кровь, и страсть, и эротика. Ее будут читать в каждом доме, упиваясь, взахлеб, взасос… Он знает, как угодить и домохозяйкам, и интеллектуалам. Одним достанется интрига в голливудском темпе, другим – love story Андрея и Пьера.
Расставания и встречи, приливы и охлаждения. Он прилипчив, словно скотч, неуклюжий, простодушный Пьер. Уйти от него можно лишь в небытие или к женщине, что равносильно небытию. Андрей делает предложение трепетной курочке с голубыми глазами. Курочка счастлива, но вскоре доброжелатели доносят ей правду, она пытается бежать с другим, ее ловят, возвращают. Дело потихоньку движется к свадьбе, тут начинается война, и Андрей погибает. Безутешный Пьер женится на невесте друга, рожает с ней кучу детей и живет здоровой жизнью хлебосола и книгочея. Но каждый раз, совокупляясь с женой и зарываясь в нежный пушок ее губ, он представляет холеные усы погибшего друга и рычит от неутоленной страсти».
Аркадий оступился: скользнув по гладкому боку бордюра, подошва сорвалась на мостовую. Взвыв от боли, он плюхнулся на тротуар. Над головой зашелестели крылья: как видно, потревоженная стая глубей вспорхнула с карниза. Растирая щиколотку обеими руками, Аркадий продолжал скулить, словно потерявшийся щенок.
«И не так больно, как нелепо и обидно: обидно за ногу, и за собачью работу, и за опостылевшее одиночество. Когда же все это кончится, когда настанут лучшие дни? И ему полагается немного счастья, он его заслужил.
Заслужил… Что значит заслужил? Значит, есть кто-то, раздающий награды и отвешивающий наказания. А иначе перед кем они, эти заслуги?»
Он перестал рычать.
«Ого, Берточка, ты даже не подозреваешь, насколько попала в точку. Надо взять себя в руки и идти домой. Душ, стакан холодной колы. И спать, спать…
Набережная. До Яффо еще минут пятнадцать, плюс десять вдоль бульвара, и он дома. Полчаса прогулки вдоль моря, одна польза и ничего, кроме пользы. Дыши глубже носом, и все пройдет».
Они шли ему навстречу, улыбаясь и похохатывая, молодые, с ровным блеском зубов в расщелинах курчавых бород. Белые рубахи, не заправленные в брюки, большие кипы на головах и кисточки до колен. Откуда взялась она, теплая волна страха, накатила из глубины пищеварительного тракта и ударила по щекам? Аркадий побежал, не понимая куда и от кого.
Отпустило только перед самым Яффо. Он оглянулся – ничего себе пробежка. Давненько не приходилось так шуровать, наверное, со времен школьных кроссов. Увы, пора обращаться к врачу. Если бегать от первого встречного с кипой на голове, то лучше на улицу не выходить вовсе.
Аркадий сел на скамейку, откинулся поудобнее на жесткую деревянную спинку и закурил. После второй затяжки засвербело, закололо в горле, словно кто-то щекотал его изнутри кончиком гусиного пера. За щекоткой пришел кашель, заядлый, тугой кашель, рвущий на куски и без того утомленное горло. Он бросил сигарету и, продолжая кашлять, злобно растер ее ногой.
«Сам виноват. Во всем виноват только сам. Мог бы жить по-другому, встречаться с другими людьми, любить других женщин. Как демиург, создал собственный мир, населил его своими героями, а теперь мечешься между опостылевшими персонажами. Но, в отличие от книжных, они не уходят со сцены, даже если перевернуть страницу. Даже если запереть книжный шкаф, закрыть глаза и заткнуть уши. Они преследуют тебя, твои герои, твое порождение, литература, которая всегда с тобой.
И Берту ты придумал, сочинил и пустил гулять по свету. Она ведь совсем уже не девочка, твоя Берта. Как ни припудривай, как ни маскируй, морщинки на верхней губе выдают возраст. И зубы пора лечить, ох, как пора. Хоть и бешеные деньги, но дыхание любви тоже чего-нибудь стоит.
Маленькая собачка, добрая маленькая собачка… И секс с ней – давно уже не любовное соитие, а скорее, акт дружбы и сочувствия».
Аркадий машинально достал новую сигарету, закурил, глубоко затянулся. Кашель не повторился.
«Ты ведь и возвращался к ней из-за этого, из-за тех минут после, когда уже ничего не хочешь и надо говорить, а с ней можно молчать, и это молчание лучше любых слов. В одну из таких минут она рассказала тебе правду, но ты постарался забыть, вынести за скобку, как перебор, чересчур яркий эпизод.
Ее изнасиловали, Берту, мальчишки из старшей группы пионерлагеря. Акселераты, твердые и горячие, словно раскаленное железо.
Один из них пригласил ее погулять в роще, и Берта пошла, трепеща, на первое свидание в жизни. О чем мечталось ей в недолгие минуты ожидания, о чем грезилось? Он привел с собой двух приятелей, и они терзали ее весь вечер с беспощадностью часового механизма, помноженной на энергию паровозного шатуна.
Милиция открыла дело, но родители акселератов уломали отца Берты взять деньги и забрать заявление. Отец давно мечтал о машине, инженеришко, винтик на заводе, ему отсчитали всю сумму наличными, и Берта согласилась.
В августе они поехали в Крым, всей семьей, на „Москвиче“, стареньком, но еще хоть куда бойком, и в Крыму его украли, на второй день. Обратно возвращались поездом, ветер из окна трепал волосы отца, уже совсем седые, Берта смотрела на его осунувшееся лицо и жалела до боли в животе. Потом у нее началось воспаление, эти подонки нарушили ей что-то, и после года процедур и проверок пришлось удалить матку.
Она ждет его, Берта, который уже год ждет, но он ничего не может ей дать. Эмоции ушли из его организма вместе со словами, их обозначавшими. Он размазал, распластал себя на тысячах газетных страниц, ему нужно собирать себя заново, по кусочкам, словно разбитую мозаику».
Сигарета кончилась. Аркадий бросил окурок и решительно двинулся в сторону дома.
«Хватит. Так дальше жить нельзя!»
Он провел рукой по подбородку.
«Побриться. Давай начнем с малого. Немедленно побриться!»
Аркадий шагал вдоль аллеи, размахивая руками. Невидимые птицы шуршали крыльями среди ветвей. Тень бежала перед ним, сокращаясь и убывая, прыгала под ноги, исчезала за спиной и снова вырастала, чтобы опять исчезнуть у следующего фонаря.
Шуршание над головой усиливалось, превращаясь в центральную тему. Остановившись, Аркадий подхватил с асфальта жестянку из под «Колы» и рассерженно запустил в крону ближайшего дерева. Шуршание смолкло, белое перо выскользнуло из темноты и мягко спланировало под ноги Аркадию.
«Вот так, резко, четко, точно. Так нужно жить, а не размазывать слюни и сопли. Так, вот так, вот так».
Ему нравились собственная решительность и вообще он сам, прямой и способный к переменам. И даже эти, в кипах, тоже нравились ему. Честно говоря, он даже слегка завидовал их убежденности в собственной правоте, сплоченности вокруг общей идеи.
«И я бы мог, – пометил Аркадий где-то на краю сознания, – быть увлеченным, бегать, доказывать, спорить до хрипоты. Пусть другие смеются, а он целостен в хрустальном дому своей веры, и она греет его, эта целостность, растопляя осколочки льда в глубине сердца. За те же деньги можно жить в стране, что тебе нравится, дружить с людьми, которые тебе по душе, любить тех, кто тебя любит. Стоит только сменить угол зрения – и ты уже в другом мире».
Вот и его подъезд. Грязная лестница без света, выщербленные ступени. Влажная духота, пропитанная кошачьей мочой. Опять не поворачивается ключ.
«Сколько раз говорил тебе, смени замок! Надо, надо, крути теперь ключ до ломоты в пальцах, сдирай кожу. Тьфу, придурок, лентяй, образина небритая, крути, крути, пока не поумнеешь!»
Замок вдруг щелкнул, дверь резко распахнулась, и Аркадий влетел в маленькую прихожую. В доме стоял густой дух забытого мусора.
«До утра придется этим дышать», – взвыл Аркадий. Прикрыв дверь, он бросился в кухню, распахнул настежь окно и, выдернув из-под раковины пластиковый пакет, швырнул вниз. Пакет мягко чавкнул, приземлившись на асфальт, и развалился. Окурки, объедки и прочие отходы жизнедеятельности рассыпались по тротуару.
«Гори оно все огнем», – решил Аркадий и пошел в душевую. Пальцы, натертые ключом, нестерпимо саднили. Он включил воду и сунул руку под струю.
«Звери, мойте лапы…»В треснутом зеркале шкафчика покачивалась невыбритая, пьяненькая физиономия.
«Зверь, иностранный рабочий. Поденщик на литературных плантациях. И чем ты лучше того румына? Тот хоть дома строит, а ты производишь грязную, перепачканную краской бумагу, о которой на следующий день уже никто не вспомнит. Кстати о памяти, не худо и побриться, как ты думаешь?»
Намыливая щеки, он с плохо скрываемым отвращением рассматривал себя в зеркало.
«Ну и рожа. Стареющий неудачник, борзописец и пьяница. Отечество – бросил, родной язык – променял на басурманское курлыканье, семью – развалил. Остался только долг – жить и страдать, и ты должен его выполнять.
Знакомые слова. Вообще, все слова ему давно и хорошо знакомы. Он их или писал, или читал, или, по меньшей мере, произносил. Круг замкнулся, новых знакомств больше не предвидится.
От всей его интеллигентности остался только хороший русский язык. Но кому он нужен, его язык, особенно здесь, в Израиле? Да и в России сейчас изъясняются на чудовищном воляпюке; блатном, фартовом, системном – каком угодно, только не так, как он привык думать и писать. Интересно, куда подевались полчища корректоров, редакторов и главлитов? Неужели все они торгуют сластями и гигиеническими прокладками?
Редакторы… Перед отъездом знакомый редактор толстого журнала вдруг разоткровенничался:
– Куда угодно уезжайте, – он говорил ему „вы“ и регулярно печатал, часто вопреки мнению редколлегии. – Куда угодно, в Бразилию, Антарктиду, к черту на рога. Русская интеллигенция привыкла жить с мыслью об эмиграции. Будете как Герцен, Набоков, Бунин. Только, упаси вас бог, не в Израиль. Тогда вы чужой, табу. Послушайте старого, седого русака – не хороните себя и свой талант».
Кому он должен? И за что? За глупую, бессмысленную тоску, именуемую жизнью? Он не нуждается в такой милости, он может отдать ее обратно, целиком, без сдачи, таким же щедрым жестом, как состоявшееся без его ведома и спроса рождение.
Затупившееся лезвие фамильной бритвы со скрипом ползало вдоль щеки.
«Опять забыл наточить. И это забыл. А жест действительно получается красивый. И совершающий его сравняется с тем, кто совершил первый, непрошеный жест, а значит, вырастает до таких же размеров».
Он перевернул бритву и, словно примериваясь, несколько раз провел тупым концом поперек горла. Туда-сюда, туда-сюда.
«Не осел, с тоскою влекущий телегу, нагруженную камнями, а гордый человек, личность, своею рукою обрывающий теснящие грудь помочи».
Он посмотрел в глаза человеку с бритвой у горла и вдруг замер.
«Г-споди, да ведь все это он уже читал, конечно, читал, и про курсистку, и про шпиона, и про бритву. Он даже помнит, где именно…»
Аркадий стер полотенцем пену с невыбритой щеки и ринулся в комнату. «Вот он, знакомый томик, оглавление, кажется, это было здесь – да, конечно, Андреев, „Нет прощения“…
Разжалован. Одним небрежным щелчком по носу его низвели из демиурга в персонажи. Не только слова, но и жизнь, вся его оригинальная, неповторимая жизнь, оказывается, уже записана кем-то на белых квадратиках беспощадной бумаги. Откуда-то возник, проявился развеселый мотивчик и закрутился, зазвенел в ушах.
Раньше был Аркадий журналист прекрасный,А теперь Аркадий персонаж несчастный.Он опустился на диван и замотал головой. Через минуту мотивчик исчез, но вместо него навалилась усталость.
„Завтра, – зашептал Аркадий, сонно покачивая головой, – завтра, с утра – и в ешиву“.
Не веря собственным словам, он несколько раз повторил их, пробуя на вкус каждую букву, примеряя на себя завтрашний день. Увы, возбуждение, вызванное алкоголем, схлынуло без следа, прихватив остаток сил.
„Или послезавтра, сперва отдохнуть, придти в себя. А жизнь – она длинная, длинная, длинная…“
Решительность большой птицей метнулась в окно и исчезла, разочарованно шелестя крыльями.
С трудом поднимая руки, Аркадий стащил рубашку и шорты и, уткнувшись носом в диванную подушку, поплыл, закачался на мягкой волне сна. Завтра все уйдет, забудется, растает, он снова забарабанит по клавишам компьютера, словно заяц из рекламы батареек „Duracell“, выкурит свои полторы пачки, выпьет шесть чашек кофе и вместе с секретаршей посмеется над собственной наполовину выбритой физиономией.
Через распахнутое окно донесся скрип тормозов. Голос Замира четко произнес:
– Объект погасил свет, видимо, пошел спать. Подождем до утра.
Аркадий спал. Электронные часы на его руке бойко высвечивали мгновения ночи. Завтра ему предстояло написать фельетон, обзор новостей, три стихотворения и критическую статью о Тель-Авивском клубе литераторов.
Бесцеремонно спроваженный мальчонка грустно поплелся на автобус.
„Все им: наша публика, наши гонорары, наши женщины. Налетело этих гастролеров, словно навозных мух. Каждый день – другая знаменитость, не продохнуть от блеска орденов“.
Автобус на центральную станцию подошел почти сразу. Мальчонка оглядел полупустой салон и бесцеремонно уселся напротив красотки восточного типа.
„И наши мэтры хороши… Дальше собственного носа не видят. А в учителя лезут, в наставники!
Ниспровергатели основ! За жалованье в шекелях скулят о прелестях утраченного Хозяина. Статьи строчат с оглядкой на него. Книги стряпают для него, любезного. В подполье, тиражом пятьсот экземпляров, как шпионское донесение. Мол, придет время – оценят. Добровольные резиденты русской культуры в изгнании. Держите карман! Вся беда, что новому Хозяину вы без надобности“. Мальчонка поднял голову и, не стесняясь, принялся рассматривать соседку.
„Заезжий Мастер и провинциальная Маргарита. А рассказ сложился и уже стоит перед глазами. Четкий, словно восклицательный знак. Только бы хватило слов. Завернуть, закрутить, выставить. Достичь бы такой густоты, как волосы этой красотки. Ясности и простоты, на уровне белизны блузки“.
Соседка, заметив взгляд мальчонки, нахмурила брови.
„Религиозная недотрога. Развелось их… Но хоть красивая. Лицо сияет, как у ангела. С такой и согрешить не грех. А то и жениться… Жены из них хорошие, если приручишь“.
Он представил себя рядом с ней, в большой вязаной кипе и курчавыми пейсами вразлет. А дальше пошло, покатило само собой: дом в Галилее под высокой крышей из красной черепицы, куча смуглых детей, похожих на него и на красотку, счастливое лицо жены среди кастрюль и пеленок, ночные бдения у компьютера, он напишет свою книгу, настоящую, большую, и на раввина выучится, эка невидаль, не сложнее кандидатской, ученики, последователи, он выходит благословить народ перед субботой и, привычно сложив пальцы щепотью, осеняет… Нет, это уже не оттуда. Хотя, какая разница, восторги культа везде одинаковы, разница только в атрибутике. Но жена сефардка! Вот если б согрешить без обязательств, тогда пожалуйста».
Он перевел взгляд на ее грудь, довольно отмечая, как румянец стыда заливает красоткино лицо.
Черновицкий вернулся в гостиницу под утро. С наслаждением, глубоко втягивая холодный кондиционированный воздух, прошелся по мягкому ворсу ковра и, беспорядочно разбрасывая одежду, устремился в душ. Самолет домой, в Москву, уходит в шесть вечера, можно было совершенно роскошно поспать и поработать. Мелодия главной темы еще не оформилась окончательно, но уже висела тучкой у виска, обещая вот-вот разразиться благодатным ливнем на нотные линейки.
«Ну и темперамент у этой Берты, – думал он, крутясь под колючим душем. – Отдача, как у пушки. Хоть по Парижу пали!»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.