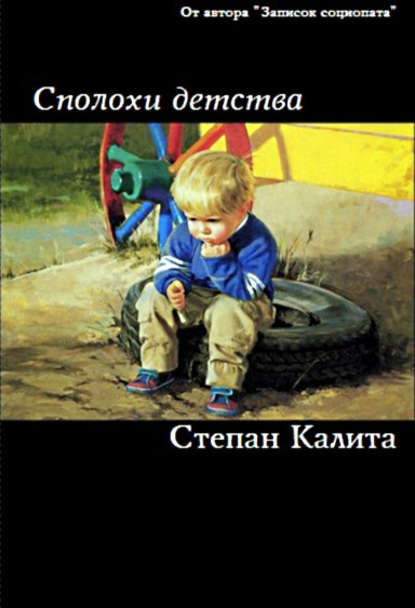
Полная версия
Сполохи детства
– Степ, ты, когда подрастешь, женишься на мне? – спрашивала Арина.
– Да! – я кивал снова и снова. А девчонки хохотали. Им очень нравилась эта игра в «жениха и невесту». И никто не собирался меня дразнить, потому что сама Арина, заводила в их компании, была очень серьезна.
– Отлично, – говорила она и грозила пальчиком. – Смотри, не обмани. А то один моей маме обещал. А сам так и не женился. Вы, мужчины, все такие.
Однажды Арина наклонилась и поцеловала меня в щеку. До сих пор помню, как я смутился, и почувствовал, как от сладкого чувства ослабели ноги…
* * *Через многие годы я приехал в район детства. Я пересекал двор возле давно закрытого и заброшенного детского сада, и вдруг встретил ее… Она была в школьной форме. Шла мне навстречу. Остановилась, уставилась во все глаза. Я смутился, прошел мимо. Думая при этом: «Что эта странна девушка ТАК на меня смотрит?» И лишь, когда миновал двор, и свернул за угол, вдруг понял – это же Арина. Только сильно повзрослевшая. В моей голове возник образ высокой девочки, ловко скачущей через резинку. Я развернулся, нерешительно пошел обратно, не слишком понимая, что делать. Хотелось с ней заговорить. Но как?!. Она явно меня узнала… Во дворе ее уже не было. Я обошел детский сад по периметру. Но она исчезла… исчезла из моей жизни навсегда.
* * *Я много раз влюблялся в девочек и женщин просто за то, что они не похожи на других – парадоксально. Наверное, такая любовь больше свойственна женщинам. Они ценят в мужчинах оригинальность и талант, особые качества, отличающие их избранника от серого большинства. И для меня тоже, очень по-женски, отличительные черты существ женского пола всегда были необыкновенно важны.
Однажды я влюбился в девочку Олесю только за то, что у нее были огромные пухлые щеки. Сама она при этом была худенькой и маленькой. Тем удивительнее были щеки, делающие ее похожей на хомяка, а голову на грушу.
Я был так восхищен Олесей, что даже привел ее из детского сада домой, чтобы показать родителям.
– Посмотри, мама, какие щеки! – восклицал я, щипая Олесю за лицо.
Самое удивительное, что она не только не обижалась, но и принимала мои комплименты как должное, осознавая, видимо, что щеки – ее главное достоинство…
Когда через многие годы семнадцатилетняя Олеся поехала с мужем (она очень рано вышла замуж) в Италию, история повторилась в точности. Темпераментный итальянский таксист прихватил девушку за щеку и воскликнул восторженно: «Bellisimo!» После чего взбешенный муж взял его за воротник, собираясь устроить взбучку. Драку удалось предотвратить с большим трудом. Олеся рассказывала, что убедила мужа, будто у итальянцев так заведено. Как только увидят прекрасную женщину, тут же – хвать ее за щеку и кричат: «Bellisimo!»
С Олесей, которую все называли моей невестой (она не возражала), мы однажды отправились к ней домой. Там Олеся поведала маме, что собирается замуж. Олесина мама такому повороту событий совсем не обрадовалась – и выгнала меня взашей. Озадаченный, я обо всем рассказал своей маме.
– Грубые неинтеллигентные люди, – констатировала она. – Больше к ним не ходи.
И я не ходил. Тем более, что Олеся на следующий день в саду сказала, что мама попросила ее «своих кавалеров больше в дом не приводить». Подозреваю, будущему Олесиному мужу с такой тещей пришлось несладко.
Удивительным образом мы с Олесей после детского сада оказались в одной школе, в параллельных классах. И потом периодически встречались. Правда, о свадьбе речь уже не шла. Да и дружба у нас, в общем, не сложилась. Дружить с девчонками было не принято. Да и интересы у нас порядком разошлись.
Зато потом, уже после школы, мы неожиданно оказались в одной компании. И разговорились. Жизнь у нее, в общем, сложилась удачно. Сейчас Олеся многодетная мама. Я однажды видел ее малышей – у них грушевидные мордашки с огромными щеками…
В общем, для меня индивидуальность всегда была важнее такой банальной вещи, как красота. Впоследствии я почти влюбился в девочку, которая умела громко свистеть. У нее отлично получалось – может, потому, что двух передних зубов недоставало. Мне очень нравилась одноклассница, у которой один глаз был карий, а другой – зеленый. Меня в разное время привлекали поэтесса и любительница тантрического секса. Я обожал женщину, делавшую колоссальные успехи в бизнесе. И одновременно любил девушку-скрипачку с тонкой талией и большой попой. И конечно, когда я познакомился с фанатичной любительницей пауков, наш роман был неизбежен. Но о нем я предпочитаю не вспоминать.
* * *В шесть лет от роду я уже был женат. Конечно, пока неофициально. Но брак был вполне серьезным – с моей и с ее стороны. Мы ходили везде, держась за ручку. Я целовал ее в щеку и губы. И она с удовольствием их подставляла. Мои малолетние приятели при виде такого «безобразия» выражали большое удивление. А мы заявляли им, что когда подрастем, обязательно поженимся. Нужно только немного подождать.
Подождать нас уговорила ее мама, женщина экстравагантная, с отличным чувством юмора и стиля. Я запомнил ее в широкополой красной шляпе с выгнутыми полями. Она постоянно курила сигареты через золотистый мундштук и меняла кавалеров, как перчатки. Почему-то предпочитала усатых мужчин. Я то и дело видел во дворе ее дома весьма своеобразных усачей – усы у них были разной степени длины, густоты и цвета – от моржовых боцманских до маленькой тонкой полоски под носом. Ей явно нравилось, что у ее малолетней дочери уже в таком возрасте завелся «жених» – меня она привечала, поила чаем и разговаривала со мной, как со взрослым. Как-то раз даже спросила, не собираюсь ли я отпустить усы. Я серьезно ответил, что, скорее всего, отпущу сразу усы и бороду – так в то время носил мой папа. Она неодобрительно покачала головой и сказала, что с усами и бородой я буду похож на полярника, и она не уверена, что Полина (так звали мою шестилетнюю жену) тогда будет меня любить. «Будет!» – уверенно возразил я. «Как скажешь», – согласилась, весело смеясь, ее мама.
Как некоторые моряки заводят себе жен в каждом порту, как курортники берут жену на время отпуска на теплых морях, так я имел жену только в дачном варианте. Мы общались только там. Город был территорией далекой от любви, и нам даже в голову не приходило когда-то встретиться там. Все происходило в течение двух-трех лет, а потом сошло на нет, как это бывает с подрастающими детьми, курортниками и моряками дальнего плаванья – ведь в этом нет ничего серьезного, это так, романчик на время…
Все началось в один прекрасный день, когда я копался на огороде. Меня отрядили прополоть сорняки, что я с большой неохотой делал. У наших соседей по даче поселилась интереснейшая старушка – художница. Маленький домик с верандой стоял на отшибе от главной усадьбы. Этот домик (он потом сгорел за считанные минуты) соседи сдавали на лето. Днем старушка гуляла, или сидела на веранде с мольбертом – и писала акварелью местные пейзажи. В то время она казалась мне очень и очень старой. По моим понятием, ей было лет сто, не меньше. Руки ее напоминали сухие ветки и сильно дрожали, но кисть она держала твердо, и картины, я отчетливо это помню, отличались четкими линиями, нисколько не смазанными.
Мама Полины каким-то образом познакомилась со старушкой-художницей и во что бы то ни стало вознамерилась, чтобы та давала ее дочери уроки. Эта прихоть и позволила мне обрести жену… Сначала я заметил девочку с ранцем, которая уверенно шагала мимо нашего забора. Она сразу заинтересовала меня миловидным личиком и огромными синими глазами. Потом я увидел ее еще раз, и еще… И наконец заметил, что она ходит к художнице. Тогда я припал к забору, и стал наблюдать за ней. Она сосредоточенно, не отвлекаясь ни на что, рисовала чашки и фрукты с натуры. А старушка делала ей самые разные замечания. На мой интерес к ним они поначалу не обращали никакого внимания. Но однажды художница позвала меня жестом своей подагрической руки – поманила костлявым пальцем – и я нехотя направился к ним.
– Как тебя зовут, мальчик? – спросила старуха.
– Степан, – ответил я.
Она тоже представилась, но я, увы, не запомнил ее имени.
– А это Полина, – сказала художница, проницательная, она, конечно же, заметила мой интерес к девочке. Но Полина была настолько занята рисованием, что даже не обернулась ко мне. Она осторожно водила кистью по бумаге, зажав от усердия во рту кончик маленького язычка.
– Понятно… – ответил я. И замер, не зная, что еще предпринять.
– Если хочешь, ты можешь приходить – смотреть, как мы занимаемся, – предложила художница.
Я радостно закивал: это было как раз то, на что я рассчитывал.
С этого дня я уже с утра дежурил возле забора – поджидал девочку с ранцем, а потом спешил за ней, на занятия по рисованию. Мне нравилось в моей первой жене буквально все. Но особенно ее покорность. «Можно я провожу тебя до дома?» «Да», – тихонько. «Я тебя поцелую… в щеку?» «Да», – едва слышно. «Давай я приду к тебе в гости». «Хорошо». Отвечала она, едва шевеля губками – что мне тоже очень и очень нравилось. Сам я в то время любил орать и командовать. Так что мы друг другу идеально подходили. Вскоре я стал повседневным гостем у девочки Полины. Тем более, провожатый ей требовался – путь до дома ей предстоял неблизкий – через лес.
– Ты куда опять идешь? – удивленно вопрошал мой дачный приятель Леха, на время он меня потерял.
– К Полине, – гордо отвечал я. – К своей жене.
Однажды он напросился пойти вместе со мной. И хотя сильно сомневался в наличии у меня жены, в первый же день убедился, что все именно так, как я и рассказываю. Полина сидела на лавочке возле дома, я подсел, по-взрослому обнял ее рукой за плечо и поцеловал в щеку. Она лишь робко улыбнулась в ответ.
– Видал? – спросил я Леху.
– Ага, – ответил он – не без зависти, как мне показалось.
Во дворе у Полины жил черный ворон с подрезанными крыльями. Обычно птица сидела на цепочке. Но иногда Полинина мама отпускала ее прогуляться. И тогда ворон с важным видом прогуливался всюду и бывал довольно агрессивен. Однажды я ему чем-то не понравился, и он погнался за мной, громко щелкая клювом. С тех пор я ворона невзлюбил. Обычно он был молчалив, но иногда на него находило разговорчивое настроение, и тогда он начинал громко кричать: «Здр-р-равствуйте! Здр-р-р-авствуйте! Кар-р-рлуша хор-р-роший!».
Дом у моей жены был трехэтажный. Все ее пожилые родственники к моменту нашего знакомства успели отойти в мир иной, оставив кучу никому не нужных вещей. Среди них было множество дешевых украшений, шляпок, пожелтевших фотографий и старинных книг. Умерший дедушка Полины собирал книжки-миньоны. Читать их было очень неудобно, из-за крошечного шрифта, а коллекционировать, должно быть, – напротив, удобно. Мне запомнилась одна – «Лесков, Медведь» – на обложке изображен был бурый мишка. Книжка легко умещалась в детской ладошке.
– Хочешь, бери себе, – предложила Полина. – Мне она не нужна.
И я, конечно, взял такой ценный подарок. И долгое время таскал его, как талисман. Пока он не затерялся где-то на даче.
Вообще, глядя на все эти вещи, заполнявшие старый дом Полины, как реликвии в европейских «лавках древностей» (есть такой уникальный бизнес у англо-саксов), я впервые подумал о том, что ничего не надо собирать и копить. Потому что потом этот ненужный хлам (а как только уходит хозяин вещей, они таковыми и становится) будет никому не нужен. Вещи без хозяина быстро теряют первоначальную ценность, тускнеют, и на глазах делаются прошлым.
Для шестилетнего мальчика я вообще слишком много думал. По-моему, это вредно. Потому что отняло у меня огромную часть беззаботного детства. Но тут уж ничего не поделаешь. Если родился с нейронами, которые слишком быстро бегают по нервным окончаниям, так и будешь с ними мучиться всю жизнь…
Так прошло лето. Наступила осень. А с ней и первая школьная пора. И совсем другие впечатления и влюбленности занимали меня. Следующим летом я почти не вспоминал свою подругу. Тем более что художница, как выяснилось, умерла за это время. И некому было преподавать уроки живописи девочке с голубыми глазами. И все же – я набрался смелости, и отправился к Полине.
Как оказалось, у нее совсем ничего не изменилось. Тот же ворон на цепочке в саду. Та же романтически настроенная мамаша с длинным мундштуком. И Полина, немного повзрослевшая за год, но все такая же прекрасная. Теперь она училась играть на фортепиано – учительница приходила к ней музицировать прямо домой. Я воспринимал эти два часа как вырванные из жизни. Если с рисованием я еще мог смириться – мне нравилось, как на бумаге проступают силуэты чашки, цветка в вазе и фруктов, то наигрывание однообразных гамм представлялось мне настоящей мукой. Все то время, пока она овладевала азами фортепиано, я сидел во дворе и дразнил ворона. Кидал в него маленькими камушками, а он налетал на меня с возмущенным граем.
– Как прошел год? – поинтересовалась Полинина мама.
– Очень хорошо, – ответил я.
– Сколько троек в четверти?
– Немного.
Похоже, ее совсем не интересовало количество моих троек в четверти, потому что она отвернулась к старому зеркалу и стала красить губы. Через час за ней заехал очередной усатый кавалер. На сей раз местный милиционер. И повез ее на сороковом москвиче в местный же ресторан.
Пока ее не было, мы с Полиной поцеловались немного, потом забрались наверх, на третий этаж, в ее комнату, и стали болтать обо всем на свете. Я заметил, что за год она стала намного разговорчивее. К тому же, теперь ее интересовали разные «любовные делишки», как она их называла, и мне это очень не понравилось. Она даже завела себе дневник, куда записывала данные обо всех кавалерах. И я там тоже был. Пришлось отвечать ей на дурацкие вопросы, чтобы она могла заполнить какую-то девчачью анкету.
Я появлялся у девочки с синими глазами еще множество раз – но все реже и реже. Куда веселее мне было проводить время с Лехой и другими дачными приятелями.
В последний раз я увидел ее, когда мне уже было лет тринадцать-четырнадцать. Мы с Лехой внезапно решили сходить и посмотреть, как поживает Полина. И пошли.
У Полины на даче гремела музыка (ее мама была явно в отъезде) и гуляла очень пьяная компания из ребят постарше. Наверное, даже студенты. А один длинный (я заметил, что у него уже заметны черные усы) постоянно обнимал ее за плечо и лез целоваться. Она отталкивала его и говорила: «Уйди!» Но так жеманно, что было понятно – ей совсем не противно.
– Это кто такие? – спросил «студент» про нас.
– Это Степа и Алексей, – представила нас Полина, – мои друзья с детства, живут здесь рядом.
– Ну что, муфлоны корявые, в бубен захотели?! – вдруг надвинулся на нас усатый.
Мы в ответ угрюмо промолчали. В бубен не хотелось.
А он вдруг расхохотался.
– Да это же шутка такая, пацаны, заходите, у нас вина полно, – сгреб нас в охапку и потащил на дачу… Они пили какое-то плодово-ягодное пойло, от которого меня чуть не стошнило, как только я его попробовал.
– А где ворон? – успел я спросить Полину, пока ее снова не вовлекли в водоворот танцев и разговоров ни о чем.
– Карлуша умер, – ответила Полина, – давно уже.
– Жалко, – сказал я.
Мы еще немного посидели, а потом я толкнул Леху.
– Давай двигать.
Вся компания была явно старше нас, и мы чувствовали себя неуютно. Впрочем, девчонкам – Полине и ее подругам – явно все было по душе. Когда мы уже подходили к воротам, она догнала нас.
– Степ, ну ты заходи, – сказала она. – Сегодня просто, видишь, подружки приехали. И ребята из города.
– Ладно, – ответил я. – Зайду как-нибудь.
Но так и не зашел. Я понял, что моя детская влюбленность в девочку с голубыми глазами развеялась навсегда, и уже никогда не вернется.
* * *Времени не существует, когда блуждаешь по памяти. Вот я – маленький мальчик, сидящий на скамейке, подпер кулачком щеку, и размышляю о том, что мир несправедлив. Ведь у Кольки Сапрыкина есть велосипед. А у меня даже самоката нет. Потому что у родителей вечно нет денег. И в то же самое время я сижу на уроке географии, и оттачиваю остроумие, потешаясь над Ромой Ивановым. Он не знает ничего. То есть совсем ничего. Он туп, как животное. Не может даже показать Америку на карте. Учительница меня обожает, часто говорит: «Учитесь, как надо шутить, у Степы. Надо острить, друзья мои. А не ослить, как некоторые из вас». Вот я паркую первую машину возле торгового павильона, чтобы похвастаться перед товарищем, что купил себе не какую-нибудь колымагу, а настоящую BMW. Вот я сижу в Центральном парке на Манхэттене, и прикидываю, что делать – ведь у меня нет ни денег, ни грин-карты – а в Россию мне путь заказан. И вот я же с бультерьером Ларсом иду в настоящем по спальному району, где когда-то жил.
У Ларса – удивительный характер. Он гораздо круче меня. Он стойко переносит тяготы и лишения собачьей жизни. Никогда не попросит еды, пока я сам не решу, что пора насыпать корм. Никогда не будет скулить, даже если ему очень надо на улицу – встанет у двери, и будет стоять, склонив морду. И никогда не предаст хозяина. Более преданную собаку сложно представить… Чужих Ларс не жалует. Относится к ним настороженно. Если приходят гости, старается лечь между ними и мной – оберегает хозяина от возможного нападения. Агрессию никогда не проявляет, поскольку обладает устойчивой психикой, но всегда настороже – его невозможно застать врасплох…
Мы перешли дорогу и идем к кинотеатру. Здесь во времена моего детства проходили дискотеки. Банду Рыжего танцы не интересовали. Но на дискотеки они приходили всегда. Любимое место для жестоких развлечений и расправ. Здесь они регулярно кого-то били. А через некоторое время, обнаглев от безнаказанности – и резали. На них боялись донести. Потому что они жестоко мстили всякому, кто готов был им противостоять. Одной смелости порой недостаточно – должно быть достаточно глупости, чтобы пойти против бандитов – потому что, взрослея, они все больше превращались в абсолютных отморозков. При этом, хоть и пили, и курили, но весьма активно занимались спортом. Во дворе возле школы стояли брусья и турник. Все видели, как Рыжий подтягивается не меньше двадцати раз. И делает снова и снова подъем переворот, демонстрируя, что силы у него хватает. Чужих на спортивные снаряды они не пускали. Делали исключение для пары-тройки ребят, которых знали с детства. Да еще для «старшаков». Так звали двух приблатненных мужиков, тусующихся с пацанами. Пацаны к ним тянулись – а те рассказывали байки из своей жизни, исполненные воровской романтики и блатного фольклора…
– Ой, – вскрикивает бабка. – Что ж ты такую страшную собаку завел?!
Я привык к такой реакции. Ларс даже носом не ведет в сторону бабки. Мы идем дальше.
– Я передачу по телевизору видела, – кричит она вслед, обращаясь не к нам, а к другим случайным прохожих, – всех таких собак надо усыпить…
У Ларса хватает ума и благородства не обращать внимания на лающих людей и животных. Сам он никогда не брешет. Так и не научился. Да ему и ни к чему.
* * *Некоторые стереотипы в сознании человек изживает. Другие остаются с ним на всю жизнь. Помню, как в средней группе детского сада я гордился, что родился в советской стране. И с ужасом думал: что было бы, если бы я появился на свет где-нибудь в Америке? Такой кошмар и представить было невозможно. Страшнее всего было фантазировать, что я родился негром, и меня угнетают проклятые капиталисты.
Мишку Харина, хулигана из хулиганов, я как-то спросил:
– А что, Мишка, ты рад, что ты негром не родился?
Он счел это очень обидным. И, склонив голову, изо всех сил боднул меня в живот…
Вечером я решил пожаловаться маме.
– Мама, – сказал я, – меня Мишка Харин толкнул.
– А ты что сделал? – спросила мама. Она не была сторонницей непротивления злу насилием. И считала, что надо давать сдачи во всех случаях.
– А я упал, – ответил я печально.
Маму мой ответ почему-то очень насмешил.
– В следующий раз, – сказала она, – толкни и ты его. И посильнее. Ты упал. А он пусть улетит.
Я так и поступил. С тех пор стычки с Мишкой Хариным происходили постоянно. Он был ребенок-ураган. Сейчас таким ставят диагноз «гиперактивность» и накачивают успокоительным. Раньше с детьми так не поступали. Считалось, что гиперактивность – свойство характера. В принципе, они были правы. Отдельным взрослым гражданам (в том числе, и тем, кто находится в публичном пространстве) седативные препараты совсем не помешали бы. Но их никто почему-то не назначает…
Детям внушали не только гордость за родную страну, но и многие истины, долженствующие определить их поведение в советском социуме. Пропаганда начиналась в детском саду. Воспитатель задавал детям стандартный набор вопросов, и они должны были отвечать.
– Кто знает, – спрашивала Марь Иванна, – почему советский флаг красного цвета?
Ответ на этот вопрос я знал, меня просветила прабабушка, в славном прошлом – революционерка с маузером (я видел фото), и потянул руку.
– Так, Степа…
Я встал, и, задыхаясь от волнения, выпалил:
– Потому что красного цвета кровь рабочих и крестьян!
Марь Иванна была искренне удивлена, но и горда одновременно.
– Молодец, Степа, абсолютно правильно, – сказала она…
В другой раз Марь Иванна напротив – отругала меня. Причем, очень несправедливо. Пренебрежение к хлебу считалось чем-то вроде тяжкого преступления против нравственности – наследие голодного времени. Один из моих согруппников, Дима, оказался настоящей «белогвардейской сволочью». Во всяком случае, именно так я его и назвал. Он не только бросил хлеб на пол, но и оклеветал меня.
– Это Степка хлеб бросил, – сказал он без зазрения совести, – я видел.
– Ах, ты, белогвардейская сволочь! – вскричал я, возмущенный до глубины души, и кинулся на подлого врага с кулаками…
Марь Иванна мой порыв не оценила, схватила меня за ухо и отвела в угол. Там я стоял полчаса, глотая слезы – это было первое несправедливое наказание в моей жизни. И отличный жизненный урок. Лжецу за его поступок ничего не было. Меня же, пытавшегося восстановить истину, воспитательница и слушать не хотела. Я осознал, что, хотя врать нехорошо, подлый человек может уйти от ответственности. А значит, если надеяться не на кого, справедливость могу восстановить только я.
На прогулке я так удачно подставил подлому Диме подножку, что он упал – и расквасил нос. Зареванный, Дима побежал жаловаться воспитательнице. А я – следом за ним. Обогнал его, и первым закричал: «Марь Иванна, я нечаянно, он сам на меня наткнулся».
– Будьте осторожнее, – сказала Марь Иванна. И Дима, мгновенно прекратив рыдать, выпучил на нее пуговицы хитрых глазок. Затем перевел пораженный взгляд на меня. Сам он привык врать и изворачиваться. Но никак не ожидал такого коварства от других…
В меня настолько вколотили почтение к хлебу, что я по сию пору не могу выбросить оставшиеся от батона куски. Они тщательно режутся и сушатся. Поэтому у меня дома всегда полно соленых сухариков… Помню, я испытал настоящий шок, когда внезапно обнаружил во дворике возле дома полбуханки черного. Ее кто-то бросил птицам. Этот «враг народа» вскоре появился. Он был приличного вида, в очках, с портфелем в руке.
– Ты чего, мальчик? – спросил он меня. – Пусть птички поедят.
Я к тому времени отнял хлеб у пернатых и стоял, не зная, что предпринять.
– Это вы… – выдавил я. – Вы им дали?
– Я, – сказал очкарик, пожал плечами. – А что?
– Люди проливали пот, – сказал я, – работали сутками, чтобы собрать пшеницу. Умирали на полях. А вы… – Я осекся, потому что испугался. А вдруг этот «враг народа», для которого труд тысяч советских людей ничего не значит, захочет меня убить – потому что я знаю, что он сделал?
Осознав опасность своего положения, я прижал к себе хлеб и стремглав кинулся прочь. Погони не последовало.
Исклеванные птицами полбуханки я принес домой и положил на кухонный стол.
– Это что такое? – спросила вечером мама, когда пришла с работы.
Я рассказал ей о встрече с «врагом народа».
– Ну, понятно, – мама сунула хлеб мне в руки: – Пойди, и отнеси к помойке. Пусть птицы съедят. А потом придешь – и помоешь стол.
Как громом пораженный, я побрел к помойке. В моей картине мира опять зияла трещина. Но уже формировалась новая картина, в которой хлеб все еще был на почетном месте. И в то же время – по отношению к хлебу людей оценивать было нельзя… Потому что есть и живет с нами бок о бок сытая с детства сволочь, которая никогда на полях не пахала, всегда ела и пила в три горла, и понятия не имеет, каким потом и кровью достается крестьянину хлеб… И это тоже люди, а не «враги народа»…




