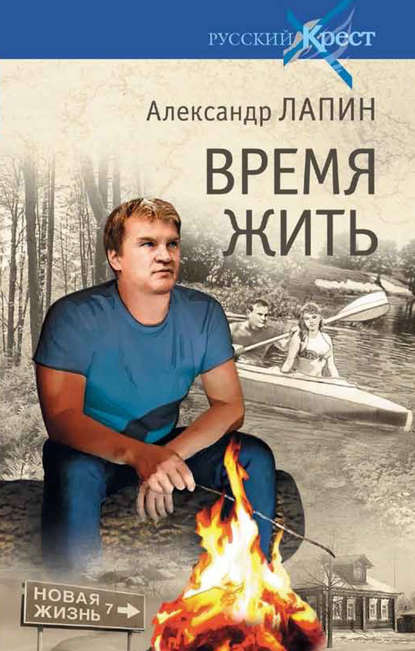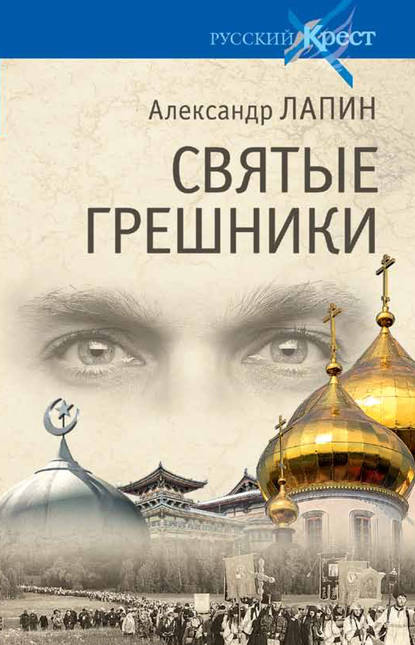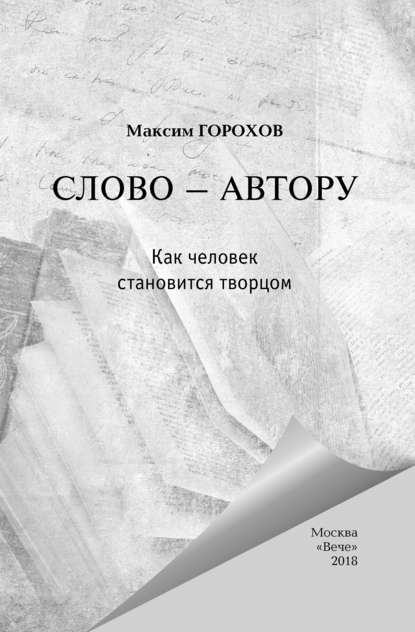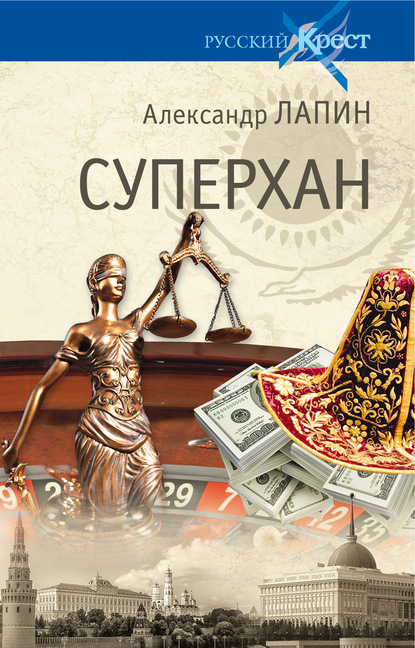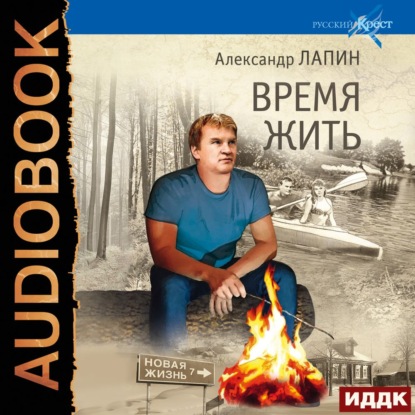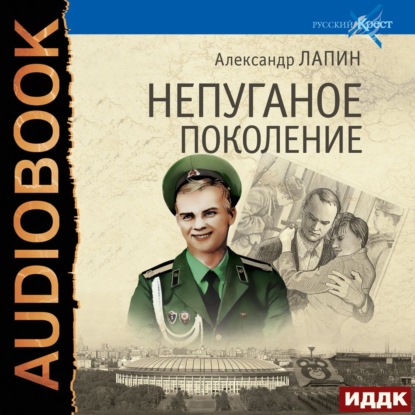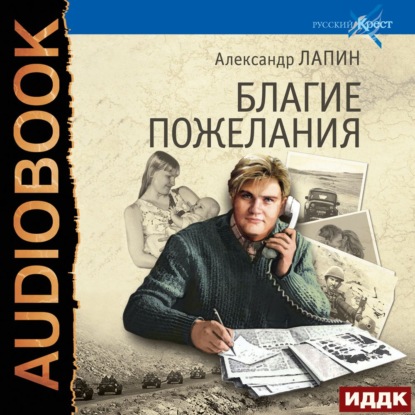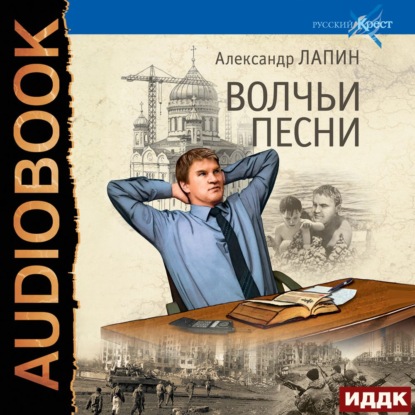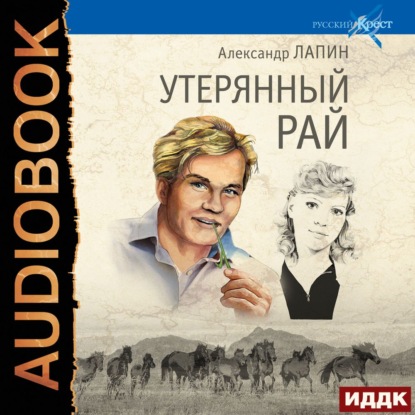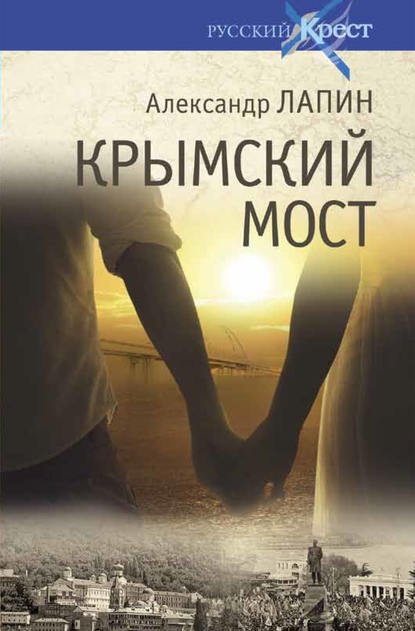
Полная версия
Крымский мост
Больной дедушка Петр оказался не слишком дисциплинированным пациентом. И частенько за нарушение режима попадал в изолятор, а если сказать еще проще – карцер. Что там случилось – никто толком не знает. Но во время одной из таких отсидок нашли его с проломленной головой.
Другие сидельцы уверяли, что они тут ни при чем, а он поскользнулся и «сам упал, ударился головой об унитаз».
Дело это раздувать не стали. Списали на несчастный случай.
Тем более что бабушка после этого случая пошла в гору по карьерной лестнице. И ей такой муж уж совсем был ни к чему.
Благополучно избежав развода, который в советское время никак не приветствовался, она в статусе вдовы героя войны заняла пост второго секретаря Ленинградского городского комитета КПСС. Отвечала за идеологию в городе.
Уже с момента своей работы в комсомоле она стала «номенклатурой». То есть вошла в правящий класс Страны Советов.
Большинство наших бывших советских людей до сих пор даже не представляют себе, как и кем управлялся СССР.
Если их спросить, так, накоротке, то они скажут, что Союз управлялся Коммунистической партией или добавят: Советами. Но этим самым назовут только надстройку той управляющей силы, которая существовала в стране.
А на самом деле страной правила новая элита. Новый класс, который получил древнее, но одновременно новое имя – номенклатура.
Термин этот вышел на поверхность из глубины веков. Судя по всему, произошел от латинского слова nomen – имя. Номенклатура – это список имен. (Во время праздников и торжеств в Древнем Риме распорядитель, громко провозглашавший имена входящих на прием гостей, назывался номенклатором.)
В Союзе номенклатура – это список должностей, назначение на которые утверждалось вышестоящими органами.
Олег Павлович Мировой как раз и был отпрыском этого правящего класса.
Номенклатурная бабушка не слишком любила сына, зато была от внука без ума. И Олег, родившийся в рубашке, а если по-западному – с серебряной ложкой во рту, пользовался всеми радостями беззаботной и сытой юности.
Еще маленьким ребенком он частенько бывал в Смольном. Белокурый малыш смело шагал по длинным, чистым, словно вылизанным, паркетным коридорам, устланным бордовыми дорожками. Разглядывал стандартные черные таблички на белых дверях. Забегал в приемную, где сидела секретарь секретаря горкома партии.
И никто не смел остановить хорошенького мальчугана, когда он открывал дверь и забегал в кабинет к бабушке.
Бабушка, конечно, притворно сердилась. Но сидевший у нее на приеме посетитель торопливо собирал свои бумаги. И вылетал прочь.
Отец в это время успешно служил. То на Дальнем Востоке, то на Кавказе. Поэтому, чтобы «не таскать ребенка по гарнизонам», Олега оставляли в Петербурге. С отцом и матерью он виделся летом. И на каникулах.
Эти дни навсегда остались в памяти Олега как самые лучшие. Конечно, он бывал в специальных лагерях для детей номенклатуры. Бывал и в «Орленке», и в «Артеке». Но все-таки больше ему нравилось «на свободе».
Мать его была родом со Ставрополья. Такая казачка из станицы, к которой прикипел сердцем петербургский интеллигент. И поэтому иногда Олега отпускали на побывку к материнской родне.
Станица называлась Аполлоновской. И она входила в целую казачью страну, раскинувшуюся на юге России.
Олег особенно запомнил свой первый приезд туда.
Рано утром они с матерью вышли из самолета в аэропорту Минеральных Вод. Солнце только-только алым краешком высунулось из-за темной гряды Кавказского хребта. И Олег увидел прямо на горизонте в ясном небе «висящие» горы.
В аэропорту их встретил на стареньком «запорожце» дядя Иван. Маленького роста, чернявый, бородатый казачок. С легкой полуулыбкой на губах. По дороге он озвучивал Олегу названия остающихся по сторонам станиц. Странно звучали для его ленинградского уха старинные слова: Нагутская, Солдатская, Марьинская, Прохладная, Аполлоновская.
А дядька объяснял, откуда это:
– Цари строили линиями. Одну станицу за другой.
Олег не удержался. Спросил:
– А почему так?
– Ну, просто туда дальше, ближе к горам, живут другие народы. Чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, балкарцы. От их набегов и строили такие станицы. Закрепляли Россию на этой земле. Россия, она ведь расширялась толчками. Сначала было Московское княжество, а потом пошли. На Сибирь. На юг. В Крым. А кто шел? Мы, казаки!
И Олег услышал в дядькиных словах гордость за своих предков и за себя.
Сам Олег гордости не чувствовал. Он не местный, а ленинградский. И только тоненькая ниточка родства связывает его с этими людьми.
Станица тоже удивила его. Он привык к тому, что российские деревеньки сплошь и рядом представляют собой невнятное скопление домов и домишек, жмущихся к главной улице или проходящей через них дороге.
Аполлоновская же его поразила с первых минут знакомства. Сверху, с холма, сразу было видно, что построена она по строгому плану. Улицы ровными рядами тянулись по степи одна за другою. И не имели обычных названий. Назывались просто линиями: первая линия, вторая, третья…
Дома, выстроенные в ряды, были обращены друг к другу. Ограждены заборишками, воротами. За заборами – цветочные клумбы.
Перед домами, прямо на улице высажены плодовые деревья. Алыча, абрикосы, сливы, яблони.
Олегу, привыкшему к тому, что фрукты-ягоды надо покупать, это было очень удивительно…
Удивительны были и дни, которые он провел в станице. Дни, полные жизни и свободы.
Здесь можно было спать на улице. Есть немытые фрукты и ягоды с грядки или с дерева. Ходить вместе со станичными чумазыми ребятишками на речку. Ловить руками карасей в водяных зарослях.
Жили родственники очень бедно. Изба саманная, беленная снаружи, приземистая. Дядька Иван уже много лет подряд строил рядом дом. Но стройка двигалась туго. Колхоз денег не платил. Рассчитывался «палочками». Иногда зерном…
Жили в основном с огорода. Он весь был засажен клубникой. И когда наступал сезон, все семейство, как муравьи, работало на этой плантации.
Казаки жили бедно, но дружно. И работали так же.
Так как в это время лошадей у народа давно уже не было, а необходимость в домашнем тягле оставалась, то все обзавелись мотоциклами. В каждом дворе – бедном или богатом – обязательно был мотоцикл с коляской или некое самодвижущееся средство, собранное из различных деталей.
У дядьки Ваньки тоже был симбиоз мотоцикла и телеги. Это трехколесное чудо ребятишки называли про себя «моторыльня».
Вот на этой самой моторыльне они ездили за сеном. Они – это двое дядькиных сыновей. Серьезный такой, насупленный старший, настоящий мужичок Колька. И младший – черный, сопливый и от этого гундосящий Ленька.
Была еще Верка – крепкая, ядреная девка, круглолицая, с каменными юными грудями.
Дядька косил. Ребята собирали высушенное сено. Потом грузили в кузов повозки. И катили обратно.
Однажды они так увлеклись, что нагрузили целую копну.
Эту поездку Олег Мировой запомнил на всю жизнь. Потому что никогда еще не было ему так жутко и весело, как в тот раз.
Дядька Иван посадил их наверх. Сам сел за руль. Они катили по проселочной дороге домой.
Копну душистого сена мотало на дороге из стороны в сторону. Ребятишки вцепились в траву руками, ногами. И с высоты «гнезда» наблюдали за окружающей жизнью.
Кончилось это тем, чем и должно было. На каком-то повороте, когда дорога уже начала спускаться в лог, к станице, копна сена поползла в сторону. Они дружно слетели прямо на дорогу и кубарем покатились, вывалявшись в мельчайшей дорожной пыли.
Упали, но не разбились, не ушиблись. Потому что маленькие, легкие. Сорванцы.
Сено подобрали, скинули обратно в кузов. Но остаток пути прошли пешком, оживленно обсуждая происшествие.
В общем, о Кавказе остались у него самые яркие воспоминания. Там он чувствовал себя свободным. Там остались друзья-приятели. Там осталась двоюродная сестра, которую он подростком тискал за «каменные», упругие груди…
Ну а дальше была жизнь по распорядку, по линейке, которая была уготована ему судьбой и любящей бабушкой.
* * *После школы долго решали: куда? Было несколько вузов, где дети номенклатурных родителей могли не смешиваться с толпой обычных студентов, а оставаться в том же самом кругу. Среди своих. Это в первую очередь были МГИМО, МГУ.
Получив там высшее образование, можно было перейти в ряд закрытых учебных заведений. Типа Высшей партийной школы при ЦК КПСС или Дипломатической академии, Академии внешней торговли, Высшей школы КГБ.
В общем, для номенклатурных детей любая дорога плавно вела к занятию номенклатурных должностей.
Но тут нашла коса на камень. Отец – уже генерал – хотел, чтобы сын занял достойное место в военной элите. Прочил ему такую карьеру.
Бабушка же хотела, чтобы он делал партийную. Потому что «партия – наш рулевой». И она могла обеспечить внуку блестящую судьбу сначала – в комсомоле, а потом – в партийных номенклатурных организациях.
В общем, схлестнулись.
Но тут подал голос и сам Олег. Парень неглупый, он очень хотел стать журналистом.
В конце концов нашелся вариант, который удовлетворил всех.
На семейном совете решили. Будет он учиться в ЛВВПУ. А расшифровывалась эта сложная аббревиатура просто. Он будет учиться в городе Львове в Высшем военно-политическом училище Советской армии. На отделении военной журналистики.
Кстати говоря, это отделение пользовалось чрезвычайной популярностью у детей высокопоставленных военных – генералов, адмиралов, маршалов. Работа не пыльная, интеллигентная. А выслуга лет, оклады, довольствие, надбавки, квартиры, форма, льготы и привилегии – военные. Опять же части наши и в Чехословакии, и в Венгрии, и в Германии. Еще много где стоят. Вплоть до Кубы.
Можно мир посмотреть за казенные деньги.
А так как училище политическое, то в любое время можно с таким образованием перевестись и в высшие школы при ЦК КПСС.
Да мало ли куда можно устроиться и сделать карьеру при таких родственниках!
Ну, опять же, ребенок чувствует призвание к журналистике. Пусть будет и ему приятно.
Так оказался он на Западной Украине, в славном городе Львове. Тут, почти как в другом мире, жили так называемые «западенцы».
Учиться ему понравилось. Тем более что преподаватели понимали, с каким контингентом имеют дело. И особо не давили на привилегированных курсантов.
Случались и «самоходы», и разные смешные эпизоды.
Нельзя сказать, что он был постоянным кавалером. И строил «серьезные отношения». Как баловень судьбы, он и по женской части, что называется, был «ходок». Разведенные дамы под сорок, девушки-нимфетки, невесты на выданье, вечные невесты – куда еще идти солдату, то бишь курсанту, куда нести печаль свою?
Как и многие курсанты, он к четвертому курсу, так сказать, «забурел». Завел себе «гражданку», то есть гражданскую одежду. И тайком уходил вечером из казармы.
Выбравшись за забор, он прямиком направлялся к знакомым. Там переодевался. И бежал на свидание. К очередной девушке.
В тот раз банкет длился долго. Он подзадержался. И выпил немало. Да так немало, что забыл о том, что надо пойти переодеться.
И отправился прямиком в часть.
То бишь в джинсах, кроссовках и рубашке в цветочек с большим воротником.
Пробравшись в казарму, он аккуратно разделся. Аккуратно, по уставу сложил на стуле перед кроватью свои штаны и рубашку. Выровнял строго носки кроссовок. И завалился спать.
Прервал его безмятежный утренний сон вопль дежурного по части майора Петухова.
Открыв и протерев глаза, он увидел стоявшего напротив его кровати и подпрыгивающего от злости красного, как повязка на рукаве, и орущего благим матом майора:
– Что это?! Что это?! Что это?! – так, словно его переклинило, вопил майор, указывая на его кроссовки, торчащие белыми носами в длинном ряду черных, начищенных, яловых курсантских сапог.
Рядом с майором стоял смущенный дежурный по роте, его закадычный дружок Эдик Доля. И, виновато хлопая глазами, пожимал плечами, словно не понимая, как могло случиться такое – курсантские сапоги мистическим образом превратились в белые кроссовки…
Отсидев три дня на гауптвахте, Олег пришел к простому практическому выводу: если уж принял на грудь, то лучше из самохода не возвращаться, пока не протрезвеешь.
Можно будет потом что-нибудь придумать. А то и гражданки лишишься. И на губу залетишь…
На следующий год их уже распределяли по специализации. И он захотел пойти во флот.
С третьего курса их группу переодели в форменные черные бушлаты. Выдали тельняшки и черные брюки, к которым Олег долго не мог привыкнуть. Потому что у морских брюк не было ширинки. И застегивались они крючками сбоку.
Но это неудобство со временем он преодолел. Привык. А в остальном все было прекрасно.
Выпустился он не то чтобы удачно, а просто супер. На Черноморский флот.
* * *В то время Краснознаменный Черноморский флот, базировавшийся в Севастополе, насчитывал сто тысяч человек личного состава. И восемьсот кораблей. Это была могучая армада, полностью господствовавшая на Черном и Средиземном морях.
Молодой красивый лейтенант приступил к работе в многотиражной газете на флагмане Черноморского флота. А уже через год его талант был замечен. И он был переведен в штаб. В главную флотскую газету.
Жизнь улыбалась ему во все тридцать два зуба. Но тут началась перестройка, которая в тысяча девятьсот девяносто первом закончилась катастрофой. Последовали известные события. И в конечном итоге старший лейтенант Мировой оказался на Северном флоте. А затем вернулся в славный город Петербург. Теперь уже Петербург. К любимой бабушке.
Служить на Балтийском флоте.
Балтийский флот тогда представлял собой жалкое зрелище. Конечно, он не был самым главным и могучим и в советское время. Но он был старейшим. Имел традиции, восходящие к Петру. Имел свою базу в Кронштадте.
Однако общий упадок в стране особенно негативно отразился на нем. Моряки месяцами не получали жалованье. Дисциплина упала ниже плинтуса. Специалисты увольнялись тысячами.
Но Мировому, как ни странно, нравилось служить. Нравилась морская форма. Нравилась работа. И он, в отличие от многих, не терял бодрости духа. Утешал себя тем, что все это временно.
* * *Другое дело – бабушка. Понимая, что Советский Союз доживает последние дни, она не растерялась, не стала ныть и плакаться в жилетку, как многие тысячи бывших руководителей. Бабушка с головой «окунулась в рынок». Имея аппаратный вес – как-никак секретарь горкома партии – и огромные связи, она уже в ранний период создала несколько кооперативов, на которые поставила верных людей.
Через эти структуры пожилая леди, понимая, куда дует ветер, накупила ваучеров.
И не прогадала. Ее «золото партии» не растворилось незнамо где.
Она умело использовала все возможности. Даже Олег поспособствовал ее многотрудному делу. Как? Познакомил бабушку с несколькими старшими офицерами с Кронштадтской базы. И… Екатерина Алексеевна учредила вместе с ними так называемый Моряцкий банк.
Она и здесь правильно рассчитала. Во-первых, через этот банк пошло денежное довольствие флотских экипажей. Во-вторых, в том зыбком, туманном экономическом климате, который господствовал в России, люди искали надежности, стабильности и порядочности.
А так как среди учредителей банка были морские офицеры, то вкладчики валили валом.
Кроме того, Екатерина Алексеевна постаралась, чтобы платежи многих учреждений жилищно-коммунального хозяйства, а также еще работавших предприятий города шли через счета Моряцкого банка.
Так что пока завлабы, юристы и прочие разные примкнувшие к ним гэбисты и демократы охмуряли народ и делили власть политическую, практичная бабушка со своими верными соратниками закладывала основы своего экономического процветания.
Получилось все очень удачно. Банковские филиалы появлялись по всей стране, как грибы после дождя. На ваучеры, скупленные за гроши у обнищавшего населения, приобретались на аукционах крупные фабрики и небольшие заводики.
К концу своего правления Екатерина Алексеевна уже была владелицей контрольного пакета нескольких вполне приличных предприятий.
Но, как говорится, человек предполагает, а Господь Бог располагает. И Олегу, который уже дослужился до звания капитана третьего ранга, тоже пришлось запрягаться в это миллионное дело, которое бабушка Екатерина делала с молодым не по годам азартом.
Время было тяжелое, смутное. Петербург, который всегда был культурной столицей СССР, стал бандитским гнездом.
Случилось то, что тогда случалось сплошь и рядом. Рейдеры-конкуренты попытались захватить бабушкину швейную фабрику, на которой было поставлено новое оборудование.
Во время захвата вспыхнул пожар. Фабрика сгорела. Погибли люди.
А бабушку сразил тяжелейший обширный инфаркт.
Шестого ноября тысяча девятьсот девяносто шестого года, аккурат перед праздником революции, в темную петербургскую ночь, она скончалась.
* * *Отец Олега Мирового – генерал-майор – ушел в отставку и принял дела управления бизнес-империей на себя. Не осознавая, что он находится в новой реальности, принялся насаждать армейские порядки в структурированном к тому времени как холдинг бизнесе. Человек тяжелый и вспыльчивый, Павел Петрович начал свою деятельность с мелочных придирок. Без конца менял помощников, секретарей, начальников отделов. По любому, самому ничтожному поводу устраивал разносы директорам и даже членам совета директоров холдинга.
Привыкнув в своей дивизии к единой и безраздельной власти, он так же пытался управлять и холдингом. Результаты не замедлили сказаться. Постоянная кадровая чехарда, непросчитанные решения, «дружеские» кредиты пошатнули финансовое положение акционеров. Начал зреть заговор…
В это время капитан третьего ранга Мировой переживал очередной кризис идентичности. Он никак не мог определить для себя, куда двигаться дальше…
Направление обозначилось, когда один из бабушкиных соратников, член совета директоров, человек уважаемый и известный, встретился с ним в бане. Элитная сауна, в которой голый человек чувствует себя открытым всем ветрам, склоняла к откровенности. Там управленец и высказался по теме:
– Олег! Твой отец зашел слишком далеко! Он никого не хочет слушать. Пользуясь тем, что у него контрольный пакет, пытается всех нагнуть. Тянет нас на дно! Наши интересы не учитываются. Мы через неделю собираем совет директоров. Хотим ему предложить уйти. Если не согласится добровольно – будем настаивать на устранении его через судебные процедуры. Иначе он все развалит. Ты слышал, что он распорядился дать огромный кредит своему дружку-пьянице, который якобы строит ферму? Баранов-мериносов. Какие мериносы у нас тут на северах? А деньги немалые – несколько миллиардов… Я предлагаю тебе возглавить наш холдинг! Согласен?!
Олег ничего не сказал. Против отца, от которого частенько доставалось и ему, он идти не мог. Но и «нет» тоже не сказал.
А дальше произошло вот что. Совет директоров состоялся. Но Павел Петрович заявил, что со своего поста не уйдет. Наорал на собравшихся. Хлопнув дверью, вылетел из кабинета. Напоследок пообещал разобраться с каждым…
Через три дня в его загородный дом залезли грабители. Вроде искали деньги. Подняли отца с постели. Тот пытался сопротивляться. Его забили насмерть…
Олег, узнав об этом, едва не упал в обморок. Теперь он клял себя за то, что не сказал «нет».
К нему на службу приехал заместитель отца вице-адмирал Каплер. Они разговаривали, запершись в кабинете. И там Каплер по-военному четко предложил ему:
– Олег! Хватит сопли жевать! Срочно увольняйся из армии и берись за дело. Завтра внеочередное собрание акционеров. Тебе надо быть. Ты теперь держатель контрольного пакета. Я буду предлагать тебя председателем наблюдательного совета.
Так, двенадцатого марта две тысячи первого года он встал во главе дела.
После избрания Мировой заявил, что все будет хорошо, все будет, как было при бабушке. Он будет советоваться с товарищами. И дело пойдет на лад.
Став главой холдинга, Олег, конечно, не мог сразу разобраться в абсолютно новом для него деле. И ему, естественно, нужен был человек, который бы помогал, объяснял, вводил в курс. И такой человек нашелся. Грубый и хитрый одновременно – Алексей Андреевич Карачеев. Верный, без лести директор крупного предприятия. Еще молодой, да ранний.
Он окружил Олега Мирового такой заботой, что вскоре тому стало не по себе.
Карачеев посадил его в кабинет напротив своего, взял на себя все дела, пытался даже вмешиваться в его личную жизнь.
И в какой-то момент Мировой понял, что попал в ловушку.
А дело было так. Карачеев предложил Мировому, чтобы его сопровождал водитель-охранник:
– Вы, Олег Павлович, большой человек! И теперь вам нельзя ездить одному. Надо, чтобы с вами рядом был телохранитель!
Так рядом с Мировым появился бывший спецназовец Иван Толоков.
Проработали они с год. И вроде бы нашли общий язык.
В один прекрасный день Иван, выезжая со двора, задал вопрос:
– А каким человеком вам представляется Карачеев?
Мировой, несмотря на странность вопроса, ответил:
– Нормальный человек! Простой, отзывчивый, понимающий.
На что Иван сказал, усмехнувшись:
– Это для вас он такой. А на самом деле хитрый, жадный, мстительный…
Этот разговор заставил Мирового крепко задуматься, стать внимательнее и осмотрительнее. И первый вывод, который он сделал, заключался в следующем: «Эти люди принимают мою мягкость, доброту, а самое главное – порядочность и благородство за слабость. И стараются использовать их в своих корыстных целях».
Ирония судьбы заключалась еще и в том, что компаньоны, жаждавшие власти и денег, были еще и трусами. Чем подтверждали эзотерическую истину, что бодливой корове бог рогов не дает.
Мировой посмотрел-посмотрел на окружающих и понял, что его туманным мечтаниям о всеобщем братстве, равенстве и прочих вещах не сбыться никогда. Потому что люди остаются людьми. И ему не надо пытаться переделывать их. Надо продолжать работать с тем материалом, что имеется в наличии.
На этом и остановился.
С тех пор у Мирового не стало любимчиков и постоянных фаворитов. Олег, который раньше отличался открытостью характера и готовностью поделиться с ближними и радостью, и горем, стал скрытен и подозрителен.
Так и не обретя новых друзей в компаньонах, он стал искать их на стороне, среди мистически настроенных знакомых.
Еще в первые годы после возвращения в Петербург он узнал, что город, а точнее, Балтийский флот был колыбелью русского масонства. Отсюда пошли все русские ложи.
Один из тех, с кем он служил в Кронштадте, и свел его с вольными каменщиками.
Они стали для Олега «братьями».
Несколько лет Мировой ходил в учениках. А в прошлом году случилось великое событие, которое он любит вспоминать до сих пор. Он стал мастером.
* * *Когда-то на берегу прозрачной речки, в сосновом лесу находилась элитная туристическая база. Добротный дом и несколько коттеджей. Принадлежала она крупному оборонному предприятию.
Как водится, в девяностые предприятие разорили, а турбазу бросили на произвол судьбы. И она много лет простояла бесхозная. Пока не приехали какие-то серьезные и важные люди. Они осмотрели то, что осталось от этого комплекса, и убыли восвояси.
А летом на турбазу прибыли техника и рабочие. Началось возрождение, но уже не туристического объекта.
На этом месте появилось крупное прямоугольное здание, ориентированное строго на оси восток – запад.
В самом здании выгородили три помещения. Две небольшие комнаты и большой зал, в котором можно удобно разместить хоть сотню человек.
День за днем, месяц за месяцем шли отделочные работы. И вот наступило время, когда снова приехали серьезные важные люди, чтобы принять работу у строителей.
Что же предстало их взору? Храм! Масонский храм!
С тремя колоннами, стоящими посередине зала. Дорической, ионической и коринфской. С голубым потолком, изображающим звездное небо. Со стенами, на которых нарисованы орудия труда вольных каменщиков: молотки, уровни, циркули, угольники. Наконец, с мозаичным полом, состоящим из расположенных в шахматном порядке черно-белых плиток.
В центре этого пола между колоннами стоял алтарь. А по сторонам от него – камни. Слева – грубый, неотесанный. Справа – совершенно гладкий, отполированный.
В восточной части зала, на возвышении в семь ступеней, расположили кресла начальствующих. Эти места были отделены небольшой деревянной балюстрадой с калиткой посередине.
Над этим символическим престолом – лучезарная дельта с всевидящим оком в центре. Справа от нее – изображение солнца, слева – луны.
На престоле у начальствующего лежали папка с патентом на работы, конституция ложи и регламент масонских работ. А на алтаре в форме куба – три священные для каждого масона вещи. Книга Священного закона, циркуль и наугольник. Каждая вещь – символ.