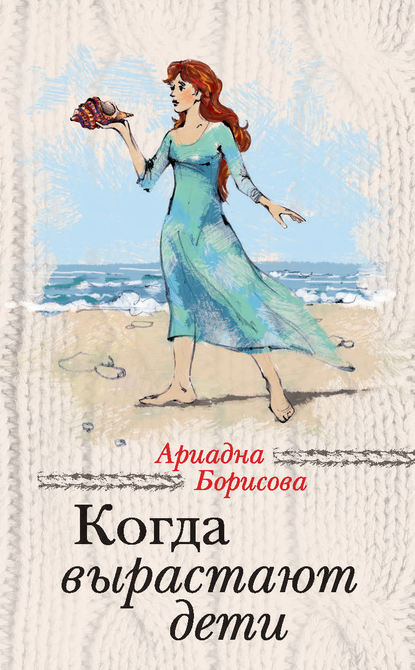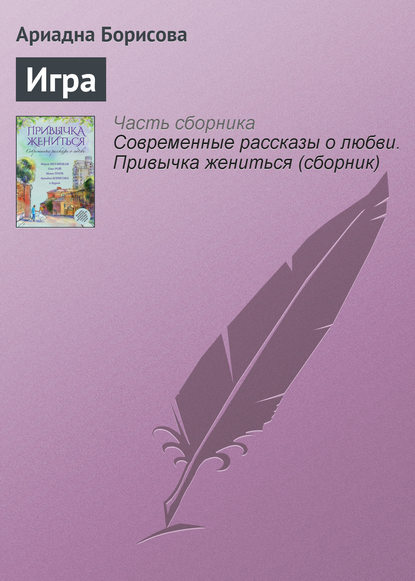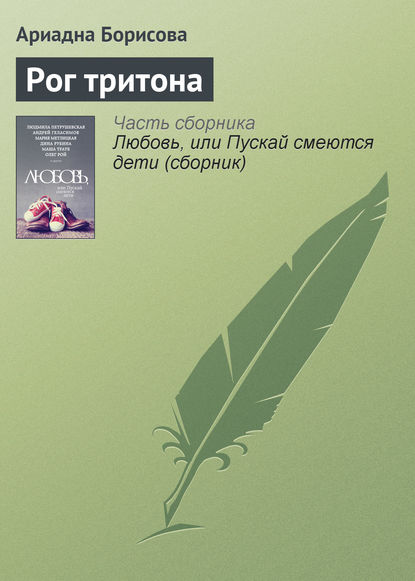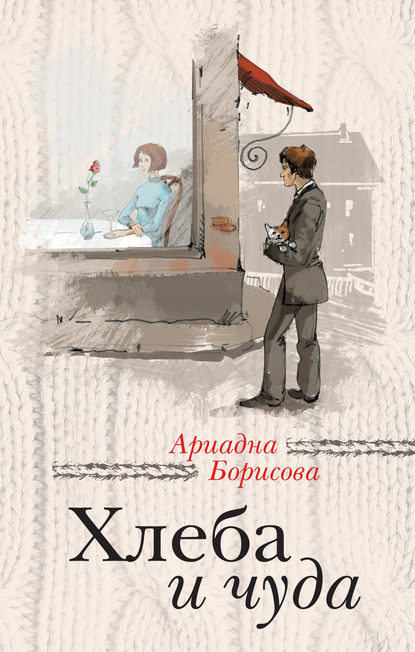Полная версия
Манечка, или Не спешите похудеть (сборник)
– Ох, я имям! Видали, а?! Ездиют, шубу мою не сымают!
Ворчала во время вечерней молитвы, жаловалась Богу. Беспокойно ворочаясь ночью во сне, вскрикивала: «Тимошина шуба-то!» Под утро пискляво пропела: «Шуба баска-ая, с плеча барско-ого…» и стихла.
На следующий день бабка была молчаливее обычного, пока в пух и прах не разругалась с праправнуком. Не поделили территорию возле печного бока, где мальчишка затеял пластмассовую войнушку, а старуха хотела мирно погреть колени, сидя в кресле.
Потом она снова возилась с фланелькой и тазиком, не разрешая мыть в своей комнате, качала маленького и тихо пакостила…
Никто не узнал, появились ли у нее перед смертью вши. Смерть, которой бабка так боялась, нашла ее через три года в доме инвалидов, когда один из разбушевавшихся кретинов вырвался из рук санитаров, заскочил в старушечью палату и разорвал в клочья висящую над тумбочкой иконку Николая Чудотворца.
Правнучка после похорон спала непривычно много и плохо. Просыпаясь среди ночи, плакала, корила себя за то, что подчинилась мужу и не оставила бабку. Зная вину за собой, он молча терпел тревожные, волнистые песни жены, похожие на страстные мольбы. Она доверчиво полагала, что поет негромко и муж под эту колыбельную спит крепче.
Правнучка пела о бабке. Просила о том, чтобы новопреставленная счастливо встретилась со всеми своими мужьями и ушедшими детьми и была бы наконец прощена тем, к кому грешная, пылкая, любящая душа ее стремилась в молитвах обо всей огромной родне, оставшейся на этом свете.
Эффект попутчика
Раз в полгода по непонятным причинам Соня вызывала в памяти детали той памятной ночи и переживала мощный спазм отвращения к своему благополучию, выложенному по жизни гладко пригнанными пазлами. Потом короткое замыкание проходило, оставался лишь смутный дискомфорт от мысли, что даже происходившие тогда в государстве постперестроечные события с их голодным безденежьем не произвели в крови химической реакции такой силы, как единственная случайная житейская встреча. Это она вызывала в Соне рецидивное чувство зависти и непонятно почему – вины.
…Аэропорт гудел и вибрировал, словно гигантский шмель перед полетом. Но никто никуда не летел. На улице за стеклянными стенами, вопреки оптимистичным прогнозам, второй день бесновалась необычная для последней мартовской недели вьюга. Рейсы откладывались один за другим. Соне удалось захватить кресло в зале ожидания, и теперь она старательно избегала взглядом ближний угол, забитый спящими на чемоданах людьми.
На площадке перед коммерческим киоском паслись дети. Предоставленный себе маленький народ облепил витрины, разглядывая новоприбывший сквозь кордоны набор международных сластей. Они были невероятно дорогими, и лишь одна из мам купила дочке толстый шоколадный батончик. Противная девчонка нарочно вышла на середину открытого пятачка и долго возилась с оберткой. До содержимого еще не добралась, а уже вовсю вкушала приторное счастье превосходства. Дети молча созерцали эту демонстрацию и, пока обладательница ела свое сладкое чудо, чего-то ждали. И она ждала. Один карапуз не выдержал, дернул за рукав дремавшую мать и заканючил:
– Ма-ам, купи «Сникелс»…
Родительница открыла глаза, оценила ситуацию. С ненавистью взглянув на испачканную шоколадом лакомку, выместила на сыне:
– Денег нету, отвянь.
Малыш тихо заплакал.
Сластена наконец покончила с батончиком и вместе с другими снова припала к стеклу киоска. «Не наелась», – язвительно подумала Соня и вдруг поняла, что было причиной пристального детского внимания: на полке позади взбитой «химии» продавщицы возвышалась кукла. Не какая-нибудь Барби, недавно вошедшая в моду у российских девочек, с личиком олигофрена и трафаретными признаками пола, а великолепный штучный экземпляр – большая, с полметра, коллекционная модель индианки. Кукла улыбалась пугающе осмысленным лицом, кожа казалась натуральной – в нежных переходах румянца и загара по природной смуглоте. Оторопь брала от мистической иллюзии естественности – настоящая маленькая женщина! В ушках посверкивали круглые латунные серьги, на ручках – браслеты, по краю золотистого сари вился узор ручной вышивки. Впечатление портил только приколотый к наряду грубый ценник. Выведенное фломастером число на нем потрясало обилием олимпийских колец.
Место кукле было в специализированном бутике, она бы и там выделялась. Соня подивилась явлению жар-птицы в занюханном портовом киоске, прикинула: жалованье за месяц и неделю. Сонина получка подтверждала среднюю в стране зарплату по статистическим данным, всегда завышенным на треть. Вряд ли кто-то из изнывающих в ожидании пассажиров, чей помятый вид не отвечал и средней статистике, рискнул бы выбросить на дорогой сувенир предложенную сумму… Тотчас же к киоску подбежала черноглазая девочка лет пяти в красном кашемировом пальтишке. Дети расступились – в руке она держала свернутую пачку денег. Подтянувшись на цыпочках к прилавку, девочка протянула деньги продавщице. Та сняла индианку с полки, отцепила ценник и кинула полный удивления взор на кого-то поверх детских голов.
Прижав к груди великоватую для нее куклу, кроха гордо прошествовала к своему месту. Олимпийская аура совсем не игрушечной стоимости все еще витала над девчушкой гаснущими воздушными шарами. Слыша шумные вздохи давешней сладкоежки, Соня испытала прилив мстительного удовлетворения и поразилась собственным переживаниям по столь ничтожному поводу. Смеясь над собой, не смогла тем не менее противостоять и любопытству – повернулась туда, где на заднем ряду, расположенном через проход, сидела состоятельная мать черноглазки.
…Ага, дешевый синтепоновый плащик, изношенные полусапожки, затяжка на эластике колготок прокапана розовым лаком для ногтей – молодая женщина вовсе не выглядела богачкой. Лицо с классическими «египетскими» чертами обрамляли пышные вьющиеся волосы, отчего оно, и без того тонкое, казалось у́же и меньше. Густо затененные ресницами глаза, избыточные для монголоидного типа лиц, прямо-таки излучали материнское обожание. Если б какому-нибудь художнику пришло в голову изобразить азиатскую мадонну, она бы, наверное, выглядела примерно так же.
Девочка с благоговением тронула пальчиком круглое коричневое пятнышко на лбу индианки.
– Мама, что это?
– Третий глаз, солнышко.
– Разве у людей бывает третий глаз?
– Бывает. Но его не видно.
– А у кукол видно, – понятливо кивнула девочка. – Как мы ее назовем?
Женщина не успела ответить. С потолка на зал обрушился металлический голос дежурной вещательницы. Ожидающие дружно замерли, в едином порыве приподняв головы. Дикторша отчеканила сообщение о переносе всех вылетов на следующий день и, некрасиво булькнув, отключилась. Аэропорт загудел с новой активностью. Часть несостоявшихся пассажиров ринулась к выходу навстречу последнему городскому автобусу, остальные вольготнее устраивались в освобожденных креслах. Соня отругала себя за то, что не дала взятку в авиакассе. Сунула бы кассирше в лапу и улетела предыдущим рейсом еще вчера утром… Вот невезуха, опять придется ночь здесь куковать. Ребячий бег и галдеж, спертый воздух, пропитанный запахами киснущей еды и пота, мужские ботинки под креслами, – все окружающее начало сильнее раздражать Соню.
– Мама, а мы тут ночевать будем? – услышала она голос девочки.
– Посмотрим, может, в гостинице найдется койка для нас, – ответила женщина.
– Хотите, места постерегу на всякий случай? – предложила приветливая старушка-соседка.
– Спасибо, – поблагодарила женщина и засобиралась.
Прикорнув на кресле боком, Соня краем глаза наблюдала, как девочка кутает куклу в полосатый шарфик. На хорошеньком личике, точно в зеркале, отразилась заботливость ее матери, а мать, улыбаясь, стояла с двумя объемистыми сумками в руках и терпеливо ждала.
«Сашка – эгоист, – с внезапной неприязнью подумала Соня о муже, – поэтому не хочет иметь детей». И сама же принялась его оправдывать: да кому сейчас нужны дети? Пеленки, соски, вороватые няньки, отставка кандидатской на неопределенный срок, Саше с докторской придется трудно…
Соня оставила на сиденье книжку – знак присутствия, – и вышла на улицу покурить. Постояла на крыльце, наслаждаясь морозно-огуречной свежестью шквальных порывов, бьющих в лицо, и вдруг стала свидетельницей такой ошеломительной метаморфозы, что едва поверила глазам: будто в насмешку над синоптиками, вьюга без всякого перехода перешла в тишайший снегопад. Нынешняя весна явно страдала раздвоением личности. Расположение духа у сумасшедшего марта круто поменялось – снежный барс, распустивший по ветру когтистые лапы, обернулся пушистым котенком.
Досады как не бывало. Соскучившись по движению, Соня прогулялась по дорожке заметенной аллеи. Когда она энергично шагала между сугробами, в небо втянулось, не долетев до земли, последнее кружево обнищавшего снегопада.
Соня представила мужа в толпе встречающих. Он смотрел из синевы аллеи, наклонив лобастую голову в серой кепке и лукаво щуря глаза за цветочным букетом, как всегда после разлуки. Потом, тоже как всегда, щекоча в такси Сонину шею жесткими усами, замурлычет нарочито страстным шепотом: «С кем? Когда? Скажи, он правда лучше? Если честно признаешься, солнце, прощение вполне возможно…»
Саша не был ревнив, просто играл. Соня вздохнула: день и ночь маленького праздника, торт, свечи, возвращение к теплу родного тела. Надежда новизны всколыхнется одновременно с воспоминанием о том первом, невозвратимом, с жарким приливом крови к каждой клеточке, к кончикам пальцев, исследующих упругую плоть, весь телесный дом в блаженной путанице – где, что, чье… И опять – будни, загон в ступор работы, тупое бдение в магазинных очередях, вечера за столом в кипах драгоценных экспедиционных записей…
Соня вернулась в зал и обнаружила вместо своей книжки вальяжно развалившегося молодого человека.
– Вона, туда положил, – кивнул он подбородком куда-то назад и вбок, – вам же все равно, где сидеть, раз читаете? А мне отсюда телевизор лучше видно, сейчас футбол начнется.
Футбол Соне действительно не был нужен, и она не возразила. Книжка лежала на кресле возле «мадонны». Очевидно, в комнате матери и ребенка не нашлось свободных мест. Женщина подняла подлокотники кресел и соорудила на двух сиденьях подобие постели. Девочка, прикрытая пуховой шалью, уже спала в объятиях куклы.
Соня спросила: «Занято?» – получила отрицательный ответ и, приткнув под голову шапку, храбро попыталась вздремнуть. Для этого требовались усилия: в подвешенном к стене телевизоре разгорелись футбольные баталии, компания парней напротив встречала голы адскими воплями, два мальчика устроили рядом на полу рычащие автомобильные гонки… Ах, эти неугомонные мужчины!
Подаренное переменой погоды настроение понемногу таяло. Но все же как-то незаметно, исподволь гомон суетного мира благостно отодвинулся, отдалился… и приблизился вновь: старушка, предлагавшая женщине с девочкой покараулить места, потрясла Соню за локоть:
– Скажите, пожалуйста, как называется самая популярная индийская киностудия?
– А? Что? Какая киностудия? – встрепенулась Соня.
– Ой, я вас разбудила, – конфузливо улыбнулась старушка, распустив по лицу веселое соцветие морщинок. – Думала, никто не способен спать при таком шуме…
– Вы сказали – киностудия?
– Я тут кроссворд разгадываю, – высунулся из-за старушки крепенький старик-боровичок. – Споткнулся на вопросе про индийскую киностудию, попросил жену у вас поинтересоваться. Извините…
Соня пожала плечами:
– Увы, не знаю.
– Болливуд, – подсказала мать девочки.
– Премного благодарю, – обрадовался старик.
– Правда? – удивилась Соня. – Голливуд, как в Америке?
– Б – Болливуд, – поправила женщина. – Я интересовалась, как снимают индийские фильмы, а то бы тоже не знала. Они мне нравятся из-за хеппи-энда. – Голос ее оказался неожиданно контральтовым, с особинкой почти до шепота закруглять окончания.
– Кукла ваша, гляжу, индианочка, – уважительно заметила старушка.
– На Анупаму походит. Был такой фильм – «Анупама».
– У вас волосы как у той актрисы, – вспомнила Соня и дрогнула на полуслове: – Толь…ко прическа другая.
Болезненная усмешка скривила лицо женщины. Крупные глаза блеснули, точно виноград карабурну, сизоватым от черноты отливом. «Кара́», «хара́» – «черный» с тюркского, «хара́х» по-якутски – глаза…
– Я не могу позволить себе другие прически, – с холодной резкостью проговорила она.
– Почему? – Соня не успела обидеться или подумать, что это ее не касается, просто спросила.
– Так получилось.
Женщина о чем-то задумалась. Вынула из сумки пачку «Интера», машинально поднесла сигарету к губам и очнулась. Смятая сигарета полетела в урну у окна.
– Вы курите?
«Внимательная», – подумала Соня. Из уголка ее недозастегнутой сумочки выглядывал коробок спичек.
– Может, пойдем? – Женщина встала.
Улыбчивая пара кроссвордистов согласилась присмотреть за девочкой.
На аллее стволы деревьев за границей света уходили в чернильную темь. Ближе на дорожке, раскинув руки с растопыренными пальцами, лежали худые негры-тени. Присыпанный снегом угол с приступкой с другой стороны здания прикидывался белым роялем. Женщина молча курила, пристально глядя на этот воображаемый рояль, и все не начинала свой рассказ. В том, что он будет, Соня не сомневалась.
…С ней часто заводили разговоры о личном. Саша сказал однажды: «Если душа материальна, то твою душеньку, солнце, я представляю в виде мокрой жилетки» и, вспомнив известную писательскую «жилетку», повторил расхожий парафраз: «Человек – это звучит горько…»
Она и сама смешливо думала, что была в прошлой жизни священником. Подруги приходили к Соне на исповедь, поругавшись с мужьями. Поссорившиеся с женами друзья обрывали Сонин телефон, требуя совета. Мама спрашивала, чем лечить гриппы и ангины отца. Сестрица, обзаведясь сынишкой, звонила по любому пустяку, хотя прекрасно знала, что Соня и дети – две вещи несовместные. Маленькие чужие бедствия плыли, плыли и как-то нечаянно, бесследно растворялись в сумеречной реке жизни, счастливо обтекающей благополучный со всех сторон дом Сони. Но тут, с незнакомой женщиной, было нечто другое. «Эффект попутчика» – кажется, так называются подобные эпизоды в психологии, с неосознанным притязанием на возможность душевного исцеления.
Мерзлая скамья быстро вытянула тепло из Сониного тела. В душе-жилетке закопошились туманные подозрения, и стало не по себе. Желчно подумалось: на лице у меня написана, что ли, готовность помочь каждому? Нормальная ли эта случайная попутчица с плодово-ягодными глазами? Вот уж никогда не замечала раньше, что виноград смотрится трагично! «Ну, говори», – томилась Соня.
Женщина наконец откинулась на спинку скамьи, взглянула на соседку и вздрогнула – едва не отшатнулась. «Забыла, что не одна», – догадалась Соня. Встать, светски кивнуть и уйти, как больше всего хотелось, она почему-то не осмелилась.
– Простите, запамятовала, что вы здесь, – сказала женщина и невпопад, запоздало назвалась: – Мария.
Ей очень подходило это библейское имя. Соня поняла: не отвертеться, – и только собралась назвать свое имя, как Мария предвосхитила ответ:
– А вы – Софья Семенова.
– Да, – растерялась Соня, – Семенова – моя девичья фамилия. Откуда вы знаете?
– Я встречала вас когда-то. Давно… Неважно. Вы спросили, почему я ношу эту прическу…
Глубоко вдохнув, – с таким вдохом бросаются в воду, – женщина молниеносным движением откинула левую прядь, и при свете фонаря…
Боже, кошмар! Кошмар! Соня еле подавила крик, узрев вместо аккуратной ушной раковины жуткий рубец с темной дыркой посередине. Рвано змеящийся свежий шрам какого-то непристойного перламутрово-розового цвета пересекал висок.
В глазах, почудившихся теперь Соне провалами черного безумия, дико метались фонарные огни. Женщина больно схватила за руку:
– Это ведь уродливо, да? Это страшно?
– Нет, нет… – Испытывая на самом деле ужас, Соня тихонько выдирала руку из цепких пальцев и изо всех сил старалась сделать вид, что увиденное не произвело на нее особого впечатления.
– А вообще-то мне плевать, что люди подумают. Не для них живу, для дочки. – Женщина отпустила Сонино запястье.
…Во-первых, надо взять себя в руки. Во-вторых, успокоить эту психопатку. Может, как бы ненароком посмотреть на часы, зевнуть, зябко ежась? Ночь же на дворе, холод. Девочка на чужом попечении, вдруг проснулась… Или все-таки выслушать? Сложно, когда чувствуешь тягостное беспокойство и желание сбежать. К священникам, наверное, тоже приходят всякие помешанные, одержимые, маньяки… бр-р. Как поступают батюшки? У них там, в церкви, вероятно, специальные практикумы проводятся для облегчения пастырской участи, с инструкцией, указаниями, прочими рекомендациями…
Сонины опасливые ожидания оправдались: Мария начала рассказывать. С ходу, без предисловий, будто зачитывая биографию на диктофон.
– Я родилась в маленькой якутской деревне, училась в районном центре и больше нигде не была. После школы решила поступать на филологический факультет – любила русскую литературу, стихи сочиняла. Гордилась тем, что чисто по-русски говорю. Район-то якутский. Мечтала вернуться в родную школу учительницей, стала готовиться к вступительным экзаменам. Тем временем в наше село «грачи прилетели» – хохлы-шабашники, детский сад строить. Парни молодые, по субботам на танцы в клуб похаживали, играли в бильярд… И я влюбилась. Скоропалительно, с разбегу, порох оказались оба! Через неделю привела Павла домой, заявляю маме: «Знакомься, мой муж». Избалованная была, что хочу, то и делаю. Бедняжка моя заплакала: «А учеба-то?» Ой, мама дорогая, какая учеба, пойми – любовь же у нас! Любовь!
Женщина улыбнулась воспоминаниям, глаза заискрились печально, мягко. Соня удивилась: как могли они померещиться ей «провалами»? Да и виноград не напоминают нисколько. Красивые «индийские» глаза. Да… Анупама. Волнистая прядь снова прикрыла ухо. Вернее, то, что вместо него осталось.
– К сентябрю строители сдали объект, отправились в Якутск, и я с Павлом. Сходили в университет ради интереса. Гляжу: кабинет приемной комиссии работает, дверь распахнута. Девушка за столом заполняет какие-то листы, табличка впереди с именем: Софья Семенова.
– Вот вы где меня видели! – воскликнула Соня. – А я… у меня на лица память не очень…
– Вы на входящих и не смотрели. Некогда, бумаг куча. Я постояла, полюбовалась. Какая, думаю, девушка красивая и умная! На вас была модная зеленая кофточка, помните? Честно скажу: в тот миг возникла в моей голове мысль бросить Павла, спросить у Софьи Семеновой, есть ли еще надежда поступить хоть на подготовительное отделение, хоть куда… Вы своим строгим видом словно предостерегали меня от чего-то. Но тут Павел за руку взял – пойдем.
Она вытряхнула из пачки новую сигарету, закурила.
– В Усть-Илиме стройка была большая. Выдали нам комнату в общежитии. Я там же уборщицей устроилась, к Новому году кой-каким хозяйством обзавелись. Счастливы были… Слышу однажды – бабы в общей кухне обо мне судачат. Кто-то из них Павла жалел: мол, мужик-красавец голытьбу подобрал, чукчу без приданого. Машка эта, видать, и говорить-то по-русски не умеет… Я нарочно перед дверью тапочками пошаркала, бабы заткнулись. Стоим, молчим, все своим обедом заняты. Я борщ сварила, принесла в комнату и давай плакать. Потом села маме письмо писать, а написала стихи. Павел пришел, спрашивает: «Чего грустная?» Нашел листок на столе и все у меня выспросил. «Дурочка, – говорит, – на фиг мне твое приданое, раздетая ты интереснее выглядишь!» Смеялся…
Соня забыла о лечении духовных недугов и отпущении грехов. Время потеряло отчетливость, секунды задумчиво перетекали из одной в другую. Соне было интересно переживать моменты чужой жизни, в которых, как выяснилось, и она, совершенно о том не подозревая, сыграла маленькую роль… Ах, вот почему близкие несли ей свои исповеди… Она просто умела слушать.
– А прочитайте мне эти стихи… Если можно.
– Да какие стихи! Ерунда.
Сказали – приданого нет…А этот бесконечный светв придачу к звездам и луне,любовь моя – приснились мне?Ну разве не богат мой дом:хрусталь – сосульки за окном,чиста, как зеркало, река,как наволочки – облака,на ветках – иней кружевной,и солнца золото со мной —его тут через край с утра,как вечерами – серебра…Не моль и плесень в сундуках,а целый мир в моих руках,и знает пусть народ окрест,что я богаче всех невест!– Неплохо, – сдержанно похвалила Соня.
– Спасибо. – Она смутилась, польщенная. – Так и жили. Придет Павел с работы, а я ему – борщ и стихи. Весной заскучал по Украине. Поехали к нему на родину, она тогда еще заграницей не была. Новая родня приняла меня ни хорошо, ни дурно – никак. Но домик небольшой купить помогли. Я сына родила, через год – второго. Мальчиков моих… Как он их любил! Натрудится за день, устанет, а все равно с ними вошкается…
Сонина спина уловила вибрацию – по телу соседки пробежала судорога, током пробившая бесчувственный холод скамьи. Глаза снова ярко блеснули. Слезы? Нет, отсвет из окна. Рука поднялась в легком жесте и, чуть задержавшись на уровне груди, упала, будто надломилась в локте… И вдруг тишину прорвал полузадушенный крик:
– Они сгорели! Мои мальчики!
Притаившись в тени, Соня сидела не шевелясь, как мышь в западне. В голове гуляли сквозняки. За толстым окном в зале ожидания царила безмятежность.
– Я в магазин бегала, – хрипло прошептала Мария сорванным голосом. – Получаса хватило, чтобы жизнь наша кончилась. На похоронах… не плакала. Не могу при людях. Павел, пьяный, взъярился: «Хоть бы слезинку уронила! Спокойная, как все вы, якуты!» Со зла сказал, конечно… Домой стал заявляться поздно, часто выпивший, и я собралась уехать. Кое-как дождалась сорока дней. Что на поминках было – не помню, только глаза его злые. Чужой, жестокий, взял меня ночью грубо… Просто – взял. Я до утра глаз не сомкнула, пока он храпел рядом. Вот любовь моя – карусель – блуждает, кружится, не остановить… Оксана – подарок той ночи. Ему это имя нравилось. У дочки и губки, и волосы папины, и подбородок с ямочкой… Павел о девочке нашей не знает. Я уехала на другой день после поминок. Вернулась и не жила… не жила… Мать от Павла письмо получила, спрашивал, как я да что. А мне не до него совсем. Поняла, что залетела. И когда! В сороковины! Почти всю беременность пришлось на сохранении лежать. Чуть не померла.
Мария вздохнула. Кусочек пепла упал на изогнутую ножку скамьи. Зарница окурка, описав полукруг, погасла в каменной урне.
– Исполнилось дочке три года, и мы с ней сюда приехали. Здесь подруга моя школьная обосновалась. Помогла устроиться на завод, комнату дали. О Павле я старалась не вспоминать, да куда от сердца денешься… Если б не Оксана… Прошлой осенью прибежала дочка из коридора сердитая – коридор в общаге длинный, детворе раздолье носиться – и пожаловалась, что большие девочки «безотцовщиной» обозвали. Ясно море, думаю, взрослые слова повторяют. Но не без затей оказались девочки, не поленились Оксане растолковать, что это такое – безотцовщина. Руки-то у меня и опустились. Я для своего ребенка хоть звездочку с неба достану, а папу – как?! Дочь говорит: «Ты, мам, не плачь, я им сказала, что у нас есть папа – сосед дядя Коля». Оксана не зря Николая в папы записала, он ее баловал. То коробку дорогих конфет принесет, то книжку, а ко дню рождения специально для нее заказал куклу. Этих кукол одна маленькая артель мастерит – глухие художники, его друзья. Раньше дело у них вроде бойко шло, заказы даже из-за рубежа поступали, нынче все хуже, поэтому куда попало сдают, лишь бы деньги выручить. Анупама – тоже их работа. А та кукла мне почему-то сразу не понравилась. Красивая, но с тревожным лицом, глаза – не глаза, точно чаши печали… До того я не сильно задумывалась о щедрости соседа, ведь Оксана сама как куколка, все восхищаются, аж беспокойно. Тогда-то и дошло: тактика! Он таким образом ко мне клинья гнул. Поразмышляла я, и то ли дочкины слова душу разбередили, то ли еще что, захотелось чего-то стабильного, семейного… Николай симпатичный, добрый. Правда, немного вспыльчивый и… глухой. Вернее, слабослышащий, с нечеткой речью. В детстве от осложнения повредился слухом.
Мария внезапно поднялась и достала из урны бумажную коробку. «Что собирается делать?» – удивилась Соня. Разодранная в клочья коробка вспыхнула маленьким костерком.
– Руки погреем.
Лицо Марии, подсвеченное снизу, как лампадой, еще больше напомнило лик на иконе. Лицо было тревожным… глаза – чаши печали…
– Сперва жили дружно. Оксана к нему привязалась – папа, папа. Но через несколько месяцев я поняла: он мне в тягость. И Коля понял. Ревнивый был, начал добиваться, чтобы рассказала ему о Павле. Я объяснила: не сошлись характерами. Ни слова о сыновьях… Голову ломала, как теперь разойтись по-доброму, и все тянула из-за дочки. А тут друзья пригласили на новоселье. Я не хотела идти, будто чуяла, Коля настоял. Оксану к подруге отвели… В гостях он мрачнее тучи сидел, пил рюмку за рюмкой. Меня отчаяние разобрало. Махнула рукой: ну и глыкай! Назло все танцы подряд отплясывала, на него ноль внимания. Вышли на лестницу покурить с нашим профсоюзником, кумекали с ним, могу ли я переехать в другую общагу, и вдруг этот гад прижал к стене, давай лапать. Не успела я отпор дать, дверь открывается, и – Коля… Раненым зверем взревел! Глухие не знают, каким страшным бывает звук… Народ на площадку высыпал, профсоюзник со страху свалил. Николай пометался, схватил в охапку пальто-шапки, меня и – домой без «до свидания». В общаге орал: «Сука ты, слюха, плять!» Всех соседей на уши поднял. До этого никогда не матерился. Мне обидно стало. Не выдержала, говорю: «Я – шлюха, а ты – глухой!» Он по губам прочитал. Ох, думаю, что наделала! Да поздно, слово-то не воробей. Вот когда я Николая насмерть оскорбила, век себе не прощу… За нож взялся. Сейчас, думала, зарежет, а он – ухо… Сам кричит: «Я глухой, да? Я – глухой?! Будесь и ты!»