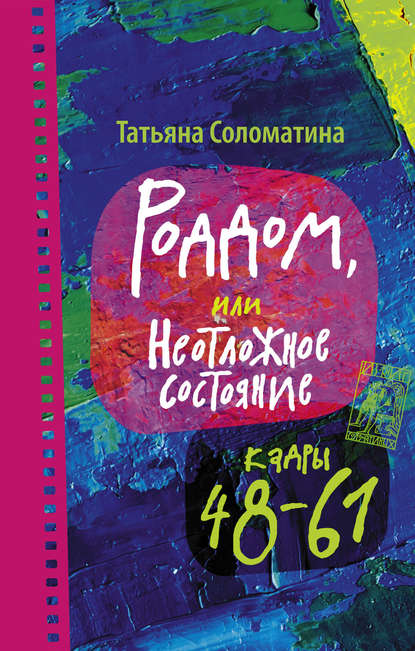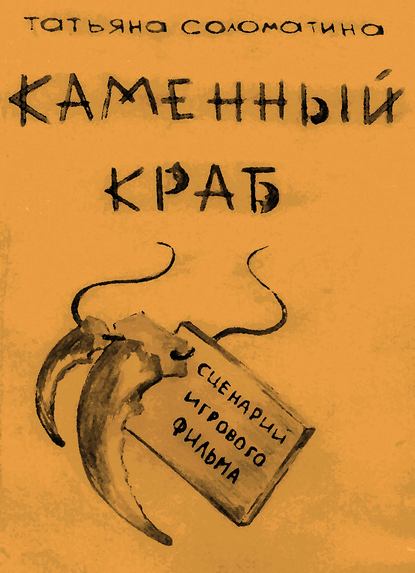Полная версия
Роддом, или Жизнь женщины. Кадры 38–47
У Панина прекрасно получалось быть отцом. Или нянем. Разве в таком возрасте нужен отец? Одиннадцатидневным детям нужны высококлассные няни. И у Сёмы всё спорилось. Мыть попу, менять памперс, купать, кормить, носить на руках, играть. Вот с чем там ещё играть?! А Панин гулил, агукал и хихикал как натурально с катушек съехавший. Иногда Татьяна Георгиевна украдкой наблюдала за ним. Никогда прежде она не видела, чтобы человек на человека смотрел с такой любовью. Нет, именно так на неё саму когда-то смотрел Матвей. Но были только она и Матвей. И не было никого третьего, кто мог бы оценить это со стороны. Поэтому так ли это выглядело – неизвестно. А тут здоровый пятидесятилетний мужик под центнер весом смотрит на крошечную трёхкилограммовую козявку! – так, как когда-то Матвей смотрел на неё саму. Некогда её любили. Теперь же Мальцева за такой потрясающей, невероятной, неземной совершенно любовью всего лишь… подглядывает. Так, что ли, получается? Может, у Сёмы и с лактацией бы наладилось, не будь он теперь безвылазно занятой министерской шишкой.
– Посмотрите, какая наша Му-у-усенька краса-а-авица! Самая прекрасная девочка на све-е-ете! – сюсюкал Панин, нежно смывая с головки дочери пену шампуня. – Дай полотенце! – строго командовал он тут же Татьяне Георгиевне. – Нет, ну полюбуйтесь только на папину Му-у-усеньку! – снова завывал он, и, похоже, согласия Татьяны Георгиевны ему вовсе не требовалось.
– Ой, какая наша Мусенька у-у-умница! – токовал Семён Ильич. – Ты видишь, какая она умница?! – он совал пупса Татьяне Георгиевне.
Признаться честно, Мальцева не видела. Как ни смотрела. Красавица – ещё куда ни шло. Ладная, с правильными чертами смешного кукольного лица. Но вот умница?
– Сёма, она не может быть умницей. Она младенец. Она ест, какает, спит вполглаза на ходу и орёт. Бесконечно орёт. Я очень устала.
Как-то само собой, безо всяких инициатив, обсуждений и командного принятия решений вышло так, что Панин стал спать в комнате, рядом с кроваткой малышки. Когда не был в министерстве, разумеется. Мальцева «переехала» на кухню. Даже купила «палаточную» раскладушку. Первый месяц пролетел совершенно незаметно. Особенно учитывая то обстоятельство, что Татьяна Георгиевна вышла на работу всего неделю спустя после выписки. То есть через семнадцать дней после кесарева. И причины тому были рабочие. Ночью ей позвонила Оксана Анатольевна Поцелуева, временно исполнявшая обязанности начмеда, и сказала в трубку коротко и бесцветно:
– Татьяна Георгиевна, родильница, двадцать шесть лет, третьи сутки неосложнённого послеродового периода, вместе с ребёнком выбросилась из окна пятого этажа. Ребёнок умер. Женщина в реанимации главного корпуса. Состояние крайне тяжёлое. Прогноз неблагоприятный. Меня срочно вызвали. Главврач требует тебя.
Мальцева собралась за две минуты. И уже в такси поняла, что не оставила Сёме даже записки. Он будет волноваться. Кроме того, это непосредственно его дело. При его нынешней должности. И ещё поймала себя на мысли, что сбежала из дому – и радуется. Именно сбежала. Именно что – с огромной радостью. Удрала от своей дочери. Ночью. Не переждав минимального положенного законами сроков – могла бы и стать в позу: «Я в декретном отпуске!» Она же как раз именно что в нём. На бумаге, по крайней мере. И, значит, могла отказаться. И без неё бы разобрались. А самое во всём произошедшем бесчеловечное – другого слова Мальцева и подобрать не могла: она даже не ахнула чудовищности повода, вернувшего её на службу. На адовую службу по адовой причине. Неужто ад – зона комфорта Татьяны Георгиевны Мальцевой?!
Но служба – особенно адова – тем и хороша, что себя на ней не помнишь. До себя на службе нет дела. На себя на службе нет времени.
* * *Анамнез жизни рванувшей из окна с новорождённым младенцем в объятиях с виду был более чем благополучным. Практически образцово-показательным по современным убогим меркам. Папа зарабатывал на пять с плюсом. И мама в ведомостях семейного бюджета ниже хорошистки не скатывалась. Вышколенные благосостоянием детей бабушки исправно водили девочку на музыку, на фигурное катание, на английский язык, в художественную студию и в бассейн. Если из школы дочь приносила четвёрку – мама иронично вскидывала левую бровь и хмыкала через губу. Папа высокомерно, чуть с пренебрежением вскидывал правую бровь. Если девочка чего и боялась в этой жизни, то вовсе не голода, холода и отсутствия модных тряпок. Она испытывала самую тяжёлую, запущенную разновидность страха, которой могут заразить только искренне любящие близкие люди: не оправдать возложенных на тебя надежд, не отработать должным образом затраченных на тебя усилий. И с возрастом течение душевного расстройства становилось всё более тревожным. Потому что у неё не оказалось музыкальных способностей. И к пятнадцати годам чемпионки, срывающей олимпийское ледовое золото, из неё не вышло. Английский язык она знала неплохо и даже могла написать стишок в подражание Роберту Фросту. Но только – в подражание. Кувшин с яблоками, голову и капитель – могла нарисовать. Вполне терпимо. И сделать копию «Утра в сосновом бору» или даже «Постоянства памяти». Особенно успешной выходила копия «Чёрного квадрата». Но своей собственной живописной манеры у девчонки так и не обнаружилось. Поскольку во сне ей являлись кошмарные вскинутые брови. Левая. И правая. Живущие своими независимыми друг от друга жизнями. Левая бровь вела жизнь ироничную. Правая – высокомерную. Иногда они садились выпить чаю за столик насмешливости. Она даже как-то нарисовала свой повторяющийся сон пастелью на листе картона.
– Это что, ранний Дали? – иронично посмеялась Левая Бровь.
– А что-нибудь, кроме римейков, можешь? – высокомерно разошлась в полуулыбке Бровь Правая.
С плаванием тоже ничего особенного не вышло. Хотя таланты были. Но профессиональному спорту надо отдавать всю себя. А Брови единогласно не позволяли бросить музыку, художественную студию, коньки и бог знает что ещё и зачем.
После бассейна просыпался безумный аппетит, и бабушки щедро его удовлетворяли.
Потом бабушки умерли. А Брови не позволили дочери самостоятельно передвигаться по городу. Город полон извращенцев и бомжей. Да! Даже для пятнадцатилетней! Особенно для пятнадцатилетней! Всё. Разговор окончен.
Ну и замечательно. И не очень-то хотелось. Школа за углом. Холодильник на кухне.
Еле окончив школу на крепкие тройки и нежизнеспособные четвёрки, девочка никуда не поступила. И на работу не пошла. Потому что умерла Правая Бровь. Которая – отец. И вся невыносимо гнетущая вязкая материнская любовь Левой Брови с ещё большей силой обрушилась на растолстевшую и обленившуюся юную деву. Мать не замечала, что с родной душой что-то не так. Зато в качестве щедрой компенсации – беспрестанно попрекала:
– Кто ж тебя замуж возьмёт, эдакую корову?!
Но тем не менее по-прежнему не позволяла выходить из дому – даже с большей страстью, нежели прежде. Ни на дискотеку с подружками. На дискотеках – извращенцы. Ни в кафе посидеть-посплетничать. В кафешках – подонки. Везде зло. Да и подружек у дочери, честно говоря, совсем не осталось. Точнее – так и не завелось. Талантливый, общительный, спортивный некогда ребёнок превратился в замкнутого асоциального взрослого. Она даже в Интернет не ходила. Потому что и там извращенцы, подонки и зло. На фитнес уже не очень-то и хотелось. Если она хоть вполовину такая безобразная, как иногда плачет мама, – тут уж никакие усилия не помогут. Так какой смысл?
Мама извернулась и выдала дочь замуж. Потому что ожирение и прыщи от отсутствия половой жизни. Так считала мама. Версии, что ожирение – от чрезмерного количества еды, а прыщи – оттого, что дочурка уже давно откровенно наплевательски относилась даже к элементарной гигиене, матерью не рассматривались. Сама мамаша, к слову, выглядела безупречно. Стройная. Красивая. Хорошо зарабатывающая молодая ещё женщина. При должности и ухажёрах. Вот одного из набранных по объявлению она и женила на собственной дочери. Зятёк был ничего на вид. Смотрел начальнице в рот. Ну и жениться на её дочке – всяко лучше, чем девяносто процентов зарплаты за съёмную квартиру отдавать. После свадьбы они стали пилить несчастную, объединив усилия. Причём мамаша-то, понятно, от большой неисчерпаемой любви. А муж – в подражание тёще. Хотя и безо всяких чувств к жене, исключая разве что раздражение.
Впрочем, брак пошёл деве на пользу. Она действительно была влюблена. Кто ж не влюбится, когда в атмосфере полной изоляции появляется кто-то тёплый и живой. Дочурка перестала грызть ногти… Часто шиншиллы, живущие поодиночке в клетках у «любителей» домашних животных, начинают грызть себе лапы. И такие любители выбрасывают несчастное создание или под забор ближайшей ветеринарной клиники (в лучшем случае!), или на ближайшую помойку. Или становятся хоть немного профессионалами: покупают своей пушистой милой крысобелке товарища. Желательно – противоположного пола. Так что ветеринары действия мамаши одобрили бы. Дочь стала следить за собой. Немного похудела. Не до маминых размеров идеальной нимфы, но вполне до нормальных стандартов здорового человека. Стала чаще выходить на воздух. И забеременела. Тем более, что мама так этого хотела. Каждый вечер на кухне вопрошала, иронично вскидывая никуда не девшуюся левую бровь:
– Когда ж ты уже забеременеешь? Или ты и этого не можешь?!
И всё в таком духе. При муже. Который как огня боялся тёщи-начальницы. И потому всё раздражение и злость срывал на беззащитной шиншилле. Пардон, жене.
Зато уж когда дочь забеременела, мама так обрадовалась!
– Господи, какая же из тебя выйдет мать?! – всплёскивала она руками с безупречно отполированными ногтями. – Нет, я работу бросить не могу! Кто будет всю вашу бездельную никчемную кодлу содержать?
Упрекнуть маму было совершенно не в чем. Мало того – было бы вопиюще несправедливо. Она заботилась о своей дочери. Она покупала ей самые лучшие фрукты и овощи. Только парную телятину. И где-то раздобывала чёрную икру. Нашла прекрасного акушера-гинеколога по большому блату. Заставляла регулярно посещать консультацию и лично со всем тщанием изучала дочуркины анализы. Она очень хотела внука. Первое разочарование постигло будущую бабушку, когда УЗИ принесло в клювике: девочка.
– Будет такая же неповоротливая бездарь, как ты! – выписала мамуля приговор.
У дочери даже не достало ехидства ответить: «Ну что ты, мама! Она вся будет в тебя! Сноровистая и талантливая! Ты же у меня работящая умница, а главное: добрая, аж дух захватывает!» Откуда взяться ехидству у придавленного чувством вины и вечно оправдывающегося, в том числе и за чувство вины, существа.
Всю работу по дому «ленивая» дочь взвалила на себя. Совершенно добровольно и уже давно. Мама могла на голубом глазу, безо всяких рефлексий, «похвалить дочурку» в присутствии своих подружек, званных на кухонные сплетни под бокал вина:
– Золотая девочка! Могла бы горничной в пятизвёздочном отеле служить! Вы видели, как у меня всё расставлено, развешено, разложено? Всю жизнь с домработницами билась. Если не ленивая – так неуклюжая. Если руки из нужного места растут – так уже не домработница, а королева Великобритании!.. Но только вот зачем мы столько сил и труда в её детство вложили? Она же оказалась гениальная, прирождённая служанка! Не стоило и тратиться!
Мама зловеще хохотала, завершив свою победоносную тираду. Приятельницы неловко отводили глаза. Боясь сделать маме ненужное – по их мнению – замечание и стараясь не смотреть на краснеющую беззащитную дочь, выпекающую любимый мамин песочный пирог с абрикосами.
Муж ушёл где-то на седьмом месяце. За это время тёща успела дать ему неплохой старт. Обучила некоторым деловым приёмам. Щедро сдала все карты лоций в мире их узкоспециального бизнеса. Одела. Обула. Научила фрукты вилкой есть и абсент пить безупречно-ритуально. Он вписал в своё резюме опыт работы в солидной конторе, где тёща и была топом, – и привет! Нашёл себе новую службу. И быстро. Ещё и клиентов у тёщи – уже бывшей тёщи – увёл.
Всё это совместное существование матери и дочери не облегчило.
Нет, самое удивительное в этой истории: мать действительно любила свою единственную дочь. И страстно жаждала внука. Или внучку. Какая разница? Она даже плакала по ночам на кухне. Из-за неотвязного чувства, что она явно делает что-то не так. Не так поступает. Не то говорит. Не из-за того, что дочь плохая. Это её единственная дочь! Какая разница, плохая она или хорошая, толстая или тонкая, блондинка или брюнетка, есть у неё мужик или нет и не будет?! Это она так потому, что её собственный муж умер. Она его безумно любила. И если бы не он, то, возможно, она была бы лучшей в мире матерью! Она так не хотела выходить на работу, когда дочь родилась! Она хотела быть рядом с малышкой постоянно. Тетешкать её, лелеять. Нежничать, дурачиться. Разделять бесконечные открытия, и огромные детские радости, и крошечные ребяческие несчастья. Но муж говорил, что дочь не будет гордиться матерью-домохозяйкой, а когда вырастет – спросит: «Мама, а что ты сделала интересного?» И вот теперь дочь беззаветно любит её. А она не может даже подойти к ней. Не может обнять. Не может поцеловать. Это было так легко – раньше, с маленькой. Отчего же так сложно, так неизбывно-невыполнимо стало сейчас?! Почему вместо утешений из неё, уже стареющей и, значит, умудрённой опытом женщины, вылетают только бесконечные колкости? Почему она вместо того, чтобы обнять свою дочь, вскидывает и вскидывает эту проклятую ироничную левую бровь?! Откуда эта никчемная язвительность?!
Мама плакала на кухне из-за того, что жила не так. Плакала и плакала. Вместо того, чтобы встать, пойти, обнять, попросить прощения, – и пусть уже, чёрт возьми, всё станет так! Но на встать, пойти, обнять и попросить прощения не хватало воли и силы. На такие простые, элементарные действия – не хватало. Ноги наливались свинцом. Руки тяжелели и холодели. И левая бровь начинала нашёптывать: «Да ты для неё!.. А она! Беременная неумёха! Дура без талантов и профессии! Если ты сейчас размажешь нюни по космосу – вам обеим… троим! – кранты! Ты должна быть твёрдой и последовательной!» И мама продолжала сидеть на кухне, продолжала пить водку и глотать горький дым, оставаясь твёрдой и последовательной. И то, что было задумано душой, – стало пустотой, чинилось содержимым ядра: злым порохом, острой картечью, ядовито-промасленной ветошью. И подогревалось до адской температуры. И взрывалось внутри, образуя ещё большие выжженные пустоты, вакуумные лакуны. И часам к четырём утра мама падала в свою постель, шипя и дымясь, как погружённая в ледяную воду едва отлитая чугунная чушка. И больше не было ничего. Затем звонил будильник – и начиналась механическая жизнь.
И дочь плакала в своей спальне. И уже давно не пыталась обнять маму. Боялась. После опыта сотни тысяч прежних попыток. Даже самый бездарный и тупой щенок, самая отъявленная генетическая выбраковка рано или поздно научится команде «Нельзя!». Особенно если применять электроошейник. Дочь плакала потому, что из неё ничего не вышло. У неё всё есть. Но только благодаря маме. И покойному папе. А сама она – ноль. Сколько в неё вложили сил и заботы – всё зря. Она бездарная. И безвольная. И никому не нужна. Муж ушёл, даже не объяснившись. Просто собрал вещи, купленные ему её мамой, – и ушёл. Только один раз виделись после. В день развода. Он ни на что не претендует. А она кто такая, чтобы на что-то претендовать? Ему ребёнок не нужен. Так какой смысл говорить с ним о ребёнке? Который ещё даже и не рождён. На развод муж явился со стройной, красивой девушкой. Милой. Очаровательной. А она была опухшая, заплаканная и с пузом. Развели быстро и равнодушно. Мать потом кричала, что привлечёт его, заставит платить алименты и быть отцом. Не первый раз кричала. К чему привлечёт? Что – заставит? Как можно заставить быть отцом? Зачем?.. Она сама воспитает дочь. Но как она сможет воспитать дочь? Мама постоянно твердит, что матери из неё не выйдет. Какая из неё мать? Она за себя никакой ответственности не несёт и ничего, кроме борщ сварить и мамочкин костюм от Шанель отпарить на весу, ничего и не может. А ребёнок – это решения принимать. Розовый комбинезон или салатовый? Сейчас почему именно плачет? Живот болит? Голодный? Прививки – делать или не делать? Хочет собаку – разрешить или запретить? В школу – в математическую или в языковую? А если ребёнок заболеет? Дети болеют! Мамочка вон сколько ночей не спала, когда она сама ещё маленькая болела. А она без мамочки даже не знает, куда звонить, к кому обращаться, в какую сторону бежать. Страшно. Она отлично знает, что такое страх! И никого не хочет больше разочаровывать! Ни маму, ни свою дочь. Ни себя.
Приданое для будущей внучки было закуплено самое лучшее. Коляска, больше напоминающая фантастический космический корабль. Кроватка. Игрушки. Одёжки без счёту. Памперсы самых немыслимых конструкций и расцветок «на первое время», заполонившие всю кладовку. Молочные смеси дорогущие. Потому что «не верю я, что из твоих толстых бесформенных сисек хоть что-то выдоится!».
Мама всерьёз готовилась стать бабушкой. Профессиональной бабушкой. Хотя было похоже на то, что готовится стать матерью. Она даже не брала дочь с собой в свои закупочные трипы. После безобидного: «Мама, тебе не кажется, что этот фиолетовый слишком мрачный?» – следовал трёхчасовой концерт в верхних регистрах колоратурного сопрано. И дочь окончательно смирилась. Если после окончательного смирения существует ещё более окончательное смирение, то она оказалась в самом нижнем кругу. Ада. Под самым последним кругом оказался ещё «технический этаж». Для отчаянно смирившихся. Ими всё это адское хозяйство и поддерживают в должных температурных режимах. На всех уровнях.
Был оплачен самый дорогой контракт. В хорошем родильном доме. Одном из самых лучших в городе. И как раз недалеко от дома.
Роды прошли без осложнений. В присутствии мамы. Мама очень мучилась. Дочь её успокаивала и просила вести себя хорошо.
И ничего не дрогнуло в душе у отменного врача Оксаны Анатольевны Поцелуевой. Да, именно она принимала эти совершенно нормальные, абсолютно физиологические роды, приведшие к такому инфернальному результату. В контракте была прописана Татьяна Георгиевна Мальцева. Но она сама находилась в декрете. А роды – дело такое. Начались? Начались. Начмед записан? Начмед. Кто исполняет обязанности начмеда? Поцелуева. Милости просим к станку, исполнять обязанности.
Нормальность ли самого физиологического акта слишком застила ненормальную атмосферу? Или врачи так много видят, что с какого-то этапа уже цветопередача нарушается и обрушивается индуцированная избирательная слепота, как на лошадь в шорах? Видишь главную дорогу? Отлично! Для того и шоры на тебе, чтобы не рыскала!.. А что там в этих семьях, на их боковых дорожках и разветвлённых тропинках… С каждой разбираться – жизни не хватит. И более ненормальные комбинации видали. С одной два «мужа-папы»[12] на роды приходили, хором пуповину перерезали. Это куда уж меньшая популяционная норма, чем нервическая мамаша-командирша, погоняющая и попрекающая дочурку. Чокнутая совершенно баба: с одной стороны – железная леди; с другой – законченная истеричка. Больно дочери – та лишь тихо охает и послушно пыхтит. А мать верещит как оглашенная. Причём ладно бы на персонал – у тех все органы чувств давно лужёные. Так она на собственное дитя орёт: «Ребёнка задушишь!.. Что ты его кислород тратишь?.. Не о себе думай, эгоистичная тварь!..» Да тут любая акушерка-хамка – просто кастрированный закормленный диванный персидский котик!
Или слишком была увлечена Поцелуева своим романом с Родиным? Да мало ли у неё было романов? Это никогда не мешало работе. Что правда, никогда не было таких прекрасных в своей простоте и уравновешенности… Неужели это из колеи выбило? Разве именно это заставило раскрыться, утратить готовность к ударам с любых сторон? Нет! Не может этого быть! Это лекарская зашоренность. Потоковая замыленность. Врачебный «фак». И никуда от этого не деться. Теперь – всегда с этим жить. Но не укатывая себя в беспросветное покаяние. Нескончаемое чувство вины неконструктивно. Просто: работа над ошибками. Холодный душ.
Можно выписать себе индульгенцию. Родильница не демонстрировала ни одного из симптомов острого послеродового психоза. Она не была тревожна. Возможно – немного подавлена. Но отсутствие послеродовой эйфории и вызванного гормонами подъёма – не симптом. Особенно если нет мужа. Грусть нивелирует эндорфины. Да и темпераменты у всех разные. Спутанность сознания? Не было. Совершенно адекватно реагировала. Отвечала на вопросы. Вела себя на обходах уместно и разумно. Бессонница? Ну, всю ночь с ней в блатной палате совместного пребывания Оксана не сидела. Мать сейчас на подобные вопросы не отвечает. Вообще ни на какие не отвечает. Ревёт белугой и головой об стены бьётся. Ревела и билась. Анестезиологи мощно седировали. Сейчас несостоявшаяся бабушка и очень под вопросом мать (учитывая состояние её дочери) – в спасительном наркотическом ауте… Да и если была у родильницы бессонница – так одна только бессонница не патогномоничный[13] симптом острого послеродового психоза. Нарушение аппетита? Туда же, к бессоннице. Не интересовалась ты, Оксана Анатольевна, сколько и что жрала родильница. По палате пакеты раскиданы. Кухня исправно поставляет заказанное в контрактном меню. Нет, не получается индульгенцию выписать себе, госпожа Поцелуева. Ты как давно последний раз про сон и аппетит родильниц спрашивала? Беременных – ещё да. А вот после родов… Тем более – после неосложнённых. Так что вздрючь сама себя. После – весь персонал на дыбу вздёрни. И чтобы самый юный интерн, чтобы распоследний студентишка теперь и про сон, и про аппетит как «Отче наш» расспрашивал в утомительных подробностях!.. Никогда не знаешь, что окажется диагностически значимым. Или не окажется. Но не тебе решать. Твоё дело – качественно работать. Ты не имеешь права хоть что-то считать не важным!.. Галлюцинации? Вот этого точно не было. Точно ли? А ты её спрашивала? И как об этом спросишь? Как одногруппник-дуралей когда-то, на цикле психиатрии на четвёртом курсе: «Итак, уважаемый, какая у вас мания?» Ну да, одногруппнику для сбора анамнеза выделили кондового параноидального шизофреника. В светлом промежутке. А он шизофреник только в психушке. «По гражданке» – он доктор математических наук. Так что, будучи в холодном состоянии, он детально расписал одногруппнику и свои мании, и клинические проявления всего спектра шизофренического многообразия. Интересней и доходчивей, чем в учебниках. Но спрашивать у галлюцинирующего, будучи уже и.о. начмеда: «Итак, уважаемая, какие у вас галлюцинации?» – глупо. Потому что для галлюцинирующего его воображение – реальность. Так что следует замечать. Но нечего было замечать за нормально родившей здорового младенца двадцатишестилетней девчонкой! Кроме некоторой общей угнетённости. Вот и надо было на неё внимание обратить! А не гонять по отделению невероятно деловой колбасой, изгибая насмешливо-высокомерно брови в разные стороны по разным поводам! Шапка Мономаха, Оксана Анатольевна, на ушах не висла оттого, что ты тут таким важным гоголем рассекала?.. Но, справедливости ради: никаких бредовых идей в отношении себя и новорождённого родильница не высказывала. Маниакальные проявления отсутствовали. Самооценка была адекватна. Разве можно считать неадекватной самооценкой рефрен: «Мамочка, помоги мне её перепеленать, я боюсь!»? Вот мамочку мамочки можно было признавать неадекватной. Коршуном бросалась, вырывая у единственной – как выяснилось – дочери её новорождённое дитя. А кто видел адекватных бабушек?.. Да и не возникают острые послеродовые психозы так рано! Это не типично! Это – атипично! Ну, четвёртая неделя после родов. Ладно, вторая… Но третий день?! Была не замеченная никем прежде тяжкая психическая патология? Или не тяжкая, но роды сработали как триггер – и добро пожаловать в мир каскадно съезжающей крыши!
Да, сильно ты себя успокоила, Оксана Анатольевна… Пойди к зеркалу, повтори ему вслух: «Ты ни в чём не виновата. Тебе нечего было подмечать, потому что никаких угрожающих звоночков не было!» Помогло? Нет. А что может помочь, если во вверенном тебе учреждении на третьи сутки послеродового периода совершенно здоровая молодая мамочка выбрасывается из окна люкса пятого этажа. С младенцем наперевес. Трёхдневный человечек всмятку. Женщина в реанимации в критическом состоянии.
Грызла себя Поцелуева не слишком долго. Всплакнула в кабинете, а тут и Мальцева приехала. И закрутилось-понеслось. Привели в себя мамашу девчонки, уже, увы, не бабуленьку. Допросили с пристрастием. Насколько это было возможно в данной ситуации. Но Мальцева, и Поцелуева, и реаниматолог были достаточно опытными людьми, чтобы на основании даже скудной информации делать некоторые вменяемые выводы. На родильном доме повис большой косяк. Грозили санкции. И совершенно справедливые.
Но состояние женщины – слава богам реаниматологии! – из критического стало крайне тяжёлым. А в течение суток – и тяжёлым. Забрезжил благоприятный прогноз.