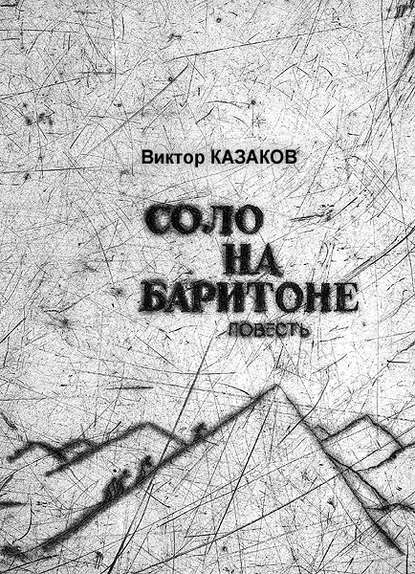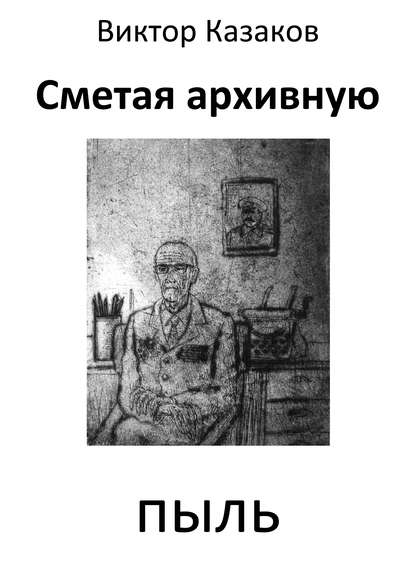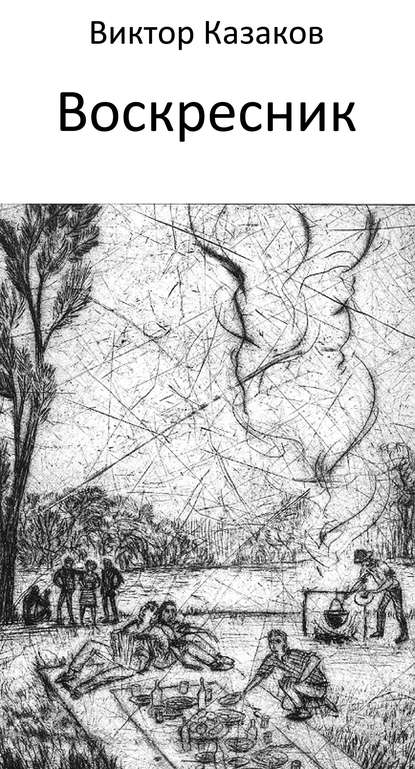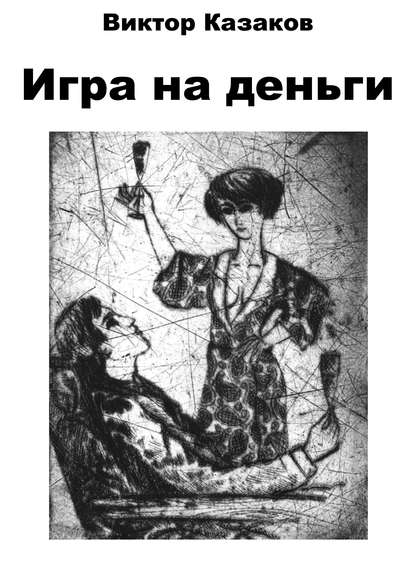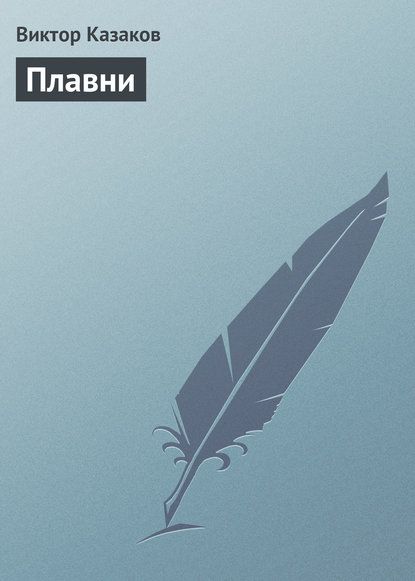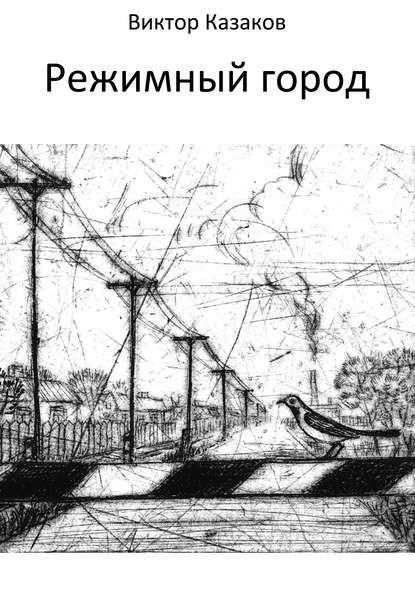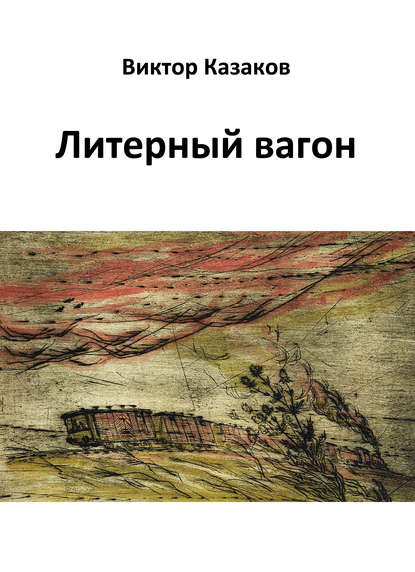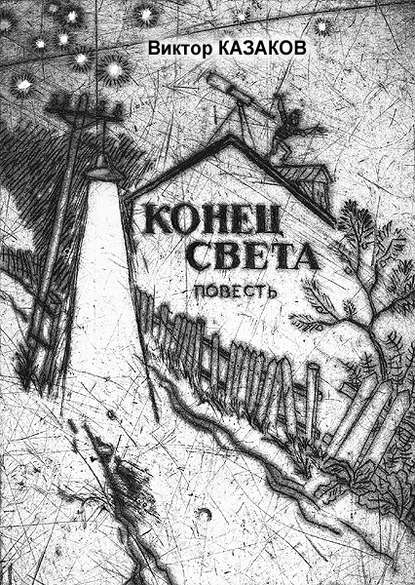
Полная версия
Конец света
Двух официантов, до переезда в Обод живших в горах Армении, Петросян по совету жены выбрал из состава многочисленных родственников Мары. Ребята молодые, красивые, но малограмотные, впрочем, в пределах сумм, потратить которые в ресторане позволяют себе горожане, считать могут. Сам Роберт обучил официантов первоначальным правилам культурного обслуживания клиентов, а «работать так, как работают в ресторанах Монте-Карло, – сказал он им перед первым выходом родственников в зал, – научит вас жизнь – если, конечно, вы, как настоящие армяне, не дураки».
«Монте-Карло» сказано было для красного словца – Петросян в Монако никогда не был, все его личные впечатления о загранице ограничивались увиденным в Монголии, куда он еще в советское время ездил в составе делегации специалистов по первичной обработке кож. Посмотреть на жизнь в Монте-Карло уже много лет было главной мечтой хозяина ресторана «Шумел камыш», впрочем мечта эта в последнее время стала прорисовываться яснее и конкретнее».
Итак, Роберт Егишевич спросил жену Мару:
– Может, Мара, пора переводить деньги в швейцарский банк?
Мара, как всегда в последнее время в разговорах с мужем, возразила:
– А Швейцария что – на другой планете?
– Но там все-таки горы…
– От гор одни дополнительные осколки.
Петросян долго молча глядел на огонь в камине, вспоминал, какой доброй и ласковой была жена в те годы, когда он еще был простым директором кожсырьевого завода, потом тяжело и грустно вздохнул:
– Так что же делать, Мара?
– Ничего! И вообще, – когда у Мары возникало желание уязвить мужа (а подобные желания у нее теперь почему-то появлялись все чаще), она от самого незначительного факта легко переходила к самым широким обобщениям, – чем меньше ты, Роберт, что-нибудь делаешь, тем больше у нас в кассе денег.
Слова были несправедливыми и в другое время стали бы поводом для очередного вялого семейного скандала, но Петросян на этот раз в ответ только надул нижнюю губу и промолчал.
– О душе пора подумать, Мара, – после долгой паузы покачал головой, потом опять тяжело вздохнул вдруг почувствовавший себя утомленным жизнью владелец ресторана «Шумел камыш».
3.А в сорок третьей квартире дома номер шесть по улице Коммунистической, переживая новость, тревожились, как еще недавно пели, «сначала о родине, а потом о себе».
На другое утро после той передачи, плотно позавтракав, выпив за завтраком, как всегда, фронтовые сто грамм, полковник внутренних войск в отставке Борис Григорьевич Луцкер в полной военной форме сидел на стуле перед выключенным телевизором, держал в руках недавно купленную в местном магазине «Новинки современной литературы» книгу Соломона Дрислера «Мат в Вооруженных Силах» и трудный вопрос жены Муси «чем это может закончиться?», оторвавшись от книги, разъяснил коротко:
– Кончится плохо.
Муся представила себе, как «плохо» будет реально выглядеть не только в Ободе, а и в самой Москве на Арбате (жена Луцкера была москвичкой «из очень интеллигентной семьи», как она часто любила напоминать в разговорах со своими ободовскими собеседницами), и, прижав ладони к вдруг сильно запульсировавшим вискам, робко предложила:
– Надо, Боря, писать президенту – что он думает…
Полковник отбросил исследование Дрислера на стоявший рядом с его стулом диван и некрасиво скривил рот, что исказило его мужественный облик:
– Отставить!
И, уже мягче, уточнил мысль:
– Узнаем, что он думает, и что дальше?
– Может, подскажем что-нибудь…
– Подскажи ему, как российских миллиардеров, разворовавших Россию, к ногтю покрепче прилепить! – стальным басом, каким Борис Григорьевич когда-то разъяснял новобранцам краткую суть марксистско-ленинского учения, отрубил полковник.
Муся слова мужа и интонации, с какими они были сказаны, расценила как непозволительную в интеллигентной семье грубость, поэтому на целую минуту рассердилась, поджала губы и, как всегда в таком состоянии, в разговоре с мужем перешла на «вы»:
– Боря, не уходите от темы…
4.Не все в Ободе вовремя осознали степень нависшей над городом опасности. Например, рабочие местного швейного комбината молодожены Коля Топалов и Зина Комчатская, жившие в законном браке в однокомнатной квартире двухэтажного дома по улице Созидателей, о приближающемся к городу космическом обломке размышляли легкомысленно и даже весело – может быть, потому, что к моменту размышлений они уже выпили купленную по дороге с работы бутылку водки и сытно закусили яичницей из шести яиц.
Оба сидели рядом на продавленном, во многих местах вытертом до пружин диване, отдыхали.
– Я лично, Зина, – пуская в потолок густой дым дешевой сигареты, говорил Коля, – прилет «куска» почему-то даже приветствую.
– Да, Коля, чем такая жизнь… И все-таки даже такая жизнь, Коля, лучше, чем в холодную-то землю.
– А земля прогреется, – Коле от придуманной им остроты вдруг захотелось засмеяться, но от дыма сигареты он закашлялся: – «Кусок», к-хе, к-хе, говорят, миллион градусов, к-хе, по Цельсию! Не трусь, Зина! Сбегай лучше в магазин за водкой!..
Оба они, и Коля, и Зина, недавно посетили кабинет секретаря городского комитета партии коммунистов Сидора Захаровича Зуева, которому радостно сообщили, что они, наконец, созрели для вступления в партию, «которая, напомнила секретарю Зина, есть ум, честь…» и т. д. Секретарь, однако, в искренность и зрелость молодоженов не поверил, заявления принять отказался, а на просьбу Зины «объяснить мотивы», объяснил:
– Мне не внушает доверие ваш моральный облик.
И Сидор Захарович был, похоже, прав.
Самого Зуева сообщение о «куске» очень взволновало. Выслушав телевизионное известие, секретарь ощутил в груди опасно ускорившееся сердцебиение и холодок под ложечкой, в результате чего он даже на всякий случай перекрестился. Но («нет худа без добра!», – любил Сидор Захарович при случае черпать мудрость у народа) информация оказалась и полезной, потому что помогла секретарю в одном срочном и важном партийном деле. В тот вечер Зуев, сидя дома, долго не мог придумать повестку дня очередного городского собрания единомышленников, сердился на себя и вздыхал о прошлом: «Легко было раньше: «Решение обкома от … и наши задачи»; «Указания ЦК по поводу … и наши задачи»… А сейчас? Крути мозги…». Информация о возможной космической агрессии подсказала секретарю долго не приходившую в голову формулировку: «Сообщение центрального телевидения от … и наши задачи». На проект постановления времени ушло меньше: сначала Сидор Захарович машинально написал «одобрить», тут же, конечно, зачеркнул, как зачеркнул и компромиссное «принять к сведению»; наконец, опробовав десяток других вариантов, нашел формулировку краткую и полезную: «Ускоренными темпами заплатить членские взносы».
5.Из квартир ободовцев перенесемся, читатель, на городской рынок, где у Степы Замойского стоит собственная будка – в дни перестройки на собранные к тому времени деньги (пришлось еще продать мотоцикл «Восход» и одолжить у тещи тысячу рублей) Степа купил у государства ставший государству ненужным газетный киоск. Конечно, новый владелец будки не собирался торговать в ней ни коммунистической, ни патриотической, ни демократической прессой. На другой день после покупки он молотком и зубилом лихо сбил заржавевшую надпись «Союзпечать» и тем же молотком длинными гвоздями над большим окном прибил новую вывеску: «Продается ВСЁ». Когда горожане интересовались у Степы, не слишком ли он загнул с содержанием вывески (некоторые ободовцы даже спрашивали, не вложил ли он в содержание внутриполитический смысл), Степа с уже появившимся в нем к этому времени нахальством уверенно объяснял: «В моей торговой точке есть всё, чтобы удовлетворить ваши любые ограниченные потребности». И говорил правду: не случилось еще, чтобы кто-то из жителей города не нашел бы в киоске то, что вдруг потребовалось купить; в любое время суток у Степиной жены Мани можно было приобрести любую водку, любые вина – даже южноафриканские, хлеб, пирожки, пельмени, соленую капусту, маринованные огурцы, а также промтовары: гвозди, напильники, бритвы, джинсы, куртки, штопоры трех модификаций для открывания бутылок, лыжи, заготовки для ключей…
Лавка приносила скромную, но стабильную прибыль (осваивая язык новых русских, Замойский в разговоре с женой остававшиеся в кассе деньги называл «наваром») – несмотря на то, что некоторую часть выручки Степа отдавал двум рэкетирам – бывшим чемпионам города по боксу.
…На другой день после телевизионного сообщения о возможной встрече Земли с «куском» из космоса Степа досрочно снял с работы Маню, на большое окно повесил стальные решетки и закрыл будку на длинный обеденный перерыв, во время которого решил вместе со своим другом грузчиком овощного магазина Кешей Плаксиным подлечить водкой вдруг сильно расшалившиеся нервы и обсудить ситуацию.
Кеша пришел вовремя.
Сели напротив друг друга на две низкие скамейки; между скамейками уже стояла застеленная газетой табуретка, на которой лежал большой ломоть хлеба и стояли блюдце с огурцами, бутылка водки, два граненых стаканчика и открытая банка жирной свиной тушенки. Из банки торчали две легкие алюминиевые вилки.
Степа невысоко над головой поднял стаканчик, гость его поступил так же, и оба в один миг молча опрокинули стаканчики в рот.
Проглотив водку, Степа недовольно поморщился:
– Странная закономерность: жизнь в государстве начинает портиться с водки.
На душе у Степы было мерзко; тяжелые предчувствия со вчерашнего вечера беспокоили сердце. Степе хотелось пожаловаться на нелегкую, непонятно еще, чем вот-вот готовую обернуться жизнь, и только гордость не позволяла ему делать это торопливо, в самом начале сегодняшней встречи с другом.
– Водка не портится, – пожав плечами, возразил нечуткий Кеша.
Степа рассердился:
– Дурак ты, Кеша. Помнишь, когда-то продавали «столичную», «сучек», «коленвал», «андроповку» – и все по разной цене. А почему? Ты думал об этом?
– Думал, – примирительно ответил Кеша и сказал неправду: он не различал водку по вкусовым признакам, любил пить любую, а от той, что драла горло, ему даже быстрее становилось интереснее и веселее жить.
Выпили по второму стаканчику.
Поставив свой стаканчик на газету, Степа, наконец, потупил взгляд в дальний угол будки, где стояла бочка соленой капусты, и заговорил о главном:
– Слышал вчера?
– Слышал.
– Неужели правда: п….ц всем? – Степа не дал другу времени, чтобы ответить, и, все больше распаляясь обидой по поводу грядущей из космоса несправедливости, в сердцах продолжал:
– Значит так: мало нам революций, коллективизаций, войн, голода-холода, «гекачепе», шоковой терапии… Мы еще должны увидеть, когда всем п….ц? Чтобы на другой день на том Свете рассказывать: интересно было, товарищи и господа; кроме нас, такого еще никто не видел даже в японской Хиросиме!
– Погибнут культурные ценности, – вздохнув, заметил Кеша.
Он уже слегка захмелел, а в таком состоянии Кеша начинал мыслить масштабно.
Степа же, захмелев, напротив, начинал думать узко и эгоистично:
– Значит, все, для чего я карачился, все это теперь куда? Коту под хвост? Негру в жопу? И ничего уже нельзя предотвратить? – он в упор сердито посмотрел на друга, как будто Кеша, а не кусок агрессивной планеты угрожал в ту минуту Степиному благополучию.
Кеша посчитал минуту подходящей, чтобы тоже поделиться наболевшим.
– Если бы ты, Степа, – сказал он, – добавил тогда к моему первоначальному капиталу некоторую сумму…
– И что было бы? – перебил Степа.
Кеша вздохнул, поднял глаза к потолку будки, внимательно осмотрел на потолке все неровности и только после этого ответил – сказал совсем не то, что собирался сказать:
– Было бы у нас с тобой, может, совместное предприятие.
Степа снисходительно посмотрел на друга, а Кеша мстительно продолжал:
– Конечно, вам, олигархам, тяжелее всех придется…
Он завидовал Степиному богатству, а чтобы успокоить совесть, с некоторых пор стал убеждать себя, что Степа разбогател не по правилам, а потому было бы справедливо, если бы он любую половину нажитого добра отдал ему, своему лучшему другу.
Степа уловил в душе Кеши шевеление злого червя и в отместку больно щелкнул собеседника по носу:
– Я тебе, Кеша, денег и тогда не дал, и сроду не дам. Разве что на опохмелку – чтоб долго не мучился.
– Почему?
– Бесполезно. Деньги ты умеешь только тратить, а зарабатывать можешь одним способом.
Как ни сердит был в ту минуту Степа, он вдруг улыбнулся, потому что вспомнил про Кешин «первоначальный капитал», к которому он «тогда», несмотря на отчаянные просьбы друга, действительно, ни копейки не добавил.
Кеша сочетал в себе два взаимно уничтожающихся свойства: он любил деньги и любил выпить. Поэтому денег у него никогда не было, а неудовлетворенная любовь к ним оборачивалась завистью к тем, кто угощал его водкой и при этом, как бы крепко ни угощал, еще и на будущее сохранял в кошельке некоторую сумму. Зависть, конечно, больно жгла душу грузчика овощного магазина, но жила в нем, так сказать, подпольно, на людях была смиренной и неагрессивной – Кеша боялся, что, распахни он до конца душу, благодетели перестанут его угощать…
Но однажды у Плаксина появились и на некоторое время сохранились собственные деньги – Кеша честно заработал (правда, нетрадиционным способом, о котором сейчас ему и напомнил Степа) приличную для него сумму.
Дело было несколько лет назад. На берегу небольшой речушки, спрятанной посреди густого ельника (в двадцати километрах от Обода), сидели с удочками человек восемь ободовцев, среди которых были и Степа Замойский, и Кеша Плаксин. Окуни и подлещики, водившиеся в речушке, к обеду клевать перестали, сидеть без дела стало скучно, и компания собралась пообедать – в рюкзаках еще оставались несколько бутылок водки и кое-какая снедь. Устроились в тени старой ели, в нескольких метрах от большого муравейника.
И во время того обеда одному из рыбаков пришла в голову и тотчас же была озвучена шаловливая идея:
– Кто без штанов сядет вот на этот муравейник и просидит там пятнадцать минут, получит ведро самогонки!
Идею со всех сторон заинтересованно обсудили и единогласно одобрили; потом все почему-то стали внимательно глядеть на Кешу Плаксина.
Кеша вызов принял, только предварительно решил уточнить:
– Голой жопой?
– Абсолютно!
Кеша в обусловленном виде на большом муравейнике честно отсидел пятнадцать минут, после чего, надевая штаны, обратился к коллективу с неожиданным вопросом:
– А можно мне самогонку получить… деньгами?
Сидя на муравейнике, Кеша, вероятно, решил не делиться нелегко заработанным напитком с собутыльниками (а делиться пришлось бы – таков был для таких случаев давно установленный в Ободе неписаный закон), а главное, там, на муравьиной куче, видимо, под влиянием сильных ощущений ему вдруг захотелось начать новую жизнь, для которой нужны были деньги – хотя бы столько, сколько стоило в городе ведро самогонки.
За проявленное Кешей мужество компания согласилась заплатить деньгами, договор выполнила, и у Кеши впервые в жизни появились в кармане несколько крупных ассигнаций, которые он гордо стал именовать «первоначальным капиталом», ибо в мыслях уже видел себя средней руки капиталистом.
Получив деньгами, Кеша хотел взять в аренду торговое место в городском гастрономе – отдавали четыре квадратных метра, – чтобы продавать там… он так и не успел сообразить, что будет продавать на тех метрах, потому что гастроном вдруг затребовал денег больше «первоначального капитала», а добавить недостающую часть лучший друг Кеши Степа Замойский отказался.
Кеша заметно захмелел.
– Деньги я заработаю в лотерею, – мечтательно сказал он, опять устремив взгляд в низкий фанерный потолок будки.
– Лотерея – налог на дураков. Да и билеты там не бесплатные. Ты купил билеты?
– Купил… Один.
Выпили еще по порции.
Степа хотел быстрее опьянеть, надеялся, что, пережив встряску алкоголем, он потом осилит и угнетавшее его состояние депрессии. Но водка почему-то не брала. Друзья сняли с полки и почти опорожнили уже третью бутылку, а голова у Степы, как назло, с каждой минутой работала все яснее.
– Мы с тобой, Кеша, дураки. Думаем, говорим о деньгах, а в это время в космосе…
Кеша тоже вспомнил, что жить им, наверно, осталось недолго, но он, в отличие от Степы, был уже хорош и потому сплетал языком что попало.
– Лев Николаевич Толстой, Степа, намекал…
В трезвом состоянии Кеша никогда не думал о знаменитых предшественниках, но, захмелев, на задворках своего мозга к собственному удивлению вдруг начинал улавливать когда-то слышанные в школе имена и даже некоторые цитаты. Когда он внезапным озарением вслух начинал делиться с теми, кто в это время был с ним рядом, он никогда не употреблял слов «писатель рассказывает», «рисует», «изображает», «учит», все эти слова заменял одним словом – «намекает».
Степа, не выслушав мысль Льва Николаевича в интерпретации Кеши, перебил друга:
– А вот известный тебе Николай Островский, он же Павка Корчагин, в свое время «намекал»: жизнь человеку дается один раз…
Кеша замолк; через некоторое время он уже пел, фальшивя, популярную песню о том, как он любит жизнь и хотел бы надеяться на ее взаимность.
Степа тоже стал думать о жизни. Перебирая в памяти пятьдесят шесть прожитых лет («а продолжения, возможно, уже и не будет»), он честно признавался себе, что жизнь свою он потратил зря и был на этом свете несчастливым и лишним…
Уже в детстве ему хотелось стать богатым, хотя он тогда и не понимал, зачем это надо. В детсадике из двух конфет, которые детям полагались на ужин, он одну конфетку прятал в штаны, потом выменивал за нее серебряную двадцатикопеечную монетку, которую прятал уже глубже – в маленький кармашек трусов. Капиталиста из Степы в те годы не получилось: накопленные мучительной экономией монеты (маленький Степа, как на зло, любил сладкое) однажды во время послеобеденного «мертвого часа» исчезли вместе с трусами… Школьником он накопил монеток уже целую банку из-под майонеза, хранил их в земле возле дома, но и этот капитал Степа не устерег от зорких глаз соседей… К тому времени, когда Замойский уже работал токарем ремонтного цеха на местном заводе железобетонных изделий, он твердо знал, что экономия – пустой способ разбогатеть; богатым можно стать тремя путями: деньги надо или украсть, или отобрать, или заработать. Легче всего, конечно, было украсть, но Степа самокритично сознавал: для того, чтобы не попасться, у него пока мало ума; второй путь тоже не подходил – вырос Степа узкоплечим, несильным недомерком. Оставался третий, самый трудный, способ, и Степа стал думать, как на своем стареньком станке выточить деталей больше, чем полагалось по норме. И однажды за месяц он получил из кассы не сто восемьдесят рублей, а – согласно выработке – на пятьдесят рублей больше. При этом Степа еще не раскрыл всех придуманных им производственных секретов, что вдохновило его на очередном производственном собрании нагло заявить сидевшему в президиуме директору завода Мыслюкову (нынешнему мэру Обода):
– Я, Петр Иванович, взял социалистическое обязательство каждый месяц зарабатывать денег не меньше, чем получаете вы.
Это была Степина ошибка. На другой день после совещания в ремонтный цех пришел нормировщик из отдела труда, с секундомером в руке повертелся вокруг станка Степы, и после этого норма у токаря повысилась ровно настолько, чтобы, несмотря на все придуманные им секреты, он опять за месяц получал, как и раньше, только 180 рублей. Степа на самоуправство нормировщика пожаловался директору, а в ответ услышал: «Мы не можем позволить предприятию перерасход фонда заработной платы». Выйдя из кабинета Мыслюкова, Степа плюнул на директорский порог и в тот же день украл на заводе небольшой ящик гвоздей.
Когда вечером, растревоженная недобрыми предчувствиями, в будку пришла Маня (она открыла запертую дверь своим ключом), муж ее Степа, положив голову на табуретку, одним глазом слушал исповедальную речь друга Кеши:
– Понимаешь, Степа, лезу в погреб, вижу – некоторые клубни картошки почти сгнили. Ну, я их, чтоб не догнили, беру, варю. Через несколько дней лезу в погреб и вижу новые подгнившие клубни. Тоже спасаю. И так всю зиму ем гнилую картошку…
Маня напоила обоих капустным рассолом, а недопитую бутылку водки с табуретки убрала.
6.В разноцветной гамме чувств, которые испытал город в те тревожные дни, были разные оттенки и нюансы. Мужественнее всех телевизионную новость воспринял учитель физкультуры школы номер два Саня Папиров, объяснивший свое мужество, как он любил теперь часто повторять, «перманентной позицией»:
– Телевидение всегда врет.
А кассир городской жилищно-коммунальной конторы верующий Поддубин, человек неулыбчивый и желчный, назвал новость даже «благостной» (некоторые ободовцы объяснили это так: «Ему хорошо, он, как верующий, после катастрофы попадет в рай»). На вопрос горожан – тех, что подходили к окошку кассы осуществлять коммунальные платежи, – не знает ли он, почему возник обещающий конец Света природный катаклизм, кассир охотно откладывал лежавшие перед ним бумаги и заинтересованно отвечал:
– Потому что, господа, Богу надоели ваши глупости – коммунизм, госплан, госснаб, мировая революция, руководящая роль партии…
– Так вроде уже нет ни госплана, ни госснаба, ни руководящей роли, – неуверенно возражали «господа», – а «кусок» летит.
– Надо, – туманно разъяснял Поддубин, – чтобы прошла эпоха наказания, потом последуют эпохи покаяния и очищения.
– А за это время «кусок»…
– А как вы хотели?! – вдруг взрывался бухгалтер, – семьдесят лет поклонялись Дьяволу и думали, что это вам так пройдет?
Жители Обода пугались еще сильнее, чем были напуганы до этого разговора через окошко, и не замечали некоторых логических неувязок в пророческих словах Поддубина.

Глава третья
Грех и воздаяние
1.Возвратимся (ненадолго, читатель) к первому дню нашего рассказа, когда все еще было, как всегда.
…Все реже постукивали в окно капли в середине дня вдруг обрушившегося на город, но к вечеру почти исчерпавшего себя весеннего дождя. Через открытую форточку в комнату, где за письменным столом продолжал работать уже знакомый нам ободовский «летописец», вливался свежий прохладный воздух, пахший где-то недалеко расцветшей сиренью. Тяжелая мраморная лампа с зеленым абажуром ярким пятном освещала письменный стол, стопку белой бумаги, лежавшей с левой стороны стола, и низко склоненную над рукописью фигуру человека…
Чуть стемнело, когда на скамейку, стоявшую на улице почти прямо под балконом грушинской квартиры, села и весело защебетала кучка молодых людей. Минуту похихикав, они вдруг – один из парней в это время громко застучал сразу по всем струнам гитары – стали дергаться подбородками и руками-ногами и запели. Во всю мощь половозрелых глоток повторяли: «Ты меня встретил и, ты меня встретил и…». Оторвавшись от рукописи, Павел Петрович стал прислушиваться к словам и старался уловить смысл песни, но через минуту рассердился на себя за это глупое занятие, подумал: «Когда-то поэты писали стихи к песням, потом слова к песням; сейчас дело дошло, кажется, до надписей на заборах»… Невольно слушая все более раздражавший его концерт, летописец сел в кресло у открытого окошка и стал думать о том, откуда пришла, заполонила все клубы, эстрадные площадки, порой даже целые стадионы эта, похожая на наркотическую, дурь. И неожиданно пришел к выводу (Грушин принадлежал к тому типу людей, которые даже в размышлениях о пустяках непременно стремятся придти к выводу): возникновение попсы было объективно неизбежным.
«В последние десятилетия в мире нарушилась стабильность жизни, во взаимоотношениях людей, наций, государств заметно усилилась агрессивность: все чаще на «шарике» стреляют, насилуют, убивают, терроризируют – «шарик» делает некий недобрый зигзаг, смысл и целесообразность которого объяснят, может быть, будущие поколения… Произведения нынешней «музыкальной» эстрады – в диких звуках, примитивности смысла, непристойных кривляньях, – не так простодушны, как может показаться: они наполнены энергией агрессии, воспитывают жестокость, в помощь и оправдание этой жестокости призваны ослабить человеческое в людях… Попса неизбежно должна была возникнуть в современной мире, она – индикатор, предупреждающий: в «королевстве», господа, не все в порядке»…
Павел Петрович вздохнул, посмотрел на часы, потом откинулся на спинку кресла и с помощью дистанционного пульта включил стоявший в ближнем углу телевизор «Панасоник». И среди передававшихся в ту минуту вечерних новостей услышал сообщение о приближающейся к Земле космической катастрофе. Чтобы узнать, что думает по этому поводу цивилизованная Европа, он переключился на канал «Евроньюс», прослушал всю получасовую программу, но зарубежье об открытии ученого молчало – или ничего о нем пока не знало, или, втайне вынашивая очередной коварный замысел, умышленно скрывало новость.