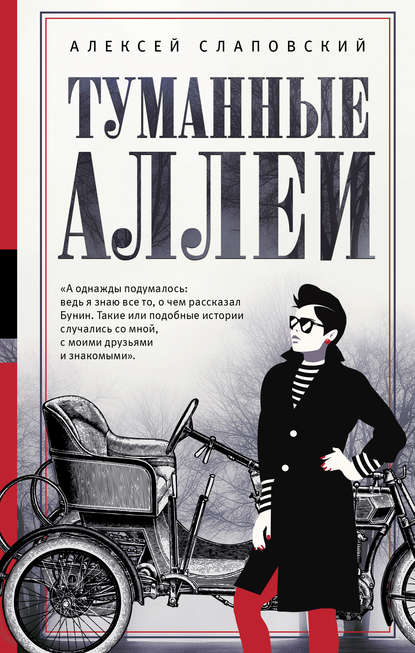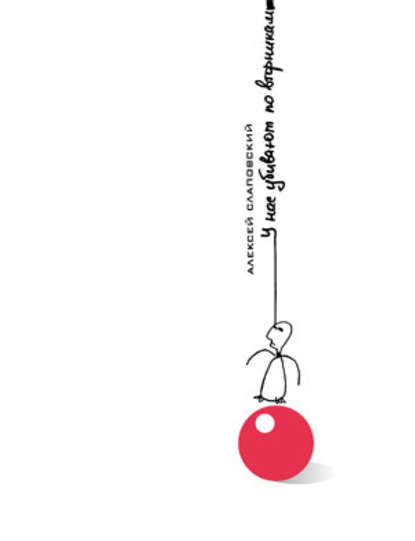Полная версия
Неизвестность
Екатерина и Ксения говорили мне, что ты Представитель и езжай в Акулиновку, пусть они тебе помогут. Я поехал. Акулиновка, хоть всегда была больше и богаче, оказалась в плачущем состоянии. Там всегда то войска, то еще кто, а мы на отшибе. А у них побрали все, ничего не оставили. Даже стало неизвестно, какая власть. Я спросил у старого человека, кто здесь, а он сказал, что никого нет, кроме людей.
Еще там были откуда-то пришлые голодные. Они пришли, чтобы найти пищу, а тут ее тоже нет, а дальше они идти не могли и помирали. Мне рассказали, что их подбирали лежачих, но еще недоумерших, и ели. Я не буду врать, я сам этого не видел. Но я видел, как они помирают, а чтобы совсем мертвых, я не видел. Сам собой возникает вопрос, куда они деваются.
Я вернулся пустой, только по дороге нашел литовку без ручки. Нужная вещь, а кто-то бросил. Я ее взял и радовался, а потом смотрю на нее и плачу, зачем ты мне, если косить нечего.
К теперешней поре, к Рождеству, у нас получился результат. Еле живы, и чем будем жить, непонятно. Екатерина и Ксения совсем осатанели и требуют от меня неизвестно чего, что я должен кормить детей. Я им сказал, что берите все, что есть, а у меня грудей нету, чем я вам должен их кормить. Они сказали на Сергея Калмыкова, что он где-то достает. Калмыков куда-то уезжает, а потом приезжает. Что привозит, никто не знает, он поставил высокий забор, каких у нас не ставят. Я стукнулся один раз, но Дарья меня шугнула, что нечего ходить, у меня самой двое детей и глодаем одну корку на всю семью. Я сказал, богато живешь, сестрица, если у вас корки есть, а у нас коркам не с чего образовываться, хлеба уже давно не видим. Она в ответ промолчала.
Иван Большой опять куда-то пропал. Им тоже ненамного лучше нашего.
Мне очень нехорошо в душе. Мы все стали хмурые. Дети отощали, и друг за другом смотрят, кто куда пошел. Думают, что там пища. По теплу ходили и рыли корешки. Я и сам не чуждался. Хороший корень, к примеру, у лопуха, сытный, я его маленьким ел и без голода, а для детского интереса. Теперь все пошло в ход.
На меня перед Рождеством опять напала равнодушия. Лежу на сеннике и ничего мне не надо. Но мама приносила мне лепешки из чего-то. Горячие. Их горячими можно есть, а когда остынут, то как камень, не угрызешь, убить ими можно. Я говорю, мама, из чего эти лепешки. Она говорит, что грех спрашивать, ешь и молчи. Всех накормила, и ты тоже ешь. Но тут пришла Ксения и увидела, что я ем, и как закричит, что я тут жирую, а у детей животы к хребту прилипли, а у нее женские не приходят второй месяц. Не стыдно ей было кричать такие вещи. Мама ей сказала, что детей жалко, если помрут, но если помрет Николай, то он у нас один мужик, тогда помрут все. Так они кричали, а я не знал, что мама только мне пекла эти лепешки. Она их пекла где-то, а не дома, чтобы не видели. Я пошел и понес детям. Схватили, чуть руку не оторвали. Я смотрю и думаю, нам пришел конец.
Но потом подумал, что, если Бог меня не убил раньше, хотя мог не одно кратно, то, может, и теперь помилует. Сколько раз я ложился на ночь и думал, что ночью помру, но не помирал. А утром лежишь и думаешь, что уже не встанешь, но помаленьку, смотришь, встал и пошел. Я стал даже веселый, что у меня такие мысли. Достал бумагу, развел чернило, и вот уже какой день пишу. У меня в начале значится 25, а уже 29 на дворе, у меня чисельник на это указывает. Он старый, за 1913 год, отец привозил с ярмарки, с тех пор и пользуемся. Листы не отрываем, а переворачиваем. Год кончится, начинаем наново.
И вот я пишу и заканчиваю. И мне приятно, что сохранил свою традицыю. Но что будет на другой год, я не знаю. Может, писать будет некому. Там посмотрим.
Записи без даты[6]
Смирнов Семен Николаевич, Царство Небесное, 1920–1922. 17 Февраля. От живота.
Смирнова Анна Федоровна, Царство Небесное. На Пасху. 1865–1922. Или 1864. Или, наоборот, 1866. Узнать в Церквы.
Смирнова Большая по мужу Елизавета Тимофеевна. Царство Небесное. 1900–1922.
Смирнов Петр Николаевич, Царство Небесное. 1919–1922.
Смирнова Мария Николаевна, Царство Небесное. 1919–1922.
Смирнова Каплюжная Ксения Васильевна, неизвестно–1922. Царство Небесное.
Смирнова Екатерина Захаровна. 1897–1922. Царство Небесное.
Смирнов Николай Тимофеевич. 1894–1922. Царство Небесное.
29 декабря 1923 года
Я почти что полтора года не смотрел эту тетрадь. Сейчас смотрю, плачу и рыдаю. Получилась тут целая кладбища. Себя тоже записал. Думал, умру, а записать будет некому, вот и записал. А остался живой.
Когда у меня все померли, пришел Калмыков Сергей и сказал, что дурак ты дурак, забей корову, проживешь. У меня от всего хозяйства оставалась корова. Я, было дело, хотел ее забить, но мама тогда была живая, она встала на коленях и кричала, что лучше убить ее, чем корову. Что без коровы всем смерть, придет весна пахать, а пахать не на чем. И молоко у ней было, хоть мало. Так она и осталась. Во многих дворах у нас так было. Мелкий животный скот подъели вчистую, а также собак и кошек. Ели кое-кто даже глину, у нас глина белая, как мука, если ее сухую растереть. На нее так и пробивает аппетит у голодного человека. А крупный рогатый скот не трогали до крайнего случая. Чтобы сеять, хотя сеять было нечего. Вот и мы тоже помирали, а на корову даже не думали, будто она и не еда. А потом я еле волок ноги и уже не хотел есть и ничего совсем не хотел. И вот Калмыков говорит, что забей корову. Я сказал, Сергей, я ее не могу забить, у меня не осталось сил. Тогда я забью. Половину мне за работу, половину тебе. Я сказал, что мясу не могу есть, возьми ее всю, а мне дай пшена. Он дал мне пшена, и я ел помаленьку. Много нельзя, помрешь от быстрой сытости.
Потом я пошел в Акулиновку. То иду, то лежу. Был случай, что надо мной оказался Иван Большой на коне. Спросил, чего лежишь. А я на него обиженный и стал его ругать. Но он тоже стал меня ругать и сказал, подыхай. Но у меня был мешочек с пшеном, я потихоньку ел и шел.
Я пришел в Акулиновку, а туда вернулась откуда-то Ольга с младенцем. Мальчик, звать Владимир. Она сказала, что младенец моих кровей, что Савочкин окончательно погиб, а она чуть не померла вместе с ребенком, а теперь едет к родителям в город Покровск. Что там теперь столица немецкой трудкомуны. Оттуда к ней приезжал свояк, муж сестры, привез продукты и просьбу родителей, чтобы вернулась.
Мы поехали в Покровск. Тут я узнал и удивился, что Ольга из немцов. Выучилась на русскую учительшу, но сама из настоящих немцов. И зовут ее чудно – Олка, но она переименовалась сама в Ольгу. А сестра – Имма. Ее отец и мама говорили двояко, по-немецки и по-русски. Отец Берн Адамович и мама Мария Фридриховна. Фамилия Штильман. Берн Адамович, когда узнал мою фамилию Смирнов, смеялся, что мы однофамильцы, потому что он тоже Смирнов, но по-немецки.
Они нас приняли, но потом Ольга сказала, что мы не можем жить вместе с ними. Она и вправду то и дело ругалась с отцом, что она хочет своей жизни и свободы, а он запрещает. Берн Адамович тоже кричал. А мать им говорила, чтобы хватит, но они не слушали.
Нам сняли две комнаты в доме со своим двором.
Я подкормился, и Берн Адамович взял меня работать.
Его как раз поставили начальством на станции Покровск. Там грузят вагоны до станции Анисовка, а оттуда идет паром на другую сторону Волги, к Саратову.
Там склады и пагаузы.
Он назначил меня на холодильный пагауз с подвалом. Я пошел туда, а там нет ключей. Сказали, что был заведывающий Куприянов, ключи у него. Я послал искать Куприянова. Пошли искать, пришли и сказали, что он умер почти что неделю назад. Но принесли ключи. Я открыл пагауз, а там горы курей, уток и гусей, все тухлое, воняет, нельзя войти. Это собрали продразверсткой, но еще не вывезли. Вот оно и стухло. Приехал с обозом Горшков, я его узнал, а он меня нет. Я сильно исхудал с голоду. Он кричал, ты сгнил мне все мясо для трудящих и пролетариата, тебе будет Трибунал. Я сказал, что сам тут только что, но он ничего не слушал. Пришел Берн Адамович и тоже ему все объяснял. Горшков согласился, что это текущий момент, взял обоз и поехал обратно на продразверстку. А мы два дня вычищали пагауз. Отвезли на могильник, свалили. Приехали вторым разом, ничего нет, все растащили. Тогда закопали, что привезли. Приехали, все раскопано, опять все растащили. Тогда поставили часового. И опять закопали. Приехали еще раз, опять все раскопано и растащили, а часовой лежит избитый. У него отняли винтовку, а стрелять в людей он побоялся, совсем молодой. Его отдали под Трибунал.
Так мы жили всю осень и всю зиму. Ольга опять пошла учительницей в школу. Еще она устроила театр спектаклей. Они играли представления по теме Революции. Я не видел, мне было некогда, то работал, то сидел с Вовой. Там был у них кто-то, она про него рассказывала, что зовут Шлёма и очень художественный человек. Что он ее считает, что она актриса, и зовет в Москву. И она все с этого смеялась. Я думал, что шутка.
Но она уехала в Москву. Я хотел нанять Вове няню, но его пришли и взяли Штильманы. У них Имма с двоими детьми, где два, там третий. И Мария Фридриховна помогала, спасибо.
А мне дали ордер на жилье в каменном доме с отдельной дверью. Одна комната больше, чем была вся наша изба. Вот тут мы теперь и живем. Мне дали эту комнату от депо мастерских. Меня перевели туда с пагаузов на учет ремонта состава. Депо большое, и не было Секретаря большевицкой ячейки. Мне сказали, ты был красноармеец и передовой товарищ, становись секретарем. Спросили, ты же в партии? Я сказал, что да, потому что сначала не понял, а я был в партии есеров, хоть без документов. Они спросили про партию, я говорю, что да. Вышла недоразумения. Я сказал, что у меня на фронтах войны пропали документы. Мне выписали новые, спросили, с какого года сташ, я сказал не помню, они сказали, напишем с 17-го, нам не жалко. И я получился старый большевик.
Я стал Секретарем ячейки депо. Но работаю по делу учета. У меня кабинет со стеклом. Сижу там, весь всем видный, хотя не очень видать, стекло быстро грязнится, а мыть некогда.
На День рождение Вовы я был у Штильманов, чтобы спраздновать. Там была сестра мужа Иммы, тоже немка, назвалась Валя. На самом деле вот я сейчас взял ее личное удостоверение, чтобы правильно списать, правильное имя Вальтрауд. Вальтрауд Генриховна Смирнова (по родителям Кессених). Она теперь Смирнова, потому что мы с ней в ноябре зарегистрировались.
Это вышло благодаря моей заслуги, что я себя показал вежливо и почти что культурно. Мы сели рядом, стали кушать. Я помнил науку Мухортнева Ильи Романовича, Царство ему Небесное, что, к примеру, кусок мяса не надо обгрызать с кости, как собака, а обрезать. Я попросил Валю мне обрезать, будто мне из-за одной руки трудно. Она порезала, и я стал вежливо кушать. Ей понравилось. Я ей говорил про задачи и Революцию, она мне тоже, потому что была комсомол. Говорила про Германскую Революцию. Я удивился, что там была Революция, они же империалисты. Она объяснила, что не все, а тоже есть пролетариат. Мы поздравляли Вову, а она его брала на руки. Я вспомнил Екатерину и Ксению, про которых давно не вспоминал, про наших с ними детей, стало их жаль, что умерли, и заплакал. Валя смотрит на меня и тоже плачет, что я плачу.
С этого у нас и пошло, что стали встречаться. Ольги все равно нет и неизвестно, да я с ней и не зарегистрированный, а тут такое дело. Валя мне объясняла разные книги, которые я раньше не понимал. Оно и сейчас не совсем понятно, но уже лучше. Уже я понимаю про эксплоатацию, что когда один богатый, а другой под ним, то это неправильно. И классовая борьба. И что, если общее добро, то никто никому не рвет горло. Потому что не за что.
Один раз вечером она мне про это говорила, когда зашла ко мне и мы разговаривали. Она вся стала румяная и красивая. Она волновалась из-за идеи, а я волновался из-за нее. У меня не хватило терпения, я схватил ее за руки и что-то сказал. Она сказала, что, хоть в комсомоле говорят про свободу половой жизни, и ее даже секретарь за это упрекал, что она ему не отдается, но она уважает своих родителей, а они хоть тоже за свободу и половую жизнь, но через замуж.
Мы познакомились с ее родителями. Им не понравилось, что у меня нет руки, мама ее вся испугалась и стала бледная. Но помаленьку сговорились за счет моей культурной вежливости. И благословили, и мы зарегистрировались.
Взяли Вову, она с ним относится, как с родным.
Она уважает, что я пишу, просит почитать, но мне совестно. Говорю, что тут личные события моей жизни, как-нибудь потом. А то будет с меня смеяться, хотя мне и нравится, что она все время смеется. У нее белые зубы, приятно смотреть. А у меня дыра во рту без трех зубов еще с Германского фронту. Она смеялась, что меня смешно цаловать, что у ней язык мне в зубы проваливается. Как она цалует, это особая история. А ведь никто не учил, я ее девушкой взял. Никто так не умел, как она. Мне раньше было все равно, сколько зубов, лишь бы жевать. А тут стало как-то неудобно. Пошел и поставил железные зубы. Теперь хорошо.
7 января 1925 года
Прошлый год начался тяжело, схоронили Ленина. И болел Вова. Но выздоровел. Потом еще два раза болел в году, но уже не так. А первый раз боялись, что помрет, не спали по очереди. Но обошлось, слава богу.
У нас открыли рабфак, там я учусь, когда есть время, а Валя там учительница.
В семье Штильманов тоже все женщины учительницы. И Ольга была тоже учительница, которая где-то в Москве. И Имма работает в школе. И Мария Фридриховна учит дома музыке.
А я учусь на рабфаке. Меня учит собственная жена, нам это смешно, но весело.
У нас уже год как Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья. Хотя немцы в Покровске не все. Их даже мало. Больше русские. А еще хохлы, татаре, евреи. Много разных. Но Председатели ЦИКА и Совнаркома немцы. Шваб и Курц.
С Швабом Иваном Федоровичем, который на самом деле Иоган Фридрихович, но переименовался для простоты, мы познакомились через то, что он в родственниках у родителей Вали. Интересный человек. В 20-м году его арестовала ЧК за плохую продработу, что он защищал крестьян, но освободили и сделали самого начальником областного ЧК. А теперь вот Председатель ЦИКА. Он сам из крестьян, но много учился. Он мне сказал, что у тебя, Николай, хорошая голова, учись, далеко пойдешь.
Мне тяжело, но нравится.
Я оказался по категории малограмотный, но лучше всех пишу. И даже помогаю, кто плохо пишет, у меня спрашивают и уважают.
Я учу еще устройства паровозов. Сначала ничего не понимал, где там шпинтон, а где золотник, что я сейчас, конечно, шучу, потому что знаю, а сначала ничего не разбирал, даже болела голова от сложности. Теперь все знаю и даже удивляюсь, если кто не знает.
Мы с Валей, хоть она мне жена, много говорим на тему окружающей жизни. Я иной раз вспомню про жизнь крестьян, что она тяжелая. И что жаль погубленной прошлой семьи. Она это принимает с сочувствием, но говорит, что какая у тебя была будущая? Пахал и сеял, пахал и сеял, вот и вся будущая. И дети бы стали пахать и сеять без горизонта лучшей жизни. Два года урожай, третий недород, глодаете корки вне зависимо от хоть Революции, хоть не Революции. И это правда, но я все ж таки спорил, не чтобы ее заспорить, а мне нравилось, как она волнуется до приятной красноты на лице. У меня начиналась сразу такая любовь, что стыдно было перед Екатериной и Ксенией, как перед живыми, хоть они давно мертвые.
Грех жаловаться, хорошо живем. Даже писать об этом много не хочу, чтобы не сглазить. Когда все хорошо, то боишься спугнуть словами. Это как нам батюшка говорил раньше в Церкви про бога, что не упоминай его всуе, то есть зря. Не допекай. Вот я и не хочу допечь свое Счастье, чтобы оно не осерчало и не отвернулось.
Еще мне дали ударный коммунистический паек к рождеству. Это я не хвастаюсь, а в качестве приятного внимания за мою работу. В том числе утка, сейчас моя Валя ее жарит и меня ждет к столу, а я пишу, а она на меня смотрит так, что я будто умываюсь горячей водой с головы до ног. И Вова ходит под ногами веселый и здоровый, что-то говорит себе детское. У Вали пока не получается зарождения ребенка, но врач сказал, что так бывает, подождите. Мы ждем, ничего, когда людям хорошо жить, они ждать согласны.
1925 год[7]
Рассвет
Земля моя, встречай рассветНавстречу новой жизни!Мы с ней увидим новый светВ своей большой Отчизне.Мы дети тех, кто век страдалОт тягот и неволи.Но мы убили капиталВ лесу и чистом поле.И даже если ночь уже,И тьма глядит в оконце,Но свет всегда в моей душе,Независимо от солнца.Колеса. Для Вовы
Вот колеса у тебя,На твоей игрушке.Там работа есть моя,В этой детской штучке.Ты пыхтишь, как паровоз,Едешь с ним по полу.Ты быстрей его колес,Но пойдешь ты в школу.Там все сбудутся мечты,Скоро станешь взрослым.И тогда освоишь тыНастоящие колеса.И поедешь по стране,Славен каждым делом.С благодарностью и мне,Что игрушку сделал.Валя
Ты женщина моих суровых грёз,Моей судьбы и моего страданья.Мечту я о тебе сквозь фронт пронес,Хотя еще не знал твоего созданья.Не знал тогда, что ты на свете есть,А то бы приготовился ко встрече,Но кончился мой страшный темный лес,И вышла ты, любимая, навстречу.Я ничего на свете не боюсь,Кроме того, что ты меня оставишь.Боюсь, что я твой непосильный груз,Что рядом ты со мной свою жизнь травишь.Что сделать мне тебе, только скажи,Я все сумею от земли до моря.Лишь ты б была всегда со мной вблизи,Не зная ни печали и ни горя.Осока
Острая осокаРежет сердце мне.Месяц одинокоСветится в окне.На душе ненастье,На душе печаль.И чего-то счастлив,И чего-то жаль.Вспомнил я осокуВ детстве у реки.Бегали мы колко,Были босяки.Даже и не евши,Но зато всегдаБыли взвеселевшиПросто без труда.Ничего не надоДетской голытьбы.Жизнь как наградуПонимали мы.Береза
Стоит береза белая,Но черные на нейЕсть пятна задубелые,Самой земли черней.О чем грустишь, березынька,Зачем чернеть местами?Будь белой вся, как зоренька,Она в ответ словамиМне говорит, что рада быБыть белой без примес,Но слишком много горяПринес окрестный лес.И хоть мне жить приятно,и вся тянуся ввысь,Но пусть мне эти пятнаНапоминают жизнь.Назад-вперед
Вовсю работают поршня,Назад-вперед вращая силу.Они возвращаются назад,Чтобы вперед всё запустило.И ты бери с них свой пример,Не бойся ты назад отхода.И если вовремя примешь мер,Тогда дождешься ты вперёда.Батюшка и матушка. Светлой их памяти
Эх, батюшка, эх, матушка, хоть жалко вас до тла,Но с вами жизнь по правде была мне тяжела.Я слышал, что работай, с моих младых ногтей,А ласку видел редко среди других детей.Я вас не виновачу, вы сами от отцовНе получали ласки во веки всех веков.И дети все имели сноровку для труда,Но в остальном повадка у них была груба.Но я за вас отвечу сторицей и вполне,Я всех детей привечу, что бог пошлет ко мне.Я всех их обнимаю, им ласку говорю,Чтоб жизнь они любили, как я ее люблю.Горизонт
Жалко, кто горизонта не видит.И, как канарейка, щебечет впустую.А кто-то закрылся в своей обидеИ не хочет видеть долю другую.Я ему говорю: вот твой горизонт,Поверни, если не веришь, глаза.Но он куда-то в сторону бредет,Будто нарочно ослеп навсегда.А я, хоть давно лишился руки,Но мои товарищи – мои руки.И если неба не видно, дойду до реки,А не буду в комнате помирать от скуки.Ты радуешься, что живешь одинок,А время, как снег, тает.И если ты не знаешь, где горизонт,Спроси у того, кто знает.На мою смерть
Когда умру, не надо мнеОркестра и наград.И вслед за мной по всей ЗемлеУстроивать парад.Я все равно один умруИ не услышу вас.Но может, кто-то вдруг меняВ последний спросит раз.Чего хотел бы, Николай,Когда бы если вдругТы оживел на краткий миг,Скажи и пожелай?И я скажу вам в тишинеВ последний этот час,Что ничего не надо мне,Кроме любимых глаз.Когда увижу, что онаИ без меня счастлива,Тогда спокойно я со днаВздохну своей могилы.Но напоследок тихо яСкажу ей также твердо,Что буду вечно я тебяЛюбить, живой и мертвый.23 мая 1926 года
Ich ging in sein Notizbuch zurück[8].
Вова у нас говорит сразу на двух языках, перенимая у Вали, мне это нравится.
Валя со мной тоже с самого начала иногда говорила по-немецки, но сперва в шутку, все равно я не понимал. А один раз сказала: «Коля, бринген вассер, битте»[9], а я взял ведро и принес. Она обрадовалась: «Ты понял?» А я даже не заметил, что она по-немецки. Услышал про воду, да и пошел.
И Валя стала меня учить, хотя мы еще не знали, что это сыграет роль и возникнут события, из-за которых я нарушаю традицию и пишу не в конце года, а сейчас.
Мы были в гостях у дяди Вали, Альфреда Петровича Кессениха, который был партийный агитатор. Он смотрел на мою отсутствующую руку и спрашивал про меня подробности, как я и что. Я рассказал. Он сказал, что весной у меня будет командировка. Я ему сказал, что никак, я секретарь ячейки, да еще рабфак, да учу паровозы. Но он сказал, что командировка не навсегда и по важному делу.
И в апреле мы поехали, перед севом. Он мне по дороге сказал, что будем вести агитацию за коммуны и колхозы. А также сдача излишков. Народ немреспублики это принимает тяжело. Он не любит свое начальство, потому что в гражданскую оно над ним нашутилось от всей души. Я удивился, что немцы мордовали немцев. Русские понятно, мы с этим живем всегда, нас много и нам друг друга не жалко, а если взять других, которых меньше и живут кучно, они, я заметил, друг за друга стоят крепко. Татаре, евреи или хохлы, которые были у нас в Киевке.
Он сказал, что революция упразднила нацию как класс. Был у него приятель Шафлер или Шуфлер, я не запомнил, а переспрашивать постеснялся. Этот Шафлер, хоть и немец, к своим был чистый зверь, еще в далеком 17-м году, как услышал про Октябрьский переворот, организовал красногвардейскую банду и оружием подавлял контрреволюцию даже до того, как она возникла[10].
Приехали в Варенбург и вели пропаганду. Для этого народ собрали перед церковью. Альфред Петрович показывал на меня и на мою руку и говорил, что я тоже крестьянин, но воевал за революцию и имею правильное понятие об общей жизни. Он говорил по-русски и по-немецки. Потом попросил меня сказать, я тоже говорил. Немного даже по-немецки. Люди слушали и хоть молчали, но соглашались. Альфред Петрович был довольный, он говорил мне, что я наглядная агитация.
Мы потом зашли в церковь. Я удивился, что она внутри голая, только скамейки, а впереди крест с Христом. Но красиво, чисто. И там у них музыка с трубами, я понажимал там палочки, звучит очень великолепно[11]. Я раньше толком не знал, что христиане бывают разные. Думал, что православные – это настоящие христиане, а другие нехристи. Альфред Петрович объяснил, что есть много разных христиан. И каждые из них считают тоже себя настоящими, а других нехристями.
Мы с ним еще разговаривали, когда ехали дальше. Я увидел в Варенбурге много домов, которые меня до обиды удивили. Обида была потому, что наши избы, не говоря про дворы, много хуже и неприглядней. А у немцев дома добротные и стоят на высокой каменной кладке, получается, как два этажа, заборы ровные, повдоль улиц канавки для воды и даже дорожки из досок, как в городе. И ведь тут у них тоже бывают и засухи, и голод их тоже не обошел. От чего такая разница? Я спросил об этом у Альфреда Петровича, тот сказал, что вы долго были крепостные, а местные немцы никогда крепостными не были. У вас любой мог все отнять, а у них было отнять труднее, хотя тоже можно, что подтвердила революция. Они передавали имущество и деньги по наследству, а вы после себя не оставляете ни имущества, ни денег. У них какую вещь ни возьми, что ложку, что прялку, что кружавчик на камоде, всему по сто лет, а у вас и ложки-то деревянные, поел и бросил. Даже и поговорка про это говорит, что кашу слопал, чашку об пол. Не говоря про кружавчики, да и камодов вы не видали, кроме сундуков. Но он после этого оправдал русских. Он сказал, что вы зато понимаете глубину существования, что оно на земле временное. Что голым человек приходит и голым уходит.
Я сказал, что да, нам даже поп в церкви объяснял, а я запомнил, что мы все тут временные, поэтому не гонитесь за сокровищами на земле. Поэтому мы и строимся абы как и не любим вокруг себя наводить красоту. Все равно сгинет. Но будем рассуждать. Я временный, мой отец был временный, дети тоже будут временные. Но сама-то Русь стоит уже тысячу лет, она же не временная. Почему бы нам тоже хоть что-то не оставлять в наследство? Да и сам я, пусть временный, хочу и для себя маленько пожить. В меру совести, конечно. И в своем, желательно, доме.
Альфред Петрович смеялся и хвалил меня, но сказал, что главное наследство дух, а не дом или имущество.