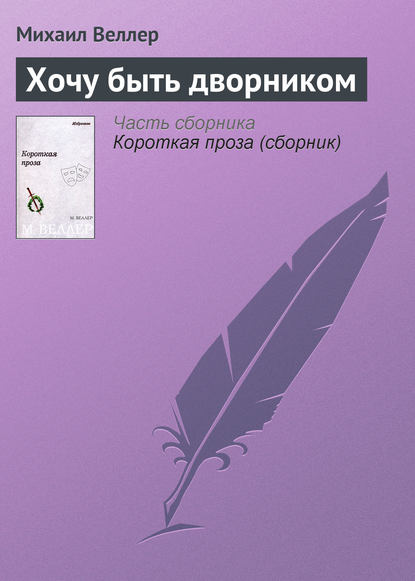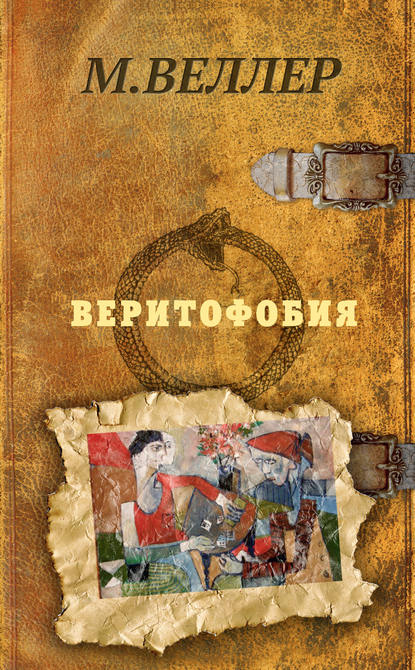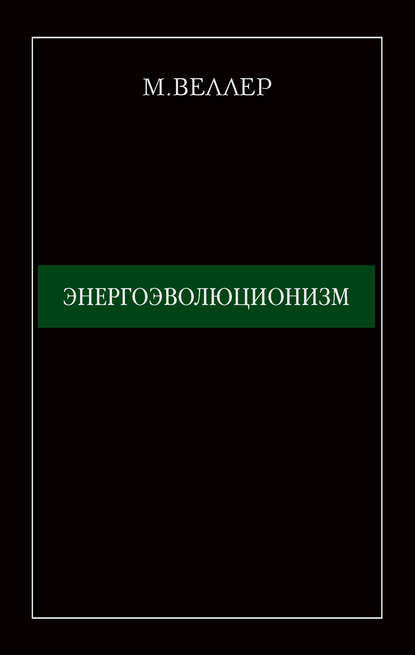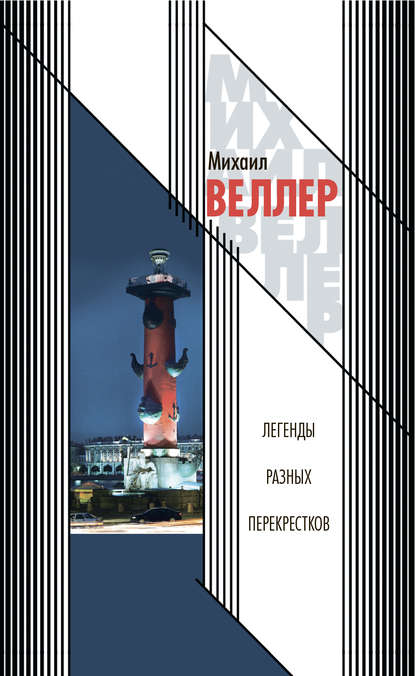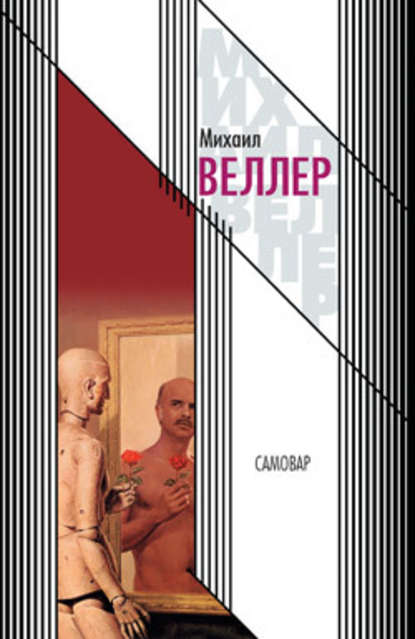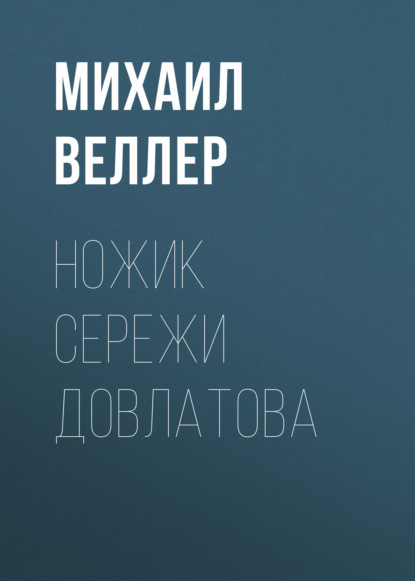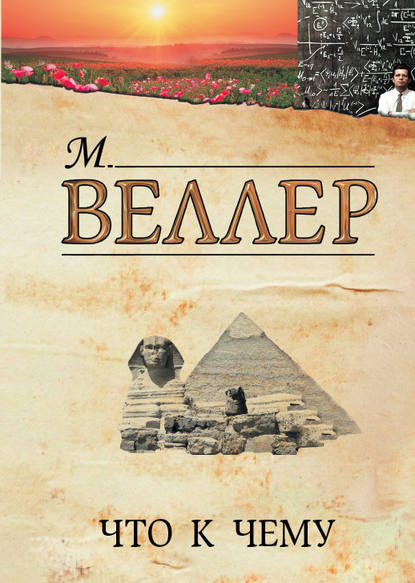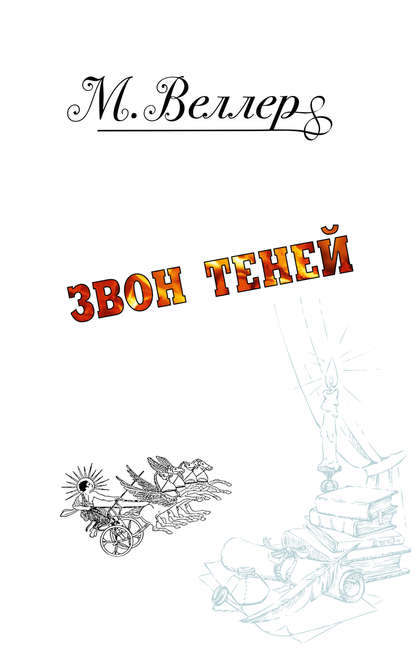
Полная версия
Звон теней
3. И вот в этой игре мы проявляли свою тоталитарную сущность.
Характерна реакция на выход «Эпистолярного романа с Игорем Ефимовым». Ефимов посмел опубликовать переписку со своим старинным другом Довлатовым. Не везде там Довлатов предстает в лучшем свете. Образ являет и злословие, и мелочность, и массу разъедающих жизнь черт. Без пьедестала.
Как посмел Ефимов сделать такую подлость, попытаться приволочь в литературу грязь! – был приговор. Это против воли вдовы, это моральное падение!
Не было только одного аргумента: что это неправда. Нет, это все правда. Причем: никаких интимных подробностей личной жизни, никаких скандалов и пьяных безобразий – ничего, что можно было бы назвать «компроматом», там не было. Ничего неприличного или непристойного, ничего тайного или подсудного. Так, отношения с людьми и суетные детали литературно-эмигрантской жизни.
Но! Было сочтено, что это попытка замарать и принизить высокий и светлый образ писателя! И никого не волновало, что последние письма – это итоговая исповедь и автопортрет несчастного человека, ощущавшего себя неудачником с тяжелой жизнью, что в этих последних письмах Довлатов открывается умнее, печальнее и беззащитнее, чем в своих рассказах; глубже, значительнее и человечнее он тут являет себя.
Однако вывод прост. Нам не нужна правда, которая нам не нравится. Которая представляется нам лишней и искажает тот образ, который мы себе уже создали. Мы сами определяем, какая правда желательна, а какая недопустима.
То есть. Речь о честности, объективности и терпимости не идет. А имеет место желание заклеймить и заткнуть ту правду, которая не вписывается в нашу информационную модель явления. Эта правда нарушает нашу картину мира, задевает наши групповые интересы (эстетические, интеллектуальные, психологические). Открывающего такую правду – осудить и по возможности нейтрализовать.
Так чем вы отличаетесь от Кремля и Федерального телевидения? У вас цели разные, а метода одна: инакомыслие осудить, заклеймить и воспретить.
4. Но любовь к литературе и истине влечет нас к сияющей вершине.
Пушкин! Наше все! Недосягаемый гений.
Любовь к Пушкину вменена в моральный и патриотический долг. Это главнейший в русской культуре маркер «свой – чужой». Единообразие поклонения Пушкину может различаться лишь оттенками восторга.
Нелюбовь к Пушкину – это моральная и почти государственная измена. Это постыдно и подлежит суровому презрению и осуждению товарищей, рука которых пусть покарает меня. Признающийся в нелюбви к Пушкину, пусть частичной и в чем-то, совершает каминг-аут, переходящий в аутодафе.
Кто такой ОН – и кто такой ты?! Кто ты, чтобы судить Гения нашей литературы? Как ты вообще смеешь? Да для тебя не то что авторитетов нет – для тебя вообще ничего святого нет. Ты мразь. Тебе надо запачкать самое светлое, что людям дорого, что все любят, что во всем мире признано как высочайшая вершина литературы, двести лет все изучают, народный праздник в день рождения Пушкина, конференции всемирные, – а ты что?..
Так. Я уже согласен. У меня остался только один вопрос. Маленький и личный. Имеет ли право человек на собственное мнение? Если это мнение не призывает к насилию, воровству, лжи, разврату? Если это мнение по отвлеченному, теоретическому вопросу?
И выясняется, что любовь и преклонение перед Пушкиным – категорический императив русского социокультурного пространства.
5. Вот в школе начинают проходить Пушкина. Учитель дает установку: кто это такой и как мы к нему относимся. В этом отношении никаких сомнений нет и быть не может: Пушкин самый великий. А Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает в Каспийское море, фрукт – яблоко, лайнер – серебристый, зверь – волк, поэт – Пушкин.
В школьном преподавании вообще и Пушкина в частности – есть одна принципиальная черта: непререкаемость. Она же категоричность. Все, что совершил Пушкин в литературе и жизни – прекрасно. Любимый друзьями и женщинами. Сей ветреник блестящий, все под пером своим шутя животворящий.
Школа целенаправленно формирует у детей культ Пушкина. Поклонение этому культу есть естественное состояние всякого культурного русского человека и патриота. Этот культ благ, бесспорен, непререкаем.
Пушкин – это хорошо и даже прекрасно.
А вот культ – это плохо. И всегда чревато. С Пушкиным школа внедряет единомыслие. Инакомыслие школьника насчет абсолютной гениальности и идеальности Пушкина – не допускается, даже не подразумевается как возможное. То есть: самостоятельное мнение запрещено. Предписанное мнение обязательно.
6. Единомыслие и конформизм, культ обожествляемой личности – не может существовать в сознании сам по себе, но неизбежно входит в систему представлений об устройстве мира и отношении к нему.
Единомыслие и приятие культа личности – становится одним из важных принципов мировоззрения: есть отдельные гении, великие люди, вознесенные над общей массой, и значимость их непререкаема. Это – что? Это важная мировоззренческая модель в социальной психологии. Великий стоит над всеми и вне критики – это хорошо и нормально. Устроенный так мир – правильный. Тот, кто это понимает и признает – хороший, правильный человек.
7. Что было вначале: царь или царизм? Яйцо или курица? Царь присвоил трон силой и внушил всем правильность такого положения – или представление людей о наилучшем и правильном устройстве общества возвело избранника на царство? Э, – это две сферы проявления единого сущего, сказал бы Плотин и многие философы еще.
Германские ярлы нагнули под себя племена славянские, а также финно-угорские и прочие.
Принятие Великим Князем христианства на Руси было величайшим актом внедрения культурно-государственного единомыслия.
Монголы сделали Московию и окрестности организованным улусом величайшего мирового государства – где безоговорочное подчинение приказу начальства было не просто законом, но моральным императивом.
Иван Грозный, объявив себя наследником Орды, довел культ начальника до безумного кровавого абсолюта – внушая при этом законность и благость своих дел.
Романовское самодержавие категорически отметало любые поползновения ограничить власть самодержца – пока не стало поздно.
Реформаторы взяли власть, революционеры ее у них отобрали, большевики передушили всех прочих революционеров – и начался самый страшный кошмар России во всей ее истории. Под лозунгами свободы!
Парадокс в том, что даже воспевание свободы и борьба за нее носили тоталитарный характер морального императива.
8. Дамы и господа. Всем ли давно понятно, что от переименования князя, царя, генсека и президента модель государственного самоуправления народа не меняется?
Русскому народу свойственно, будучи предоставленным самому себе при падении твердой власти, быстро расслаиваться, структурируясь в жадное, сильное, беспринципное меньшинство сверху – и бесправное, слабое, работающее и подчиненное большинство внизу. Верхнее меньшинство обирает нижнее большинство, не ограничиваясь законами, но только в меру своих возможностей.
Но при этом! В народе живет потребность – даже на всех этапах реформ! – возносить лидера над собой. Хоть Ельцина, хоть Путина, хоть черта в ступе. Возлагать на него надежды, делегировать полномочия и буйно или безропотно ждать действий по улучшению своей жизни.
Над Брежневым смеялись! – но все приближенные лизали тупо, журналисты матерились и плакали, но возносили, острили и ругались – а портреты на демонстрациях несли. Не верили? А в Ленина – «самого человечного человека» – верили? Как верили в Сталина! Сажал и стрелял? А вот возвращались из лагерей – и среди них тоже верили.
9. Социальный инстинкт повелевает человеку организовываться с окружающими в самые рациональные (с точки зрения дел и свершений) социумы – от бригады до государства.
При этом необходимо понимать и учитывать. Сильные и вооруженные организовываются не так, как слабые и безоружные. Трудолюбивые и храбрые – не так, как ленивые и трусливые. Рабы – не так, как свободные.
Либерал-социалистические бредни об универсализме политико-экономических моделей в любом этносе, при равных внешних условиях – это агрессивная идеология новых коммунистов, еще не прошедших через собственные концлагеря.
Качество бетона зависит от марки цемента и количества песка.
Только свободные люди могут построить свободное общество. Ну, более или менее реально демократическое государство, справедливо устроенное к удобству и благу трудящегося большинства.
Но! Для свободных людей – культов не существует! Кроме Всевышнего, Заповедей и моральных основ общества. Свободный человек отвечает за себя сам. За свои поступки, свои ценности, свои мысли и чувства.
Без свободы мысли никакое справедливое, продвинутое, процветающее, счастливое общество – невозможно.
10. И если кому в России не нравится культ Президента, сопутствующий бедности народа, произволу и отсутствию перспектив – вспомните, что если человек полагает вообще-то чей-то культ нормальным и хорошим делом, то с этим представлением о принципиальной правильности культа он Пушкиным не ограничится.
Вы ему только внушите, что есть прекрасные и правильные кумиры выше критики и сомнений. И уж он вам кумиров наставит, наплачетесь.
11. Вы ведь врете ему в школе о литературе той эпохи – где на деле недосягаемо выше прочих почитался в заслугах великий Карамзин; где воспитатель царских детей и академик Жуковский парил на таком заоблачном Олимпе поэтической славы, что мог комплиментарно писать молодому Пушкину о лаврах первого поэта России; где самым знаменитым писателем и журналистом был Булгарин, а за ним Загоскин; и никакой народ у подъезда раненого Пушкина не толпился, тиражи Пушкина были одна тысяча экземпляров, а книги стоили жутко дорого, только для состоятельных людей, народ если и читал, так Матвея Комарова, а о Пушкине знать не знал, светская жизнь для него была другая Вселенная; вы создаете миф, условно идеализированную информационную модель Пушкина, отсекая одно и приписывая другое.
12. Культ личности Начальника Страны создается по тем же лекалам. И не в том беда, что услужливыми подручными и холопами создается. А в том беда, что культ создаваемый – востребован! Русскому народу нужен царь! Свежая максима, да? Нет, не всем и не в равной степени. Но! Не только историей сформирован народ, взыскующий сильной руки.
Этот народ воспитан нашей прекрасной школой, нашими замечательными учителями литературы, нашими доходчивыми учебниками.
Прошу понять. Пушкин тут – это прекрасная золотая фигура. А культ личности – сквозной арматурный штырь, упрятанный внутрь, как несущий стержень всей информации. Нанизанная на этот культ, как на шампур, фигура информации держится цельной, логичной, красивой, мощной. Но!!! Когда человек поворачивается к другим проблемам жизни и фигурам пейзажа – фигура слетает, как листва, а стержень остается! Потому что стержень этот – мировоззренческий принцип. Уж не о Пушкине судят – а все чертеж кумира наложен на пространство.
И когда я слышу, как со слезами в горле и на глазах, умиленные святостью своего чувства до нервического приступа и религиозного экстаза, поклонники и фанаты полируют слоем елея Пушкина как образ Нашего Всего – меня охватывает безнадежность.
13. Поклонение Богочеловеку Пушкину сравнимо только с поклонением Сталину времен культа: нерассуждающий экстатический восторг. Не повод задуматься?
14. Потому что если в людях сильна потребность в кумире и поклонении ему – они себе кумира устроят, и уж он-то их потребность удовлетворит.
И если они не допускают, что свобода мысли необходима, что незыблемых утверждений нет – будет им научный прорыв. Сейчас. Только по приказу генсека! А так – давить всех умников. Вот и давят, всю историю.
И если свобода слова, когда истина не совпадает с их убеждениями, их оскорбляет и приводит в негодование – то за скорой цензурой дело не станет.
15. Если не воспитывать в детях свободу мысли и слова, но загонять их в жесткие предписанные рамки, не воспитывать в них уважение к своему уму и способность доказывать свою точку зрения, но учить повторять за учителями-начальниками, если прививать им представление о культе как естественной и похвальной особенности миропонимания – то вы всегда будете жить в авторитарном государстве. Бессмысленно сетуя, отчего же это так.
16. Они свергают человека. Они говорят об изменении системы. Но они не касаются коллективного мировоззрения. Не думают о перестройке закрепощенного, авторитарного, конформистского сознания и подсознания – на свободное, самостоятельное и ответственное. Потому что самому оценивать и принимать решение и самому подтверждать и защищать его – это и есть свобода и ответственность в одном флаконе.
Кормя людей готовыми рецептами и требуя их соблюдения, настаивая на их единственной правильности и допустимости – это и есть истоки тоталитаризма. А риторика – левая или правая, культурная или бытовая – здесь не важна.
Не важно, кто твой кумир. Важно, что он есть. Структура твоего подсознания искажена и прогнута под него: он отпечатан в тебе, как водяной знак. И внешний объект займет в твоем подсознании предназначенное (предуготованное) место, куда бы ты ни обратил мысленный взор.
Кумир бы и хорош – да плоха кумирня: поставь пьедестал – и он сам потребует себе статуи.
Поклонение как мировоззренческий стереотип, принцип.
Аккорд еще рыдает
Ножик Сережи Довлатова
Литературно-эмигрантский романВ Копенгагене я сделал сделку. Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку, а книжку подарил журналистке из газеты с трудновоспроизводимым названием. После чего пошел по магазинам.
Одна из кожгалантерейных лавок прогорала в дым, судя по ценам. Роскошный кейс с номерным замком, стоивший напротив полторы тысячи крон, здесь предлагался за сто пятьдесят. Я вспотел, час пытаясь обнаружить суть подвоха. Жалко тратиться на подарок себе самому, разве что ты на этом здорово экономишь. Бедный пластмассовый дипломат мне омерзел. При малейшем недосмотре он вдруг делал «Сезам, откройся!», вытряхивая барахло под ноги прохожим. В Венеции он раскрылся на мосту, и фотоаппарат прыгнул из него в канал, только булькнул. Ненавижу Венецию.
Магазин закрывался. Я принял решение. Продавщица сломала ноготь, выставляя мои любимые числа. После чего я достал бумажник и показал ей, что там пусто. В более темпераментной стране меня бы убили.
Вялый народ эти датчане. Недаром викинги перед дракой нагрызались мухоморов.
Редакцию все давно покинули. Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте. Вы видели фильм «Торпедоносцы»? Так яхт там чертова прорва, все берега заставлены.
Пароход у меня уходил в восемь утра! А через наш банк получишь лишь соболезнование о валютных трудностях державы. В кармане брякала мелочь, сигареты кончались. Хотелось жрать. Хотелось выпить и отвести душу.
Я побрел найти немного понимания к московской знакомой, недавней эмигрантке. Она жила в центре, зато без горячей воды. Мы выпили водки, закусили бананом и обматерили Данию. Одна из образцовых…
Последним ее впечатлением о родине было знакомство с Александром Кабаковым. Это сильное и приятное впечатление еще не изгладилось, оно подпитывало ее интеллектуальный патриотизм.
Пока она по частям мылась холодной водой, я стал читать «Сочинителя». Автор наслаждался мужской любовью интеллигента к женщине и оружию. «Он с треском вспорол брезент швейцарским офицерским ножом с латунным крестом на рукояти».
Если швейцарские офицеры соответствуют своим ножам, то их можно ловить сачками. Я начал открывать дипломат, и меж блокнотов и книг вылетел под ноги замерзшей хозяйке именно швейцарский офицерский нож. Он размером в палец. Со множеством складных штучек для облегчения офицерской службы. Им можно нарезать колбасу, открыть бутылку, провертеть дырочку для ордена и вырвать волосок из носу.
Случайно, стало быть, на ноже карманном найди отметку дальних стран.
Этот ножик подарил мне Довлатов. В таллинском журнале «Радуга» мы напечатали впервые в Союзе его рассказы, и он переслал редакции подарки: пробный флакончик французских духов, что-то пишущее и складной ножик с латунным крестиком на вишневой пластмассовой щечке. Редакция была дамская, ножик взял я. Приложенная в футляре инструкция на пяти языках, включая китайский, просвещала: «Швейцарский офицерский нож! Из наилучшей стали!» Китайский язык объяснялся местом изготовления: там дешевле.
Теперь-то мы изведали качества дешевых китайских товаров. Возможно, оно основано на надежде свести продолжительность, и без того краткую, нашей жизни, и без того горестной, к веку воробья, истребленного рисоводческим кооперативом. Страдающие недостатком жизненного пространства китайцы умны, терпеливы и настойчивы. Их зоркие, прицельной суженности глаза вежливо смотрят через Амур. Восток научился проницать удаленность времени и пространства задолго до скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы. И в дальней перспективе, где держава перетекает и делится, как амеба, никуда мы не денемся от передела территорий. Пьеса о территориальном суверенитете написана давно и называется «Собака на сене».
Когда-то я жил на китайской границе, на Маньчжурке. Рубежная станция Забайкальск называлась тогда Отпор! Доотпирались.
И китаец звучало у нас символом честности и трудолюбия. Несравненное качество китайского ширпотреба памятно старикам. Равно как и победоносная борьба с мухами, воробьями и гоминдановцами. Смелый, как тигр. Двадцатизарядный маузер Ли Ван-чуня не могло заклинить.
Восторгающие «Пионерскую правду» любовь и уважение к братским китайцам не мешали пацанве травить бурятов. То, что буряты жили в этой степи спокон веков, было их личным и никого не колышащим горем. Бурят было словом ругательным. Синонимом его было слово дундук.
Много лет спустя, студентом ленинградского университета, практикант в журнале «Нева», я с недоверчивым удивлением узнал от завпрозой, покойного Владимира Николаевича Кривцова, писавшего тогда роман о первом российском после в Китае отце Иакинфе Бичурине, что до революции, при изрядной малограмотности в России, мужчины – монголы и буряты были грамотны поголовно и весьма. Мальчиков отдавали на воспитание в дацаны, откуда они возвращались обученными и причастившись восточных мудростей. Это мы им потом дацаны закрыли, лам перешлепали, а прочим ввели кириллицу: Маша мыла раму.
Вот в том же отделе прозы я впервые услышал фамилию Довлатова. Я вообще услышал там много нового и интересного. Например, что Октябрьская революция – ну и что, сделали лучше? Я клацнул от неожиданности своими белыми комсомольскими зубами; что же касается ответа, так это сейчас, двадцать три года спустя, все стали умными и храбрыми.
За эти двадцать три года задавший мне этот вопрос с ехиднейшей и ласковой улыбкой Самуил Аронович Лурье, старший (и тогда единственный) редактор отдела, ах Джон, а ты совсем не изменился. Неизменно – худ, лыс, сутул, узкоплеч и очкаст: гуманитар-интеллигент, разве что зав в том же отделе. Нужно было пережить застой, перестройку, распад, полдюжины главных и ответсекров, непотопляемо пройти скандалы и суды, сдать роскошные покои фирмам нуворишей и ужаться в боковые комнатки, обнищать и уменьшить формат на скверной бумаге, чтоб открылось: что сутулость скрадывает высокий рост, из растянутых рукавов свитера торчат ширококостные волосатые запястья, в объятии Саша Лурье жилист и тверд на ощупь, и хорошо познается в способности твердо принимать любое количество спиртного, отличаясь изящнейшим умением по мере возлияния интимно изливать гадости тому, кто платит за выпивку. Учитывая должность и реноме лучшего ленинградского критика, поставить ему хотели многие. Справедливость требует отметить, что из этих многих у очень малых доставало умственных способностей вычленить суть витиевато-иронических фраз, которые с тонкой ухмылкой накручивает им на уши поимый собеседник.
Лурье и пересек меня с Довлатовым забавным образом. Это образ всех его действий.
Я был старательным практикантом. И мою старательность решили поощрить материально. Возможно, к тому отдел прозы подтолкнула совесть. В течение месяца всю работу в охотку делал я один, освободив зава и редактора для их собственных творческих нужд. Я не перенапрягся. В числе непонятого мною в литературой жизни осталось, чем могут заниматься в ежемесячном журнале больше трех человек. Некрасов был вообще один, не считая как раз Авдотьи Панаевой и ее мужа Панаева: их функции изучены литературоведами и понятны. Мое непонимание встречает у тружеников редакций раздраженный протест.
Меня решили оплатить посредством редакционного гонорара за отшибную внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист рецензируемой рукописи.
– Миша, – сказал Лурье, вручая мне папку с надписью «Сергей Довлатов. – Зона.», – пусть совесть вас не мучит. Напечатать мы это все равно не можем. Увидите: там зэки, охранники, пьянки, драки – Попов (главред) этого не пропустит в страшном сне. А если чудом решил бы пропустить – снимет цензура. А если не снимет – то снимут нас всех. Но этого, к счастью, произойти не может, потому что Попов дорожит своим креслом, и если встречает в тексте слово «грудь», он подчеркивает его красным карандашом и гневно пишет на полях: «Что это?!». И это после нашей редактуры. А если он увидит слово, например, «сиськи», его просто свезут в сумасшедший дом. Так что – пишите. Сами понимаете. Обижать человека не надо, хороший парень, я его знаю, в общем, все равно это не литература… сочините что-нибудь такое изящное, отметьте достоинства, недостатки, посетуйте в заключение, что «Нева» не может это опубликовать. И обязательно пожелайте творческих успехов автору. Страниц пять, больше не нужно. Дерзайте: я не сомневаюсь, что у вас получится.
Вспоминая о Хемингуэе, Джек Кейли пишет: «При первом знакомстве Хемингуэй произвел на меня впечатление туповатого парня, и не раз производил такое же впечатление впоследствии». Таким образом, «Зона» не произвела на меня впечатление литературы. К моему облегчению, не пришлось даже кривить душой. Я всего лишь подошел к решению задачи с предварительным умыслом и готовым ответом. Позднее я узнал, что это называется журналистским профессионализмом.
И все-таки «Зона» без нажима запоминалась. Она была не похожа на прочее, идущее в журналах.
Первая в моей жизни рецензия была лестно оценена талантливым ленинградским критиком и редактором Лурье и принесла мне тридцать рублей. Именно и ровно. Первый в жизни гонорар памятен, за что получен – памятно менее, а уж ничего не значащая фамилия автора, послужившая лишь предлогом к гонорару, изгладилась из воспоминаний быстро и начисто за событиями более интересными и значительными. С утра до ночи один в отделе я сортировал рукописные завалы, писал письма, правил гранки и в пределах малых полномочий дипломатично беседовал с посетителями, принимая свежие рукописи и уклоняясь решительных ответов. Предмет моего злорадного торжества составило редактирование идущей в набор повести великого письменника Глеба Горышина про то, как он поехал на Камчатку, землепроходец. На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег от Питера, и цыдулю Горышина, пользуясь анонимной безнаказанностью внутриредакционной машины, перередактировал вдрызг. Опасался, что маститый автор возбухнет по ознакомлении с публикацией, но позднее не воспоследовало ни звука. Цимес был в том, что проходивший в Ленинградской писорганизации под кличкой «Змей Горышин», обликом более всего напоминая сподвижника Карабаса-Барабаса пьявколова Дуремара, а бездарностью казеиновую сосиску, являлся вышеупомянутой организации третьим секретарем, то есть имел довольно власти испортить кровушку любому.
За этим самозабвенным бесчинством и застал меня друг-однокашник Серега Саульский, трепетно донесший в редакцию свое первое прозаическое произведение. Заготовив фразы к беседе, он постучал под табличкой «Отдел прозы» и водвинулся с почтительным полупоклоном.
– Присаживайтесь, добрый день, – казенно-приветливо бросил я, не отрываясь от художественного выпиливания по тексту.
– А… э… – подал ответный звук посетитель, и я узрел выпученные саульские глаза и отпавшую челюсть. За двухметровым редакторским столом сидел я без пиджака, и смотрел вопросительно.
С полминуты Саул напряженно соотносил визуальный ряд с семантическим. Потом выматерился и закрыл рот.
– Сука, – сказал он. – Пришел на хрен в святая святых. Молодой автор, тля, с трепетом. Первый рассказ на суд толстого журнала. А там Мишка Веллер в домашних тапочках.
– Гадская жизнь, – согласился я. – Когда кадет Биглер становится генерал-майором и лично является беседовать с Богом, то Богом уже работает капитан Сагнер.