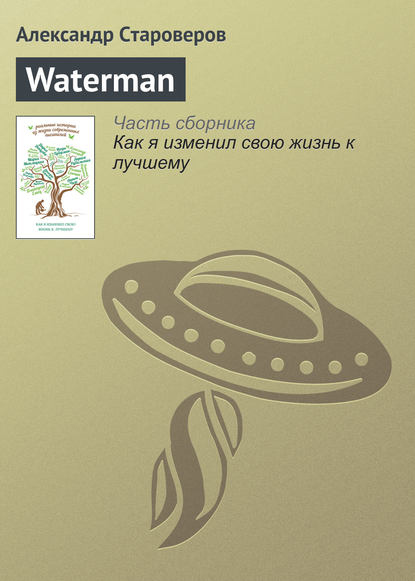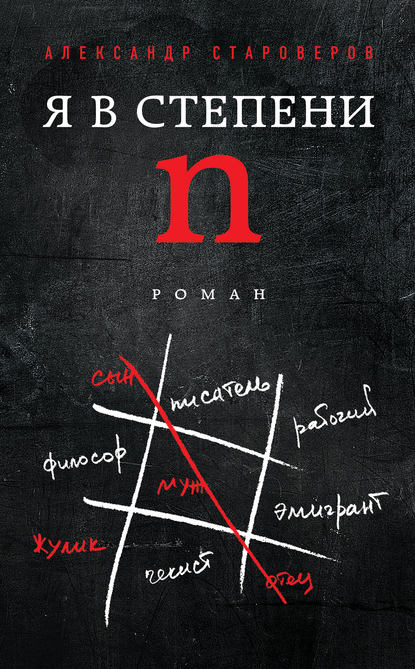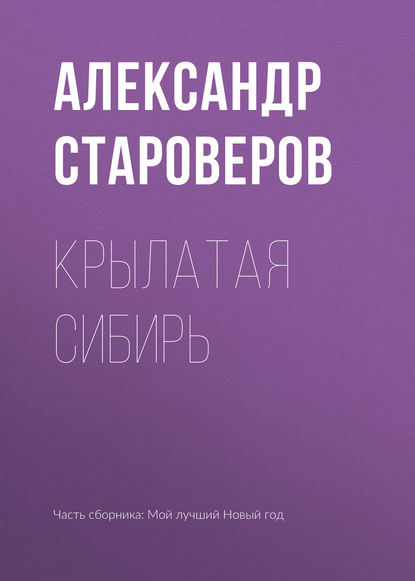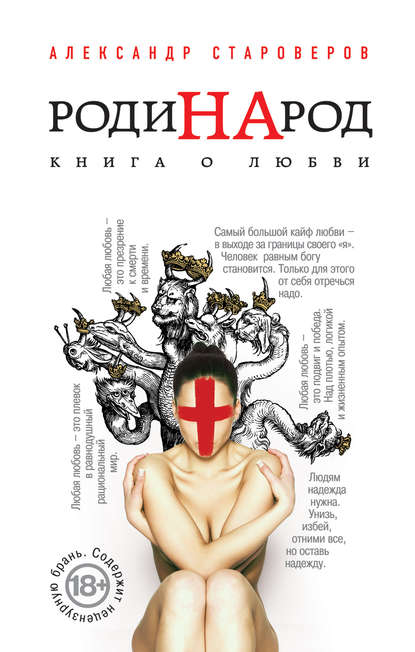
Полная версия
РодиНАрод. Книга о любви
Петру Олеговичу стало так стыдно и страшно, как никогда до этого. Один фактик, маленький, смешной, в сущности, фактик, перевернул всю его вполне достойную жизнь, поставил ее под каким-то очень точно рассчитанным, единственно возможным углом, неэстетично раком и заставил его содрогнуться от тоски и отвращения к самому себе. Все было не так, вся изворотливость и ловкость его оказались ни к чему. И бабки ни к чему, и статус, и все остальное. Если он на детей мертвых дрочил – ни к чему. Петр Олегович икнул, закусил губу и начал быстро сходить с ума.
– Да не переживай ты так, – утешил его мужик в красных кедах. – Ну, дрочил и дрочил, это как раз очень естественно. Эрос и Тантос всегда рядом ходят.
Петр Олегович мгновенно перестал переживать. Его сильно озадачила изреченная божественная мудрость. Что такое Эрос, он знал, а что такое Тантос, даже не догадывался.
«Может, болезнь нехорошая? – предположил он. – Типа триппера. Но при чем здесь триппер? На что он намекает?»
– Триппер здесь ни при чем, – ответил его мыслям мужик. – Хотя, с другой стороны, как посмотреть. А Тантос – это смерть. Любовь и Смерть по одним дорожкам ходят и за ручку держаться. Так уж я решил когда-то. Может, и зря, а может, и нет. Опять как посмотреть. Дрочка твоя, Петя, это, конечно, экстремально резкая, но все-таки вполне понятная реакция на ужасы бытия. Ты своей дрочкой как бы отвечаешь смерти: а я жив, я существую, я способен размножаться. Фиг тебе, смерть, а не мне, обойдешься. Акция протеста своеобразная. Много в ней человеческого, и, значит, не пропащий ты совсем еще. Это даже благородно, Петь, с моей точки зрения. А поскольку точка зрения здесь существует только моя, то плюс тебе, Петя, большой жирный плюс.
Петр Олегович приободрился и радостно подумал: «А я знал, я говорил, не пропащий я. Да я на фоне других вообще орел. Рай, рай давайте заслуженный».
Небритый мужик поставил стакан с двуглавым орлом на стол и заразительно рассмеялся.
– Ну, Петь, ты даешь, – сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы. – Ну, ты и лихой мужик, акробат прям, эквилибрист на шаре. Рай за дрочку, это все же чересчур. Не находишь? Дрочка, оно, конечно, хорошо. От своих слов не отказываюсь. Дрочка – это плюс, без сомнений. Точно плюс, решили. Дрочка – плюс, а все остальное, Петь, – минус. И угол зрения на твою жизнь, он, правда, единственно возможный. И другого нет. Ты посмотри на свою жизнь под этим углом. Повнимательнее, Петь, посмотри. Что же ты с жизнью своей единственной сам, собственными руками сотворил? В кого же ты превратился, а главное, зачем? Ради чего? Посмотри, Петь, внимательно. Тебе быстро понятно станет.
И Петя посмотрел. Тоска и блевота, блевота и тоска, вот что такое его жизнь. Сам себя в тоску и блевоту загнал, хотя рядом были озера прозрачные и ручьи хрустальные. Рядом, только руку протяни… «Хамство, – пошатываясь от вывернувшего наизнанку организм знания, подумал он. – Как же я умудрился вселенной так нахамить? И Ему, и себе. Как же я смог? Это ж постараться надо. Захочешь специально и не сможешь, а я смог. Да за преступление такое расстрела мало, ада мало, всего мало. А он еще разговаривает со мной, смеется, улыбается, плюсы какие-то ставит. Добрый он безгранично и терпеливый. А я недостоин. Недостоин воздухом с ним одним дышать, не то что видеть и разговаривать. Тварь я, козел, урод, имбецил конченый…» Петр Олегович рухнул на колени, склонил голову и завыл:
– Прости-и-и-и-и меня-я-я-я-я, Господи! Покара-а-а-а-а-й меня, пожа-а-а-а-а-лу-у-у-уй-ст-а-а-а…
Небритый погрустневший мужик, тяжко вздохнув, встал из-за президентского стола, подошел к Петру Олеговичу, погладил его волосы и протянул ему недопитое виски в стакане с двуглавым орлом.
– Ну что ты, хватит, хватит. На, выпей, легче станет.
Дрожащими руками Петр Олегович взял стакан и сделал два глотка. Легче не стало. Только из глаз внезапно покатились горячие и тяжелые слезы. Он обнял красивые красные кеды мужика и расплакался.
– Хватит, хватит, Петь, – ласково сказал мужик, осторожно высвобождая ноги из его объятий. – Я-то прощу. Две копейки дело – простить. Чего мне, простить тяжело? Я же понимаю. Ну, запутался, по легкому пути пошел, а он тяжелым оказался. Да и обстоятельства внешние не то чтобы благоприятствовали. С кем не бывает? Прощу, конечно. Все, считай, что простил.
– Правда? – не поверил до конца Петр Олегович. – Меня, такого – и простишь? Меня? Такого?
– Конечно, правда. Бог сказал – бог сделал. Не волнуйся. Простил уже.
Теплая молочная волна благодарности накрыла Петра Олеговича с головой. Он сам благодарностью стал, задохнулся от избытка чувств, слов и мыслей и снова расплакался, еще пуще прежнего. Бог помолчал немного, неловко потоптался с ноги на ногу и стеснительно, даже немного виновато сказал:
– Только вторую твою просьбу, Петь, я выполнить не смогу. Ну, насчет покарать. Оно, может, и неплохо было бы покарать тебя, полезно, по крайней мере, для будущего. Только уж извини меня, будущего не будет.
– Какого будущего? – не понимая, спросил Петр Олегович.
– Никакого, Петь. Ни рая, ни ада, вообще никакого.
– Это, это наказание такое, Господи? Это для меня только, да?
– Нет, Петь, это для всех. Ты только не думай, что мне такая ситуация нравится. Я по-другому хотел. Как вы себе примерно и представляете. Ну, там, рай, ад, чистилище, цикл перерождений и тому подобное. Знаешь, как мне вас жалко? Вы такие забавные, такие по-смешному глупые и отважные… и в никуда. Обидно, стыдно даже, по-другому я хотел. Но не получилось. Я тебе рассказывал, с физикой у меня проблемы. Не догнал, напутал чего-то. Не получилось. Извини.
– А что же будет? – На вдохе, давясь затвердевшим вдруг воздухом, прошептал Петр Олегович.
– А ничего не будет. Пустота будет и небытие. Единственное утешение, что пустота – это тоже я. Но я понимаю, Петь, утешение слабое. Объяснить это трудно, легче показать. Короче, смотри.
На месте двуглавого орла над президентским креслом, образовалась круглая дыра, а за ней не было «ничего». «Ничего» не имело цвета, запаха, температуры, оно вообще ничего не имело. «Ничего» отдаленно напоминало отверстие от разрывной снайперской пули в груди дагестанского боевика, которое Петр Олегович увидел однажды. Но было намного, намного страшнее. И еще «ничего» засасывало Петра Олеговича в себя.
– Подожди, подожди, – заорал он, цепляясь за разнообразные предметы президентского кабинета и медленно поднимаясь в воздух. – Подожди, Господи, я не хочу, давай в ад, в котлы кипящие, что угодно, только не это!
– Извини, Петь, я не могу.
Стулья, чернильницы, письменные приборы с президентского стола кружились вокруг Петра Олеговича, обгоняли его и со свистом исчезали в страшной дыре на месте герба России.
– Подожди! – кричал Петр Олегович, уцепившись за стол, вися вниз головой и почти касаясь ногами границы дыры. – Подожди, давай еще поговорим, мы не все выясняли!
– Все, Петя, все. Мы выясняли все.
Петра Олеговича оторвало от стола и почти засосало в страшную дыру. В последний момент он успел уцепиться за ее скользкие, постоянно расширяющиеся края. На месте бывшего герба торчала только его голова. Прилагая невероятные усилия, чтобы окончательно не утонуть в дыре, Петр Олегович выкрикнул последний мучивший его вопрос.
– А зачем тогда все, Господи? Зачем ты мне жизнь мою показывал, зачем разговаривал со мной?
– Ты думаешь, я с тобой разговаривал? – заторможенно ответил небритый грустный мужик в красных кедах. – Нет, Петь, ошибаешься. Я давно уже ни с кем не разговариваю. Сижу здесь вечность и говорю сам с собой. Все время говорю сам с собой. С собой… сам… говорю. Все говорю и говорю, сам спрашиваю, сам отвечаю. Сам… сам… сам… говорю…
С мужиком начала происходить уже знакомая Петру Олеговичу трансформация. Он снова превратился в огромного белого старца и заполнил собой весь кабинет. Но трансформация на этом не завершилась. Последнее, что увидел Петр Олегович, было слияние неисчислимых оттенков белого на теле громадного старца в один невозможно чистый и яркий белый цвет. Старец исчез, и вместе с ним исчез президентский кабинет, и весь мир, и скользкие края страшной дыры. На миг Петр Олегович завис в пустоте. И уже почти растворившись в не имеющем ни цвета, ни запаха, ни температуры пространстве, он услышал как будто знакомый старческий голос, заунывно то ли поющий, то ли причитающий страшные, окончательно хоронящие его слова:
– …где вы, леса и поля, где вы, выхлопные газы, где шорох рубля в кармане соседки-заразы? Где клетки с дикими зверями в цирке, где детки сопливые и наглые, где дырки в носках, сквозь которые видно пожухлую кожу? Где тоска? Где пьяные рожи ментов под Новый год и где сам Новый год и снежинки, летящие в рот, где мужчинки подшофе с цветами на Восьмое марта, где елки, березы, ольха, где сегодня, где завтра, только вчера на горизонте или за горизонтом, где двое, жмущиеся под зонтом друг к другу. Где боги или бог, он что, тоже продрог и прячется? Где скрип разъеденных солью сапог по снегу, где корячатся на стройках азиаты-рабы, где уроды, инвалиды, где гробы, где празднующие победу и потерпевшие поражение, где мнения, сомнения, споры до посинения, где воля и зубная боль, где, где, где, где это всё?!
Это было последнее, что он услышал. После звуки смолкли, и вместе с ними смолк и потух весь мир.
4
Петр Олегович вынырнул из сна, словно из горячей, окутанной паром ванны. Несколько секунд он, ничего не соображая, стоял на четвереньках, мотал головой и пытался отдышаться и унять подступившую к губам и носу блевоту. Кашлял. Отплевывался. Потом он услышал провоцирующий еще большую тошноту голос жены:
– Петя, Петенька, что с тобой, Петюнчик, что, что, что?
«Тоска и блевота, блевота и тоска», – неожиданно всплыли в голове слова из только что пережитого сна, и он окончательно проснулся. Над ним нависала раздавшаяся вширь Катька с неестественно выпирающими из короткой тушки огромными дойками, широченными бедрами и раздутыми дебелыми руками школьной поварихи. Весь этот пир плоти был упакован в кокетливую розовую ночнушку с бантиком в районе вымени и бежевым кружевным ромбиком пониже места, которое теоретически должно было зваться талией. Как кремовая розочка на вершине торта, нависшее тело венчала голова с раздутыми ботоксными губищами, морщинами у носа и добрыми, но глупыми воловьими глазами. «Тоска и блевота, блевота и тоска», – еще раз подумал Петр Олегович, осторожно пытаясь выползти из-под жены. Не вышло. Катька рухнула ему на пузо и принялась рыдать, пачкая живот тягучими соплями и слюной.
– Я так испугалась, я хотела «Скорую» вызывать. Ты так кричал, так плакал. За письку хватался, стонал. Петенька, что с тобой, что это бы-ы-ы-ы-ло-о-о-о?..
Жена ерзала вокруг пупка, ненароком стремясь продвинуться ниже. Возможный утренний минет сквозь Катькины слезы и сопли поначалу показался Петру Олеговичу интересным, но, когда задравшаяся ночнушка обнажила ее необъятный целлюлитный круп, интерес пропал.
– Бедненький, – причитала тем временем Катька, стягивая с него трусы, – испугался, маленький, сон плохой мальчику привиделся, за писюн малыш схватился в страхе. Не бойся, сейчас писюн пойдет в писькин домик. Дом тепленький, хорошенький, уютненький, иди сюда маленький.
«Писькин домик! – внутренне застонал Петр Олегович. – О, господи! Писькин домик. Убейте меня, боги. Яду мне, яду». Катька с института была девкой темпераментной. Это дело любила больше всего на свете. Похотливая, добрая, глупая самка. В принципе, лучший спутник жизни любого мужчины. Идеальная жена. Похотливая – не заскучаешь, добрая – кровь пить не будет, глупая – это тоже хорошо. Не поймет никогда, дурочка, что у других мужиков в штанах тоже кое-что болтается. Обожествлять будет доставшееся ей хозяйство и его носителя. Да и левачить можно при доброй и глупой жене сколько угодно. Одни плюсы. Желательно, конечно, чтобы еще и красивая была. Но красоту вполне себе может заменить папа со связями. Не бывает, чтобы все в жилу. Примерно так рассуждал Петр Олегович тридцать лет назад. С годами, однако, выяснилось, что разумная схема имеет изъяны. Все плюсы минусами обернулись. Похотливая? В 51 год, с жирным целлюлитным телом? С короткими ножками-сардельками и необъятной задницей? Нет, спасибо, уж лучше бы фригидная была. Добрая? А зачем ему добрая? Он злой, мир злой, все злые, а она, видите ли, добрая. Это чтобы он себя еще большей сволочью на ее фоне чувствовал, или для чего? Его в последнее время вообще на стерв потянуло, и желательно, чтобы они его ненавидели. Давали и ненавидели, а все равно давали. Вот это удовольствие для понимающих людей. А с добрыми пускай быдло развлекается. И наконец, глупая. Глупость бесила больше всего, пятидесятилетняя бабушка с повадками и умственным развитием старшеклассницы. Это ни в какие ворота не лезет. Это до греха может довести, до мыслей об убийстве. Придушил бы он ее давно, живьем бы в муравейник закопал, чтобы мучилась тварь долго перед смертью. Но нельзя. Ее папа знал в молодости Путина. Никак нельзя. Спасибо национальному лидеру. И здесь от греха отвел. Если бы не он… «Карьеристу нужно жениться на фригидной умной вредине», – частенько говорил он подросшему сыну выстраданную правду. Сын не слушал, зачем ему фригидная и умная, когда карьера и так, чуть ли не автоматом, обеспечена. Папа на несколько поколений вперед настрадался.
Петр Олегович лежал безвольно, обреченно смотрел, как жена стягивает с него трусы, и не мог пошевелиться. Ужасный сон лишил организм всякого иммунитета, сопротивляемость была на нуле, в голове кружились тоскливые мысли. «Ну, зачем, зачем бабам дан этот возраст дурацкий, от сорока до шестидесяти? – чуть не плача думал он, глядя на маячившую перед ним Катькину задницу. – Ведь позор один. Хорохорятся, сиськи вставляют, кремами мажутся, жопу на уши натягивают, а все равно – позор. Нет чтобы сразу в сорок повязать на пожухлые головки старушечьи платочки и сесть чинно, благородно на завалинку семечки лузгать. Или внуков там нянчить, или сериалы обсуждать. Сопротивляются, дурочки, и еще противнее становятся, еще смешнее. Мужик в пятьдесят тоже не фонтан, конечно. Но мозг, но власть, но деньги и возможности антураж создают необходимый, не смешной ни разу. А бабы – однодневные аленькие цветочки, отцветут коротким северным летом – и в гербарий к внукам, к таблеткам и болячкам нарастающим. Нет, хорохорятся, унижают своим присутствием белый свет и постели матерых самцов. Зачем они так?»
Усугубляя и подтверждая обиду, Катька задела целлюлитной ляжкой его подбородок. В нос ударил лягушачий запах грядущей женской старости и увядания. Петр Олегович чуть не блеванул. Зато кровь по жилам побежала быстрее, и апатия медленно начала соскальзывать с безвольного тела. «Путин, Путин, Путин, Путин!» – несколько раз про себя яростно повторил он, с отвращением коснулся губами краюшка задницы жены, быстро натянул стаскиваемые ею трусы и мягко сказал:
– Не сейчас, Кать. Не время. Оборонный заказ под вопросом. Выполним заказ, вот тогда…
Печально и тяжело вздохнув, Катька, как недоеная буренка, обиженно промычала что-то нечленораздельное и отползла в сторону. Умываясь, Петр Олегович решил по-тихому, не завтракая, свалить на работу. Ну, невыносимо уже было видеть престарелую дуру перед глазами. Все, достаточно, хватило ее обвисших прелестей в спальне. Внезапно ему вспомнился виденный ночью сон. Мужик в красных кедах, трансформирующийся в ослепительно белого старца, и пустота на месте герба России в президентском кабинете, засасывающая его в себя. Стало страшно. «Ну, она все-таки мать моих детей, – словно оправдываясь перед сном, подумал он, помялся немного, а потом усилил аргумент до бронебойного. – И не просто мать, а еще и дочка… Дочка друга молодости Путина». По всему выходило, нужно обязательно завтракать.
Катька сидела в расшитом драконами шелковом халате и уныло жевала какие-то итальянские травки, запивая их соком из сельдерея. Ее сходство с печальной коровой стало пугающим. Петру Олеговичу нестерпимо захотелось проорать ей в тупо жующую морду, чтобы прекратила мучить свой изношенный организм. Хватит уже, не помогут никакие диеты. Пускай жрет яичницу с салом и заедает шоколадом. Пускай опустится уже окончательно. Перестанет бороться с неизбежным и очевидным. Пусть хоть от еды удовольствие получит, а от него отстанет, исчезнет наконец из его такой яркой, не для нее предназначенной жизни. Поймав губами и затолкнув поглубже в горло рвущийся крик, Петр Олегович интеллигентно подошел к супруге, по-джентльменски поцеловал ее в проплешину на макушке и сел напротив. Нужно было объясниться. Отхлебнув несколько глотков обжигающего кофе из чашки, он понял, что готов, и хмуро пробурчал.
– Сон, сон. Сон мне приснился.
– Сон! – всплеснула руками жена. – Ох, ты, господи. Сон – это не к добру. Тебе всегда перед неприятностями сны снятся. В прошлый раз прокурорская проверка пришла. Ох, ты, господи боже мой. Что же нам делать? Сон…
«А она права, – чуть не подавился кофе Петр Олегович, – черт возьми, она права. Мне сны перед проблемами снятся. Как же я сам не догадался?» Петя не робкого десятка был человек, но сейчас труханул. В науку он верил слабо, по науке их всех уже давно расстрелять должны были, а вот в различных приметах, суевериях и вещих снах он не сомневался. Он даже допускал существование бога. Это у него в разряд суеверий входило. «Еще и сон такой дурацкий приснился, с богом как раз. И Катька сразу почувствовала. Бабы – они ведь сердцем чуют. Или чем там?»
На смену страху вернулось привычное раздражение на жену. Вот зачем она про неприятности сказала? Так бы он, может, еще и внимания не обратил на связь сна и неприятностей. Прошел бы мимо беззаботно и весело. И глядишь бы, пронесло. А так… Все, поздно метаться, запрограммирован он женой на дерьмо будущее. Не специально, но запрограммирован. «У-у-у, дура старая!»
– А чего ты каркаешь? – с ненавистью спросил он ее. – Чего ты каркаешь? Докаркаешся. Никакой папа тебе не поможет! – Он помолчал немного, спохватился вовремя и добавил: – Ни мне, ни тебе.
– Да я не каркаю, Петь, я боюсь просто, я как лучше…
– Лучше никак, чем так. Молчи лучше. Все у меня хорошо. Просто работы много. Мне САМ, – Петр Олегович закатил глаза к потолку, – мне САМ сказал: «Работай, Петя, ни о чем не волнуйся, стой на страже государственных интересов, как скала». Поняла, курица безмозглая?
– Да, да, Петенька, поняла. Мне и папа говорил, любит тебя САМ.
Сердце Петра Олеговича затрепетало, как нежный зеленый листочек на ветру. К черту сны, если САМ такое сказал, то все к черту. Можно жить спокойно и планы долгосрочные строить. Может, и от Катьки удастся избавиться в будущем. Государственные интересы, они, по-любому, выше личных. Тут никакой папа ей не поможет, если в фавор войти прочно.
– Что, правда сказал? – взволнованно спросил он. – Где? Когда? При каких обстоятельствах?
– Правда, конечно, правда, – заметалась жена. – На даче они недавно чай пили. Недавно. Не помню, когда точно. Но недавно. Тогда и сказал. Не волнуйся, Петенька.
Стало понятно, что врет старая лоханка. Его утешить хочет, исправиться. Сердце перестало трепетать и забилось еще медленнее, чем до сказанных недавно дарящих надежду слов. Настроение упало ниже ноля.
– Вот и заткнись, раз правда. Думать мешаешь, – сказал Петр Олегович, опустил глаза и уткнулся в тарелку с салатом. Несколько минут ели молча. Когда он уже собирался закончить трапезу, в столовую бодро вбежала дочка.
– Хайте мазер, хайте фазер, – сказала она кривляясь и уселась за стол.
Хайте – означало здравствуйте. Псевдоуважительная производная от английского слова «Hi». По-другому она их с 15 лет не приветствовала. Сейчас ей было уже 24. Позади остались бурная юность, традиционный для их семьи МГИМО, два мужа, один ребенок и четыре с половиной аборта. Дочка, как это и принято было в ее кругу, мнила себя творческим человеком, великим дизайнером и поэтической личностью, по божьему промыслу за великие способности избавленной от забот о насущном хлебе. Родителей она открыто презирала, считая их устаревшими смешными идиотами. Основным своим предназначением в жизни она полагала вращение в высшем свете, самовыражение и опыление окружающих своими многочисленными талантами. Самым ярким и неоспоримым проявлением ее способностей была блестящая идея декора женских прокладок под хохлому и гжель. Революционная идея захватила умы, о ней писали в модных журналах (заказуха на папенькины деньги) и даже пару раз говорили по телевизору. Разрабатывая золотую жилу, дочка додумалась украшать прокладки с внешней стороны стразами в виде царских вензелей, межконтинентальных ракет и прочей русско-советской символикой. Это возводило дизайнерские изыски в ранг актуального современного искусства. «Дура, такая же, как мать, дура, – часто думал, глядя на нее, Петр Олегович. – А амбиции высокие. Дура с амбициями, что может быть страшнее? Только дура с амбициями и деньгами, этот коктейль ужасней атомной войны будет». Он пытался несколько раз приструнить распоясавшуюся дочку, но ее очень любила жена, а главное, дедушка в ней души не чаял. Друг молодости национального лидера однажды за рюмкой чая намекнул зятю отстать от юного дарования. Петр Олегович плюнул и отстал. Так в семье появилась вторая дико раздражавшая его баба. От мелких подколок он все же удержаться не мог и в меру возможностей старался портить дочке жизнь. Настроение после «веселого» утра было поганым, появление дочурки давало замечательную возможность поправить самочувствие.
– Чему обязаны столь ранним появлением? – ехидно спросил он. – Обычно в восемь утра у вас after party в самом разгаре. Завтраки в «Пушкине» и тому подобная хрень для возвышенных натур, гуляющих на родительские деньги. А, доченька, чему обязаны?
– Ну зачем ты так? – встряла жена. – Не надо, Петенька, она уже три дня из дома не выходит.
– Готовилась, значит, сейчас попробую угадать к чему. Папка ведь у вас Шерлок Холмс, отличается умом и сообразительностью. Да, доченька?
Доченька молча улыбалась, нагло глядя ему в глаза. Улыбка взбесила Петра Олеговича. «Скажу, все скажу, – задыхаясь от гнева, думал он, – она не Катька, она плоть моя и кровь. Скажу, имею право. Никто мне ничего не сделает». Он перестал смотреть на дочку, боясь, что не выдержит и ударит ее, повернулся к жене, развел руки и нарочито по-стариковски закряхтел:
– Ну, мать, не бином Ньютона. Я думаю все просто. Варианта три. Первый. У великого творца критические дни. Творец заперся в своей башне из слоновой кости и испытывает на себе удивительные изобретения в виде прокладок с ликом Юрия Гагарина из стразов на внешней стороне и хохломским узором на внутренней.
Жену буквально скрючило от произнесенной им фразы. При всей своей похотливости и тупости, она была искренняя и страстная ханжа. Разговоры на половые темы допускались исключительно в спальне. А тут прокладки, месячные, в столовой, за едой, еще и при дочери… Петр Олегович порадовался удачному дуплету, что двух ненавистных баб задел разом, и быстро развил успех.
– Нет, Кать, думаешь, нет? Ладно, согласен. Тогда другое. Может быть, ебаря ее очередного надо к папашке на работу устроить? У меня, Кать, целый отдел из них состоит, скоро до департамента расширять придется. Сидят, ни хрена не делают, а зарплату высокую получают.
Катька закрыла лицо ладонями и начала постепенно оседать под стол. На дочку Петр Олегович не смотрел, но чувствовал, как она буравит его щеку ненавидящим взглядом. Взгляд дырки в щеке не прожигал. Наоборот, пощекотал приятным теплом. А вид старой тупой коровы на грани обморока усиливал терапевтический эффект от беседы. Петр Олегович якобы взволнованно приподнялся на стуле и потянулся в сторону жены.
– Ты чего, Кать? Да не волнуйся ты так. Нет, говоришь, нового любовничка? Ну, нет, и не надо. Ты, главное, не волнуйся. Появится. За ней не заржавеет. Все будет у нее в порядке с личной жизнью. Я и вакансии новые в отделе для ебарей приготовил. С таким папой и дедушкой она точно мужским вниманием обделена не будет. Не волнуйся. Временные трудности всего лишь. А раз временные трудности, то остается только одно. Я практически уверен. Да нет, точно уверен. Деньги! Творцу нужны деньги. Поиздержался творец в очередной раз. Так?
Он повернулся и впервые за свой монолог посмотрел на дочь. Она по-прежнему улыбалась. Только улыбка походила больше на гримасу. Презрение, ненависть и злоба были в улыбке. Не дай бог увидеть такую улыбку на лице своего ребенка. А Петр Олегович обрадовался. «Получай, получай, сука, – довольно думал он, – получай, хлебай половниками, тварь зажравшаяся. Хлебай, никакой дедушка не поможет. Я в своем праве дочь воспитываю». Они смотрели друг на друга несколько секунд, а потом дочка медленно отвела глаза, уставилась на мать и светским тоном произнесла: