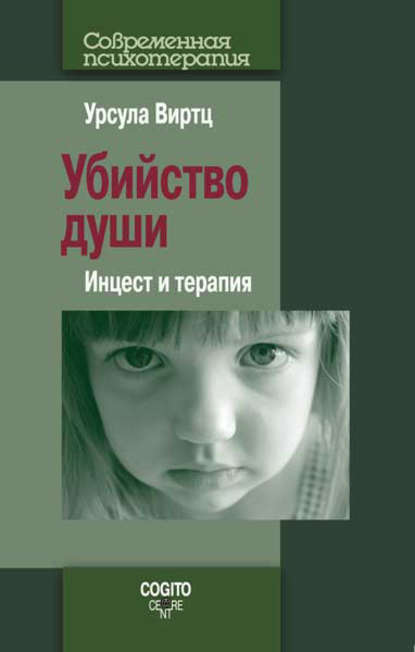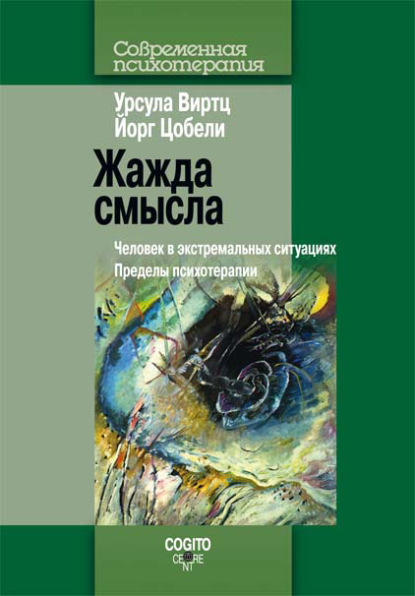
Полная версия
Жажда смысла. Человек в экстремальных ситуациях. Пределы психотерапии
Толстой описывает, как крестьянин борется в поте своего лица за землю. С утра он был полон решимости обойти как можно больше земли, как можно дальше раздвинуть границы своих будущих владений. Его оптимизм помогает ему собрать все силы; Пахом бодро пускается в путь, идет все дальше и дальше, а солнце неуклонно движется по небосклону вместе с ним.
То же самое происходит в первой половине нашего «дня» жизни: мы полны желания творить и действовать. Мы живем, руководствуясь фрейдовскими ценностями – способностью работать и получать удовольствие. Солнце вместе с нами поднимается к своему зениту, мы живем в согласии с природными циклами, нам нетрудно под них подстраиваться. Наша современная цивилизация ориентирована на бесконечный рост и линейный прогресс. Нам внушают, что мы только выиграем, если примем сегодняшнюю идеологию благосостояния и потребления. Но в рассказе Толстого естественный ход событий принимает другой оборот.
После полудня солнце начинает клониться к закату. Вечер все ближе. Тут герой рассказа замечает, что переусердствовал, и это может обернуться против него. Нужно рассчитать свои силы и ограничить себя. С одной стороны, он хочет получить побольше земли, а с другой стороны, боится все потерять. «Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал?.. Ах, думает, позарился я, все дело погубил, не добегу до заката… И еще хуже ему от страха дух захватывает… Помереть боится, а остановиться не может… Столько, думает, пробежал, а теперь остановиться – дураком назовут».
Здесь мы встречаемся с экзистенциальной темой – конфликтом между жадностью и духовными запросами, с дилеммой «иметь или быть», выиграть или отказаться от борьбы, с конфликтом между автономией и приспособлением к внешним обстоятельствам и к собственному характеру.
Пахом понимает, что стал жертвой своей жадности, но до последнего надеется выполнить уговор и успеть вернуться к месту, откуда ушел, лишь бы ничего не потерять. «Земли, думает, много, да приведет ли Бог на ней жить… Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краешком заходить стало и дугой к краю вырезалось».
Эта задача стала для него экзистенциальным вызовом, то есть вопросом жизни и смерти, и герой рассказа из последних сил возвращается к тому месту, откуда он ушел. Но это становится пределом его существования.
«Пахом… ахнул, подкосились ноги, и упал он наперед… Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит… Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил – три аршина, и закопал его».
Пахом очертил границы своего жизненного пространства и завершил свой жизненный круг, но оказалось, что земли-то ему нужно немного, лишь чтобы его похоронить.
Мы поняли бы Толстого неверно, если бы стали морализировать, будто герой рассказа совсем не понял, что такое смысл. Мы можем предположить, что он, по крайней мере, утром, осознавая свою творческую силу, открыл для себя «частичный смысл», а может быть, в состоянии отчаяния, на пределе своих сил, он постиг и значение целого, то есть трансцендентный смысл.
Переживание смысла может стать актуальной темой, когда мы до предела измерили длину и ширину нашего жизненного пространства, когда мы обрели свое Я и то чувство, с которым не хотим расставаться, – «что это еще не предел». От нас требуется использовать все возможности, чтобы не «зарыть свой талант в землю». И мы можем прийти к переживанию на грани своих сил, что «делание», то есть «миф о Homo faber», не может быть окончательным смыслом и полнотой жизни.
Для Пахома, во всяком случае, круг замкнулся – его жизненная драма закончилась. «Вся пышность лета на весах», – вспоминаем мы другую литературную интерпретацию этой темы – стихотворение Рильке «Осенний день»[10]. За летом следует осень – то время, когда становится ясно: «Бездомным – дом уже не заводить». Потом приходит время раздумий о себе, когда человек «слать будет долго письма без ответа», оглядываться и одновременно предчувствовать конец. Даже если он не принимает как данность цикличность жизненных и природных процессов, жизнь все равно возьмет свое. Тогда возможна болезнь, от которой не отмахнуться, «экзистенциальный вакуум» или «кризис среднего возраста», и это заставит человека искать смысл. И можно считать себя счастливым, если удается «выткать узор своей жизни», то есть завершить свой жизненный путь без горечи и паники, включить смерть в свой жизненный план и взглянуть на целостность бытия. Уважать пределы своего существования – значит не тешить себя надеждами на потустороннее спасение или на еще одну «новую инкарнацию», а настроиться, прежде всего, на то, что существование человека конечно, что ему «придется уйти» и что его «жизнь имеет цель», которая одновременно является пределом его существования (вспомним «Немецкий реквием» Иоганна Брамса).
Иметь мужество «смотреть в лицо» этой последней реальности и примириться с ней означает жить, осознавая конечность своего существования, пережить «смерть до смерти», учить Эго «отпускать» и активно практиковать это в медитации. Благодаря этому, как писал Лютер, можно даже накануне апокалипсиса не сдаваться, а «сажать яблоньку»: это действительно мистический настрой, ибо человек больше заботится не о спасении души в будущем, а о жизни в сегодняшнем, настоящем как о наивысшей ценности.
3. Находить или созидать смысл?
Осмыслять и воздействовать
Нет и не будет никакого блага, если человек не создаст его.
Э. КестнерБольной ничему не научится, если избавится от невроза, напротив, он может научиться чему-то, только страдая от него. Ибо болезнь не является лишним, а потому бессмысленным грузом, болезнь – это сам пациент.
К. Г. ЮнгСебя чтоб в бесконечности познать,Уметь ты должен различать, затем – связать.И. В. ГётеВ психотерапии мы постоянно задаемся вопросом, как вести себя с людьми, которые страдают от бессмысленности своей жизни. Должна ли психотерапия развивать «способность пациента постигать смысл»? (Petzold). Должна ли и может ли психотерапия создавать смысл или ей следует ограничиться лишь указанием путей к обретению смысла? Может ли вообще смысл быть создан или его можно лишь обнаружить, потому что смысл всегда «уже есть»?
Эта тема занимала не только психотерапевтов, она восходит к старому философскому спору между номиналистами и реалистами. Для реалистов вещи имеют ценность сами по себе. Номиналисты, напротив, утверждают, что никакой самоценности вещей нет, а есть лишь их категории на основе сходства, названия (от лат. nomen – имя). Поэтому в вещах нельзя найти смысл, а можно только им его придать. Такой подход, когда смысл может быть только придан, привел к позитивизму, который подчеркивает роль прикладных знаний, поскольку естественные науки и техника достигают в своем развитии небывалых высот. В то же время все духовное и нуминозное обесценивается как мистически неопределенное и ненаучное, то есть считается бесполезным. Такая односторонняя позиция явилась одной из важнейших причин современного коллективного кризиса смысла и привело к ограниченному дуалистическому мировоззрению «или – или».
Мы полагаем, что смысл существует в обоих аспектах: созидание смысла и обнаружение смысла. Мир объектов обладает собственным смыслом и ценностью, которые можно постичь, и для этого требуется человек, действующий по отношению к миру как «смыслообразующий» субъект, наделяющий объекты ценностью. Тогда психотерапия может помочь открыть и обнаружить смысл, а также снять преграды, которые мешают человеку порождать новые смыслы.
Нужно уметь видеть собственную ценность вещей «открытым взором», ведь «взгляд» и «вещи» взаимно отражаются. Гёте писал: «Когда б наши очи не солнцу сродни, вовек не видали бы солнца они»[11]. Если в такой игре взаимных отражений «обнаруживается» смысл, то человек вовлекается в нее, созидая смысл ответственно и «в ответ».
Философы, теологи и психологи столкнулись с неоднозначностью взаимоотношений между «обнаружением» смысла, с одной стороны, и «созиданием» смысла – с другой. Высказывались различные мнения по поводу того, что важнее, или обсуждалось то, как гармонизировать эти взаимосвязанные аспекты смысла.
Франкфуртский профессор Руперт Лей, теолог, психотерапевт и специалист по теории науки, выдвинул идею, что «истоком смысла является действие». Это значит, что на первом месте для него стоит создание смысла. «В моей жизни ровно столько смысла, сколько я ей его придаю. Рациональное обнаружение смысла и рациональное его обоснование не согласуются с надеждой, что жизнь обладает смыслом, который мне могли бы сообщить другие или что они могли бы (и должны были бы) мне помочь в его поисках» (Lay, 1990, S. 113). Смысл требует от человека затрат собственных сил, и дело того стоит. В процессе принятия маленьких повседневных решений смысл должен быть «отделен от бессмыслицы».
Еще сильнее акцент на созидании смысла выражен у К. Г. Юнга, который считал, что человек, опираясь на творческий потенциал своего сознания, созидает мир и тем самым «в известной степени подтверждает Творца». При этом человек придает миру объективное бытие (Jaffe, 1983). «Без рефлексирующего сознания человека мир наполнен колоссальной бессмысленностью, ведь человек по нашему опыту – единственное существо, которое вообще способно определять „смысл“» (Jung, 1971b). В этом Юнг подобен мистикам, считавшим, что человек необходим Творцу, так же как Творец человеку:
Никто – ни Бог, ни я —не мал и не велик.Тянусь ли я к нему ильОн ко мне приник?[12]Ангелус СилезиусДля Юнга естественно, что обнаружение смысла и открытость человека нуминозной и религиозной функции души так же важны, как и созидание смысла.
Теолог Иоганн Лотц признает значимость обоих аспектов смысла и различает «сотворенный смысл» и «найденный смысл» (Lotz, 1977). Но он предостерегает: нельзя злоупотреблять аспектом созидания смысла и приводит в пример Блоха с его «Принципом надежды». По мнению Лотца, следуя этому принципу, человек упорно стремится «гуманизировать мир», что является недостижимой утопией. Стремясь к ней, человек «замыкается на частичном смысле», так как «созданное человеком никогда не может быть целостным и окончательным, в нем есть незаконченность „еще не“, и потому оно – лишь фрагмент, нечто предпоследнее» (Lotz, 1977, S. 81).
Гюнтер Андерс также подчеркивает, как опасно переоценивать создание смысла, иронически переиначивая поговорки:
«Всяк своего смысла кузнец»[13] и «Была бы воля, а смысл найдется»[14]. Возможно, в последнем случае Андерс намекает на понятие «воля к смыслу», введенное Франклом (Anders, 1981). Андерс иронизирует над наивными психологами, теологами и философами, которые считают, что можно «позаимствовать» смысл. Он негативно относится к «суррогатам смысла» и к «выдуманному смыслу» и потому требует от человека способности выдерживать ощущение настоящей бессмысленности. Оно, по его мнению, является не патологическим, а, наоборот, представляет собой «признак здоровья» и истинное восприятие, поэтому от него не следует «лечить». Он саркастически замечает, что такие психотерапевты «похожи на врачей, которые не отправляют голодного человека в ресторан, а делают ему укол против чувства голода. За гонорар» (Anders, 1981, S. 370). Для него сам вопрос о смысле является выражением «человеческой мании величия», ведь человек ищет ответ на вопрос о смысле только своего существования и никогда не о «смысле существования комара, и уж тем более – некоего конкретного комара». Как и Андерс, Адорно критикует распространенную в американской литературе концепцию «созидания смысла любой ценой» (Grom, Schmidt, 1975).
Для Свена Гасиета смысл основывается на сбалансированной связанности обоих аспектов, которая возможна с помощью базового управляющего принципа. Хотя он и называет этот принцип «базовой потребностью в порождении смысла», но из данного автором определения ясно, что он подразумевает сочетание обоих аспектов. По Гасиету, эта базовая потребность способствует объединению гетерогенных элементов действительности в целостный гештальт и опосредует другие потребности. Кроме того, из этой потребности вырастают такие «продукты», как мифы, религиозные системы и произведения искусства (Gasiet, 1981).
У экзистенц-аналитика Альфрида Лэнгле оба аспекта смысла тоже связаны друг с другом (Längle, 1988). Он считает необходимым, чтобы сформировалось всеобъемлющее «экзистенциальное Dasein-отношение», которое обеспечивает «балансирование» между обнаружением и порождением смысла. Оно опирается на открытость миру при обнаружении смысла и на творческую активность самого человека как на способ созидания смысла. По Лэнгле, открытость миру при обнаружении смысла соответствует в логотерапии и в феноменологическом подходе принятию того, что есть, таким, каково оно есть (So-sein), а также открытости тому, что «меня касается» и «мне противодействует». Причем такая открытость ведет через «амбициозный характер» и «запрос на смысл» к ответственности (ответственной активности) и затем – к созиданию смысла. Таким образом, по Лэнгле, с одной стороны, смысл имеет объективный аспект, связанный с актуальной ситуацией и соответствующий непредвзятому вниманию при обнаружении смысла, а с другой стороны, присутствует субъективный аспект, который реализуется и участвует в созидании смысла только индивидуально. Франкл подчеркивает аспект обнаружения смысла, когда говорит, что «смысл не может быть выдуман, а может быть только найден», но и он признает, что при ответственной активной реакции на потребность обрести смысл человек его порождает.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Рено ван Кекельберге (Renaud van Quekelberghe) – психолог, автор первого базового исследования по интегративной психотерапии (1979), которое стало квалификационной основой для клинических психологов в Германии. Автор книг по трансперсональной и кросскультуральной психологии, также писал о роли духовности в психотерапии. – Прим. пер.
2
Limen (лат.) – порог.
3
И. В. Гёте. Фауст / Пер. Н. Холодковского; цит. по: Гёте И. В. Страдания молодого Вертера. Эгмонт. Фауст. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 246. – Прим. пер.
4
Вольф Би́рманн (Wolf Biermann, род. 1936 г.) – немецкий бард, в 1970-х был одним из самых известных диссидентов в ГДР. – Прим. пер.
5
Ноумен (от гр. noúmenon – постигаемое) – термин, широко распространенный в философии средневековья и нового времени, обозначающий нечто умопостигаемое в противоположность феномену, данному в опыте и постигаемому чувствами. – Прим. пер.
6
Шиллер Ф. Долг каждого / Пер. с нем. Е. Эткинда; цит. по: Шиллер Ф. Собр. соч. В 7 т. М.: Худ. лит., 1955–1957. Т. 1. С. 231. – Прим. пер.
7
Особо (лат.).
8
Пер. Г. Егерман; цит по: Фонтане Т. Эффи Брист. М.: Худ. лит., 1960. С. 281. – Прим. пер.
9
Толстой Л. Н. Собр. соч. В 12 т. М.: Правда, 1987. Т. 9. С. 358 и далее. – Прим. пер.
10
Пер. с нем. В. Куприянова; цит. по: Рильке Р. М. Стихотворения. М.: Радуга, 1999. С. 81. – Прим. пер.
11
Гёте И. В. Кроткие ксении. Кн. 3. – Прим. пер.
12
Пер. Н. Гучинской; цит. по: Силезиус Ангелус. Херувимский странник. СПб., 1999. С. 57. – Прим. пер.
13
От «Всяк своего счастья кузнец». – Прим. пер.
14
От «Была бы воля, а путь найдется». – Прим. пер.