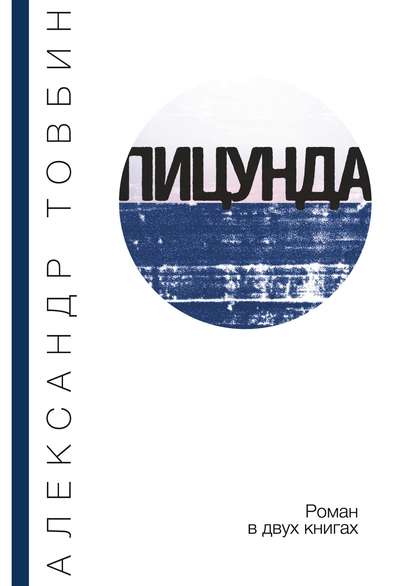Полная версия
Приключения сомнамбулы. Том 2
У киоска «Союзпечати» ждали подвоза прессы.
Свернули на Невский.
– Но внезапно романист трезвеет. Тужащегося в очередной раз углубиться и скорчить умную-преумную рожу соискателя истины озаряет вдруг, что не существует объективно, вне связи с ним – таким уязвимым, сомневающимся – бытующих где-то за небесным куполом контекстов-подтекстов, нет без него изначальной глубины сущего; романист внезапно остаётся один на один с нескончаемой поверхностью, все-все признаки вожделенной глубины шифрующей в узорах-изображениях, он всматривается в ковёр, сотканный Богом, понимает, что в текст узорчатые тайны ему придётся сводить перекодирующими божественный шифр простыми словами, находить свой порядок, за словами ничего нет, понимает он, всё в них. Опять занесло? – сводить, перекодировать… подобное, как, впрочем, и противоположное сказанному сейчас, Соснин многократно от него, да и от Шанского, выслушивал, но Валерка с раскованным вдохновением первооткрывателя вертел по сторонам головой, – вот, смотрим и не видим, а в ход непроизвольно пускаем то, что…
мир как продукт бокового зрения– Да, образ мироздания вырастает из всякого достойного текста не целенаправленно, образ лепится из случайностей, несуразностей, разного рода мелочей, донимающих на каждом шагу, однако зачастую остающихся не замеченными, точнее – не отмеченными вниманием, а там, за границей непосредственного внимания, за рамкой условного кадра, возможно, главное…
– И опять та же закавыка отрезвевшего романиста – для расширения поля зрения и сращивания в воображении всего-всего, что тревожит всеядные творческие рецепторы, нужен внутренний закон, хотя бы правило, которое ведало бы неявным отбором и охраняло тайну смыслового напряжения текста… бесхитростная задачка – искать особый порядок для простых слов. Искать композицию.
Часы на Думе пробили два раза.
время умозрительного романаОбнаружилась потерянная нить!
– Расквитавшись с завлекательным сюжетом, повествовательностью, за миф цепляются как за последнюю скрепу. Через пятьдесят лет после Джойса! Неужто, навсегда опьянили античные сказки, пусть и настоявшиеся в веках, будто бы вино в амфорах? Неужто, христианская культура рассыплется без связей с языческими героями и богами?! Мифология сделалась модным паролем современности, мол, рвёмся в будущее, подгоняемые ветром прогресса, но мы все оттуда. Запустили по кругу переложения прелестных баек, мечтаем покачаться заново в колыбели культуры, будто человечеству дано снова впасть в детство. Между тем античная энергетика исчерпана – вот и зачарованная усталость, климакс искусства. Желаний невпроворот, а приёмов схватывания, удержания Большой формы нет, как нет. Нужен прорыв: и охранительный, и варварский прорыв в неизвестность, как уже случалось. Дерзкая художественная мифология, пусть и вдохновляясь древней, античной, может, как доказано, обладать суверенной мощью! Я не о том, что «Улисс» затмил «Одиссею», избави бог, я о могуществе мифа, которым сам этот роман стал; один день вместил мир и…
– Сверхсложный роман?
– Главное – своевременный! И – на все времена!
– С чего бы это?
– Цепко и подробно схвачена-охвачена жизнь, вся жизнь! – ни у кого не получалось в конкретный календарный день все времена вместить. И вся-вся, огромная, необъятная жизнь, к которой, такой огромной, безграничной, не подступиться, – как будто под микроскопом! Каким образом жизнь схвачена? Время, сжатое до границ дня, вмещает целый объёмный мир, и потому всё, что происходит в этот день, обретает выпуклость, чёткость, все мелочи становятся удивительно значимыми, внутренне-весомыми, взаимосвязанными, – повернулся с сомнением к Соснину, поймёт ли? – едет колымага, жуют за стеклом кафе, кого-то хоронят, а действие, привычное нам, развращённым повествовательностью, романное действие отменено, сюжет парализован. Зато хочется следить за сменой формальных приёмов письма, в текст хочется всматриваться… тебе это должно быть близко.
И многие ли из сравнимых с Валеркой уникумов вытерпели прочесть, всматриваясь в детали, чтобы улавливать общий смысл, тягостный роман-миф от корки до корки? На русском, ибо перевода нет, вообще никто не читал! Однако могущество мифа было налицо, разрасталось. Валерке хотелось верить на слово, он-то читал «Улисса»; и уже прочёл «Аду».
– И знаешь почему ещё – «Роман без конца»? Великие модернистские романы я воспринимаю как недописанные, у них открытая композиция, их продолжат…
Над Невским, залитым ярким холодным солнцем, посвистывал ветер.
– Ну и лето! – поёжился, поднял воротник курточки, поправил шарф, – жаль, Шанский, наверное, ещё в Коктебеле, не погреться в его котельной.
Какая котельная в июне? – удивился Соснин, но промолчал; и разве Шанского не уволили из котельной?
Пьяно покачивалась фонтанная струя у Казанского. Синюю рябь канала заглаживали плоские льдинки.
– Конечно, миф соблазняет сочинителя циклическим временем, которое невидимым обручем удерживает текст от распада. Однако фокус не в сюжетах сказок, не в подвигах героев. Не надо путать причину со следствием! Мы – дети линеарного мира, ибо уверовали, что время направлено из прошлого в будущее. Голгофа разомкнула круговое время язычников – из календарной точки побежали по прямой годы… и на тебе – возвратная тяга на круги. Вот оно! Циклическое время – продукт вовсе не мифа, лишь задавшего циклическому времени формальную оболочку, но подсознания; в противовес условному, обслуживающему текущие идейки прогресса линейному или условно-спиральному – любимый образ марксистов – времени, напор самовыражения художника, его пытливая память самостийно способны вживлять цикличное время в текст без перемигивания с античной традицией. И в этом смысле романная форма – суть форма воплощения мифа. Да и наша спящая, погружённая в ужасные сны страна, её коллективное подсознание, в котором слиплись страхи и мечтанья многомиллионного имперского «я», стонет и ликует вовсе не в историческом, а циклическом времени. Пробуждения материализуют кошмары, страна встаёт на бой, – Валерка замер на краю тротуара, – такси сворачивало с набережной на Невский.
И будто сначала! Сам с собой спорил?
– Наскучили сочинения с последовательными временными коллизиями! Приключения в освоенном времени-пространстве буксуют, время, чистое время, для литературы всё ещё чуть ли не запретная территория… ну да, белое пятно… Время, – продолжал, – это не стрела, это среда, среда, эффект длительности усиливается в тесноте, толчее, все странствия Одиссея, все его приключения развёртываются на морском пятачке, утыканном карликовыми островками, но какое уплотнение времени, какая иллюзия протяжённости… – далее Валерка походя пнул ясперсовское осевое время, ему, дескать, не сладить из индивидуальных озарений цельную философию истории… – К чему я? – спросил себя Валерка, передразнив кокетливый вопрос Шанского, который тот обычно задавал себе, запутывая дискуссию, Валерка тоже боялся, по-видимому, что не справится с расхлябанностью собственных мыслей и окончательно провалится в сивый бред, однако сразу же, и озорно, как только он умел, глянул на Соснина: сам-то он, пытаясь объясниться, возможно и сплоховал, но зато готов похвастать чужими, выгодно присвоенными премудростями – пассажи из четвёртой главы «Ады» были и впрямь блестящими… но почему пространство – это толчея в ушах, не в глазах? С фанатичной угрюмостью Валерка помечтал о том, чтобы парадоксы времени врывались в зарождавшийся текст, наполняли энергией, деформировали исходные композиционные схемы. И заряжали тайным знанием о том, что будет. Хотя, заряд этот и так издавна ощущался, мечтай, не мечтай. Гениальное произведение – сколок, – объявлял Валерка, – в нём чудесно отражается весь мир искусства, все-все не только старинные, но и перспективные открытия – приёмы, формы. У Моцарта обнаружены джазовые синкопы, ещё бы, ещё бы, художника, пусть и кумира гармоничной эпохи, болезненно облучает будущее, возбуждает и тревожит задолго до того… Соснин вспоминал: «всё, что до меня – моё! И всё, что после меня – тоже моё!»… отрешённо слушал; от бомбардировки зажигательными идеями, как часто случалось с ним, успокаивался. – Чур меня, чур меня! – откуда-то доносился Валеркин голос, – речь не о фантастах недоброй памяти, которые, очертя головы, запускают героических бедолаг шастать по грядущему на фотонных ракетах, по мне бы, – вскинул окантованный солнцем профиль с носом-секирой, – по мне бы запустить «я» в цикличное время, охватывающее разные времена…
Запускали, сколько раз запускали…
Соснин оглянулся на башню Думы – стрелка сползла вправо на пять минут – вспомнил опять, что об этом Валерка уже писал, причём строго вполне и стройно – «Время как белое пятно…» напечатали «Часы».
в отделе художественной литературы Дома КнигиГрязные протёртые выщербленные ступени… Бедный Сюзор!
На лестнице толкались мордастые спекулянты с пикулями в портфелях, по стенке жалась немая чёрная очередь, которая на верхней площадке безнадёжно упиралась в толпу – давали «Петербургские повести», изданные в Бурятии на серо-жёлтой, с занозами-щепочками, бумаге.
Протиснулись к прилавку поэзии.
Облокотясь на массивную дубовую столешницу, протянувшуюся между двумя витринками с тусклыми исцарапанными наклонными стёклами, где были достойно похоронены Прокофьев и Наровчатов, огромный, улыбчиво-красногубый Лёня Соколов громко, во весь голос, как если бы дразнил осаждавших кассу книголюбов, хвастал покупкой в высокогорном киргизском кишлаке однотомника Гессе, в доказательство вытащил из сумки, с торжествующей небрежностью полистал на глазах завистников «Степного волка»; потом похвалил самиздатовского Кривулина, спросил у Бухтина, когда тот, наконец, переведёт Музиля.
В турбулентности на подступах к заветной кассе потел Акмен; увидел Валерку с Сосниным, оптимистично поднял в приветствии руку с зажатыми в кулаке деньгами.
– Где тут Пикуля, Хейли и ещё того… ну, немца…
– Он что, брат того…?
– Брат, брат.
– На сколько килограммов талон?
– Пятнадцать.
– Пикуля и Хейли только за двадцать пять.
– А Гоголя?
– Гоголь в открытой продаже, – рука вытянулась к массовой потасовке, из последних сил яростно проталкивался к кассе Акмен.
К другой кассе вился хвост везунчиков, у них был шанс отоварить, то бишь поменять на ходкие сочинения в твёрдых, пропахших клеем переплётах, талоны за сданную макулатуру; на пятнадцать килограмм меняли Генриха Манна, «Верноподданного»; с отталкивающим – под чёрным готическим шрифтом – типом на жёлтой обложке.
Валерка полюбезничал с Люсей Левиной, ввязался в болтовню книжников, а Люся, посмеиваясь, парируя шутливые колкости, поманила Соснина свежей книжечкой Кушнера; тихо вышел из библиографического отдела Шиндин, одобрительно кивнул, удостоверил качественность стихов.
Шиндин прислушался к болтовне, с тихим ужасом в глазах и усталой улыбкой на устах посмотрел в потолок, закачал головою, зашептал. – КГБ, КГБ, КГБ…
Из толпы выбирался распаренный счастливый Акмен с добытым чеком, достались-таки «Петербургские повести».
Опасливо оглянувшись по сторонам, Люся вытащила из-под поэтического прилавка и протянула вдобавок к книжечке Кушнера сжатые канцелярской скрепкой листочки папиросной бумаги с тусклой машинописью «Римских элегий», Соснин торопливо сложил, сунул во внутренний карман пиджака.
текст как город?(с Носом – по Невскому)В дверях едва не столкнулись с Сашкой Товбиным; спинами почуяли, тот обернулся, посмотрел вслед. Увидели перебегавшего Невский Дина.
Валерка вызвался проводить.
Снова зашагали по Невскому, только в обратную сторону. Льдины в канале укрупнились, их стало больше.
Шарф по ветру, глаза взблескивают… одна рука в кармане, другая взрезает небо… Нос навеселе.
Любопытно! – доходило до Соснина, – сам он, мучительно и своевольно перекомпановывал в воображении дома и пространства; Шанский, пускаясь во все тяжкие, ошарашивал интерпретациями; оригинальными, завиральными, какими угодно, но – интерпретациями того, что бытовало в натуре, в слитности слов, камня, воды и воздуха, того, что жило в тех, кто слушал лекции Шанского, как образ Санкт-Петербурга. А Валерка ничего из реально существовавшего не перекомпановывал, не интерпретировал. Отталкивался от того, что знал, любил, и сейчас, здесь, пируя ли, вышагивая по Невскому, упивался необозримо-невиданным размахом и внезапной красотой замышляемого; свято веря, что покончит с упадком жанра, творил фантомную прозу, чтобы когда-нибудь потом, одолев соблазны интеллектуальной и эмоциональной праздности, дисциплинировать ум, строгим языком построить романические структуры будущего… как водилось, контекст опережал текст. И до чего последователен, неутомим был Валерка в своих потугах объять необъятное, соединить несоединимое, срастить все филологические методы и подходы! Он, истинный наследник формалистов, относился, конечно, к тексту как к замкнутому самодостаточному феномену, в самой форме своей зашифровавшему все свои тайны, и он же верил в художественное всесилие внетекстовых связей, уникальности авторской личности, биографии. Давняя страсть к выявлению-обозначению границ обернулась поисковым бытованием в бескрайней сплошной динамической пограничности – между текстом, который он непрестанно творил в воображении, усложнял попутными домыслами, апокрифами… и текстом, который, опять-таки в воображении, тут же принимался исследовать, случалось, что и безжалостно критиковать; собственно, он сам творил слитную пограничность филологического романа.
– Выкинь из головы всё, что я тебе наговорил, – опустил воротник куртки, надвинул на лоб плоскую вельветовую кепчонку, отчего ещё сильней выдался вперёд нос, – к вечеру моя бормотуха перебродит в скучненький инерционный доклад.
После взлёта – самоуничижение?
Молча пересекли под землёй Садовую.
На углу Малой Садовой Валерка закричал, замахал. – Володя, Володя!
И Володя Эрлин, который входил в кулинарию «Елисеевского» за ежедневной чашечкой двойного кофе, оглянулся, придержал дверь, тоже махнул, узнав.
– Как ни крути, соревнование с Богом ли, Библией, восхищает, конечно, бесстрашием, но никакой тотальный текст всё не схватит, хотя попытка всё схватить за один летний день в одном городе вылилась в фантастический романный опыт, – давал-таки задний ход? – Валерка снова завертел головой, описал круговым взмахом руки небо, фасады, прохожих, зазеленевший на зло холодам Екатерининский садик. – И, само собой, широту зрения Создателя не превзойти, – Валерка, только что взахлёб рассказывавший о всеохватном опыте Джойса, повторно взмахнул рукой, – ну как можно всё это затолкать в жанр? Или даже в полижанровую бесформенность! Смотри, в подворотне фарца кучкуется, дети скачут, и куст шевелится там вдали, под Аничковым дворцом, смотри, смотри наползает и тает тень, и – блестит анодированная жестянка, Высоцкий хрипит в машине, за окном – пустые бутылки, и автобусы, троллейбусы – мимо, люди снуют, толкни дверь – спят, жуют, целуются, умирают, и всё – рядом, всё – сразу, одномоментно, таких точек-моментов – тьма! Постигаем ли мы словом динамичный гибрид невообразимой сложности? А свёртывание в миф истории? А зов будущего? Куда, зачем несутся птица-тройка ли, электричка? Не дают и не дадут ответа, – заразительно засмеялся.
У Соснина запрыгали в глазах чёрные точечки.
За ними, за точечками, словно за облачком мошкары, ступеньки вниз, «Аврора», полуподвальное молочное кафе. На краю голубого пластмассового стола замусоленное меню, едят сосиски, ну да, исключительно молочные сосиски. Рядом – «Охота и рыболовство», перовские хвастуны с двустволками на привале, объёмные… из воска, как у мадам Тюссо? С жалкой механикой, когда-то удивлявшей, ого, и сейчас детей не оттащить от стекла – у охотника медленно, дёргаясь, вздрагивая, двигается рука. Где-то спрятан моторчик… электропроводок-нерв… Натюрморт из экипированных тел, ружей, пернатых трофеев в пейзажном пыльном папье-маше… серо-зелёный с коричневым передвижнический натюрморт-макет… всё тусклое, выцвел изумрудный блик на затылке селезня… Зарос грязью угол витрины.
Оглянулся. Выбеленные щиты по сторонам дворовой арки, мимо которых только что прошагал. Что-что в «Авроре»? А-а-а, мура… Зато с послезавтра – «Зеркало»!
– Или, – возобновился монолог Бухтина, – близкое тебе единство в многообразии: как родилось сие самодовольное разностилье? Сумбур вместо застывшей музыки.
Повинуясь взмаху Валеркиной руки, взгляд заскользил вдоль знакомого до мелочей непрерывного рельефа фасадов.
– Вот, – не унимался Валерка, как обычно, пересыпая речь фразами из романов, которые переводил, – сплотились в парадный ряд пышные, обжитые и наново обживаемые надгробия, почтившие почившее время. Шанский мог весело и умно болтать на любую, самую каверзную тему, на всю катушку запускал язык без костей, а Валерка опять внушал нечто нутряное и смутное, что и для себя, похоже, не прояснил… сам себе охотно противоречил, переводные премудрости не помогали формулировать ясно.
Три ступеньки вверх, «Фарфор и стекло».
Не тут ли был когда-то шахматный магазин?
Или чуть подальше, там, где вверх четыре ступеньки?
Слушал вполуха, но то, что зацепляло, – присваивал; передалось суггестивное Валеркино напряжение, тот, похоже, зачитывал куски из своих недавно сделанных переводов, а Соснину привиделся текст, ячейки его нечаянной образности, разбросанные по затхлому времени, кое-как обживались, тут, там – подобия морщинистых, немигающе-многоглазых физиономий, старательно задрапированных штукатурными складками бюстов, пузатых тел. Попадались кичливо-породистые, а так… вполне добропорядочные пожилые кривляки, греющиеся на солнце, иные – с налётом сонного демонизма; благополучные, заросшие жирком приспособленцы, застылые в своём упрямстве задержать перемены. Или они и заподозрить не смогли бы, что беременны ими? Бездумно-гордые, самодовольно-усталые – устали от слепой веры в то, что их затверделые вялые ухмылки останутся во веки веков прекрасными? Туповатые, подслеповатые. И всё-таки самим видом своим они противились любой попытке взлёта, силились упрочить вкусовую неразбериху, царившую в головах и сердцах тех, кто проживал в них, проходил мимо; как напыжились… грудастые паралитики, в старомодных шляпах; пожалуй, затруднился бы определить пол – тётушки, дядюшки? Уличная прорезь во фронте домов уводила влево, к Манежной площади. Переход. Розоватый пилон цирка на миг запер далёкую боковую перспективу. Угловые ступеньки вверх, булочная. Валеркин монолог заглушался уличным шумом, туповатые лики, бюсты срастались в неупорядоченную череду простенков, стёкол… – фасады привычно сплачивались внутри протяжённой и объёмной, испещрённой штукатурными деталями формы. Догоняя, устремляясь вперёд, накладывались, теснясь, эркера, лепные гирлянды, арочные проёмы, витые балконные решётки, пилястрочки, кариатидки, фронтончики, аттики, башенки, чешуйчатые шатры мансард. До чего, однако, рачительно время в периоды безвременья! Собраны и напоказ выставлены слепки вымученного, если не извращённого почтения к идеалам красоты минувших эпох, ко всем их готикам-ренессансам. А под ногами окурки, растрескавшийся асфальт. Ты, с детских лет утюживший Брод, был, оказывается, приглашён на бессрочный эклектический пир безвестных теперь, как выяснилось, бескрылых, побаивавшихся смотреть вперёд талантов и бездарей – добровольных пленников моды и зависти, склок, коммерческих причуд, похвальбы богатых заказчиков. Зачахли страсти денежных мешков, оборвалось нахраписто-вздорное состязание дутых престижей. В наследство нам достался слитный каменный след минувшего – вдоль исторического тротуара развёртывался метафасад, давно по сути не зависимый от вкусов-стилей своего времени – в составных фрагментах своих он тщательно продумывался и прорисовывался, а в целом заранее не предусматривался, даже эскизно не намечался. И каков же зрительный отклик на пластический сплав нарочитости с непреднамеренностью? Глаз мог запинаться, застревать, но… но ведь ты никогда и не разглядывал по отдельности талантливые ли, бездарные, спонтанно собранные в единый Невский фасад фасады, не оценивал пропорции, деталировку, лишь день за днём, вечер за вечером мельком касался рельефной поверхности увековеченных сиюминутных тщеславий; ничего специально не выделяя, свыкаясь со скопищем этих усталых, неровно срезанных небом разнообразно-шаблонных форм, путаницей этих поминутно неожиданных и издавна знакомых, дорогих кадров, прыгавших в ритме шагов, прочерченных прерывистыми, не совпадавшими по высоте карнизными тягами, ты, пожалуй, до сих пор и не задумывался над тем, что долгие годы выпало читать, вычитывая всякий раз что-то досель упущенное, пространственно-временной коллаж, где и впрямь всякий раз заново и непроизвольно ложь локальных фасадов склеивалась боковым зрением в большую правду сочленявшей диссонансы гармонии.
Вот так открытие! Не об этом ли вещал Шанский в последней лекции… только сейчас дошло?
И опять в глазах заплясали точки, в тёмном мельтешении, будто на табло с помехами, промелькнуло – текст как город…
И распались связи, демаскировались законы сборки – время-киноленту, вроде бы окаменевшую навсегда, запустил вспять шутник-подсказчик: дома отклеивались по плоскостям брандмауэров, раздвигались, кренились, нагло ломая протяжённый лик славнейшей главной перспективы, разлетались, крошились. Откололся и повалился пупырчатый, с гладким кантиком, аттик, за ним грохнулся фронтон, брызнув у ног кирпичным боем, штукатурным прахом.
Соснин увернулся от рваной глыбы с тонкой канелированной колонной меж отблеснувшими небом арочными окнами. Полетел на голову сандрик, криво окантованный ржавой жестью, едва отскочил… падали балконы, обломы карнизов, пилястр, капителей, как когда-то ночью падали с полок книги Валеркиной библиотеки.
Валерка прощался. – В прокуратуре лишнего не болтай, мычи, в крайнем случае, как дебил, учти, любое твое слово будет против тебя, любое, лучше моргай и слушай. И… – Удачи, привет Художнику.
Исчез за дверью Лавки Писателей.
мутный осадокА из Лавки – Сашка Товбин… как возможно? Минут пятнадцать назад входил в Дом Книги. Соснин побрёл вдоль витринных окон аптеки, чувствовал, Сашка провожал взглядом. Не скрываясь, шпионил, что именно хотел и мог выведать, что могла ему рассказать удалявшаяся спина? Случайно пересеклись когда-то, с тех пор присматривался при встречах, что-то записывал.
возвращение к реальностиКопыта, гривы, крупы четвёрки клодтовских скакунов переплавились вдруг в запряжённых в колесницу Победы, вздыбленных над величавой Россиевской аркой коней – они, нёсшиеся к Зимнему дворцу, казалось, готовились перемахнуть пустынную площадь… да, так начиналась наша история.
И вот очередной поворот.
У аптеки – за угол.
По Фонтанке, наползая одна на другую, плыли крупные льдины.
пролетая почти что мимо ушей, но (вот такой монолог) с пищей для глаз и игрой на нервахУ бесцеремонного шептуна густо торчали из ноздрей волосы. Фамилия, как же его фамилия?
– Согласен, недурно нарисовалось, у дома-красавца, если позволите искренний комплимент, строгий, стройный вид, достойный знаменитой и симпатичной мне, хотя я не коренной петербуржец, традиции. Так вот, проектная практика будто бы за вас, – не умолкал Остап Степанович, ловко болтая мундштуком, успешно служившим ему продолжением языка, а Соснин, невнимательно слушая, дивился искусству следователя пропевать на едином дыхании длиннющие фразы, – но в любом явлении нас учили видеть две стороны, как две культуры, не правда ли? И вторая, не искусно разрисованная воображением, но материально-реальная, жизненная сторона истинной практики против вас, увы, против – дом-красавец упал, превратившись в отрезвляющие обломки…
К кому с машинным вдохновением обращался он? К давно не белёному потолку, тяжёлой мебели?
Пока Остап Степанович хвастался красноречием, крепыш со смоляной бородкой и волосатыми ноздрями продолжал что-то важное шептать ему в ухо и издевательски-игриво, как доброго знакомого, всё ещё покалывал Соснина выпуклыми тёмными глазками, вот ведь как бывает, Илья Сергеевич, – усмехался хитрющий взгляд, – коньячок ли с утра попиваете в интуристовской роскошной гостинице, в высоком кабинете прокуратуры неожиданно ответ держите за халатно ли, преступно содеянное, а всё едино – под надзором государева ока вы везде от рождения пребывали и до смерти пребывать будете, понимаете? Крепыш вращал для пущей выразительности зрачками и поводил из стороны в сторону, точно разминал суставы, тяжёлыми коричневыми плечами; когда донесения иссякли, он деловито, лист за листом, принялся складывать в папку прочитанные Стороженко бумаги, очевидно, все, как одна, секретные, ибо Остап Степанович, не прерывая вдохновенных наставлений, пробегал пожелтелые листки с чернильными штампами торопливым въедливым взглядом и охранительно, как если бы Соснин, почуявший, что бумаги его касаются, мог что-нибудь подсмотреть, прикрывал читаемое ладонью.