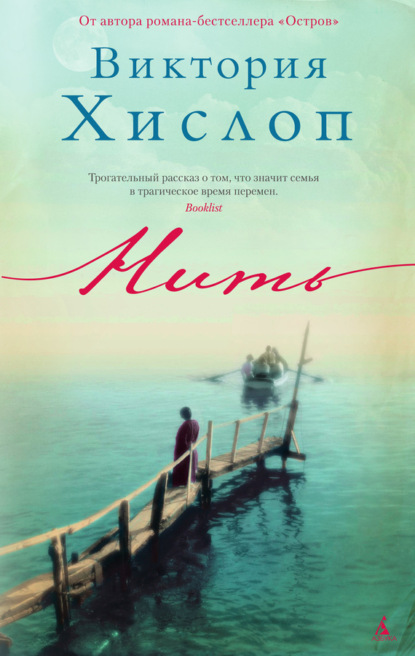Полная версия
Остров
Как раз в тот момент, когда она принялась размышлять, не отправиться ли ей на кухню, чтобы выбрать что-нибудь, как это было принято среди жителей Крита, прибыло главное блюдо.
– Вот, это сегодняшний улов, – сообщила официантка, ставя на стол овальную тарелку. – Это барбуня. Вроде бы по-английски она называется барабулька. Надеюсь, приготовлено так, что вам понравится: просто зажарено на гриле со свежими травами и капелькой оливкового масла.
Алексис была потрясена. Не только безупречно оформленным блюдом. И даже не мягким, почти идеальным английским языком женщины. Что захватило ее врасплох, так это красота. Алексис не раз размышляла о том, каким должно быть лицо, из-за которого разгораются войны. Вероятно, именно таким.
– Спасибо, – наконец произнесла она. – Выглядит просто великолепно.
Прекрасное видение собралось было отойти, но потом остановилось:
– Мой муж сказал, вы меня спрашивали.
Алексис вытаращила глаза. Мать говорила ей, что Фотини уже за семьдесят, но перед ней стояла стройная, худощавая женщина, а ее волосы, собранные на макушке, были цвета зрелого ореха. Это была совсем не та старушка, которую ожидала увидеть Алексис.
– Но вы же не… Фотини Даварас? – вставая, неуверенно произнесла Алексис.
– Именно она, – мягко заверила ее женщина.
– У меня письмо для вас, – опомнившись, сказала Алексис. – От моей матери, Софии Филдинг.
Лицо Фотини Даварас вспыхнуло радостью.
– Вы дочь Софии! Бог мой, как это замечательно! – воскликнула она. – Как поживает София? Как у нее дела?
Фотини восторженно схватила письмо, протянутое ей Алексис, и прижала его к груди, будто перед ней была София собственной персоной.
– Я так рада! Я о ней ничего не слышала с тех пор, как несколько лет назад умерла ее тетя. А до того она писала мне каждый месяц – и вдруг перестала. Я очень тревожилась, особенно после того, когда на несколько моих писем не пришло ответа.
Все это оказалось полной неожиданностью для Алексис. Она представления не имела о том, что ее мать регулярно посылала письма на Крит, и, уж конечно, даже не догадывалась, что и оттуда приходили письма. Ведь Алексис никогда не видела ни единого конверта с греческими марками. Она непременно запомнила бы такое письмо, потому что всегда вставала раньше всех и сама забирала все из почтового ящика. Похоже, ее мать прилагала большие усилия к тому, чтобы сохранить в тайне свою переписку.
А Фотини уже держала Алексис за плечи и всматривалась в ее лицо миндалевидными глазами.
– Дай-ка посмотреть на тебя… Ну да, ты немножко на нее похожа. Но еще больше ты похожа на бедняжку Анну.
Анна? При всех тех попытках, что предпринимала Алексис для того, чтобы выудить у матери побольше сведений о тете и дяде, изображенных на выгоревшей фотографии, она ни разу не слышала этого имени.
– Это мать твоей матери, – быстро добавила Фотини, сразу заметив недоумение во взгляде девушки.
По спине Алексис пробежала легкая дрожь. Стоя в сумеречном полусвете, с теперь уже чернильно-черным морем за спиной, она чувствовала себя буквально раздавленной тяжестью материнских тайн и осознанием того, что разговаривает с человеком, который может знать кое-какие ответы.
– Эй, садись-ка, садись! Ты должна попробовать барбуню, – сказала Фотини.
У Алексис почти пропал аппетит, но она чувствовала, что надо проявить вежливость, и потому обе женщины сели за стол.
Несмотря на то что ей ужасно хотелось поскорее задать свои вопросы – они буквально кипели в ней, – Алексис позволила Фотини расспросить себя, отвечая на вопросы, которые были куда более глубокими, чем могли показаться. Как поживает ее мать? Счастлива ли она? Что представляет собой отец Алексис? И что привело ее на Крит?
Фотини была такой же теплой, как окружившая их ночь, и Алексис обнаружила, что отвечает на ее вопросы очень откровенно. Эта женщина была в таком возрасте, что годилась ей в бабушки, и тем не менее она совсем не выглядела так, как полагается выглядеть бабушкам. Фотини Даварас была полной противоположностью той престарелой согнутой леди в черном, которую представила себе Алексис, когда мать передавала ей это письмо. И интерес Фотини к Алексис выглядел абсолютно искренним. Прошло много времени с тех пор – если такое вообще когда-то случалось, – как Алексис с кем-то разговаривала так открыто. Ее университетская наставница время от времени выслушивала ее, если речь шла о чем-то действительно значимом, но в глубине души Алексис знала: слушает она только потому, что ей за это платят. Поэтому понадобилось совсем немного времени для того, чтобы Алексис доверилась Фотини.
– Моя мать всегда держала в секрете свое прошлое, – сказала Алексис. – Я знаю только, что она родилась где-то здесь и растили ее дядя и тетя, а едва ей исполнилось восемнадцать, она сразу уехала и больше никогда сюда не возвращалась.
– И это все, что тебе известно? – удивилась Фотини. – И больше София ничего тебе не рассказывала?
– Нет, совсем ничего. Поэтому я и приехала сюда. Мне хочется знать больше. Узнать, чтó заставило ее так круто развернуться спиной к прошлому.
– Но почему именно теперь? – спросила Фотини.
– По многим причинам, – ответила Алексис, глядя в свою тарелку. – Но прежде всего это связано с моим другом. Я лишь недавно поняла, как маме повезло в том, что она встретила моего отца. Я ведь прежде думала, что такие отношения в порядке вещей.
– Я рада, что они счастливы. Тогда это выглядело немного поспешным, но мы все очень надеялись на лучшее, ведь они выглядели такими счастливыми и довольными друг другом.
– И все же это странно. Я так мало знаю о собственной матери. Она никогда не рассказывала о своем детстве, никогда не говорила о жизни здесь.
– Неужели? – перебила ее Фотини.
– У меня теперь такое чувство, – продолжила Алексис, – что, если я узнаю обо всем побольше, это поможет мне. Маме повезло: она встретила человека, о котором могла заботиться. Но откуда она знала, что это именно тот человек и что это навсегда? Я с Эдом уже больше пяти лет, но до сих пор не уверена, стоит ли нам быть вместе.
Такое заявление было совсем нехарактерным для обычно уверенной в себе Алексис, а для человека, знакомого с ней меньше двух часов, это, конечно, могло прозвучать расплывчато и даже причудливо. Кроме того, Алексис как будто ушла в сторону от главной темы. И разве можно ожидать, что эта гречанка, как бы ни была она добра, действительно интересуется ее жизнью?
В этот момент подошел Стефанос, чтобы убрать тарелки, а через несколько минут вернулся с двумя чашками кофе и двумя щедрыми порциями золотистого бренди. Другие посетители приходили и уходили, вечер продолжался, и вот уже снова занятым остался лишь тот столик, за которым сидела Алексис.
Согретая горячим кофе и еще более – огненным бренди, Алексис спросила Фотини, как давно та знает ее мать.
– Да, вообще-то, с того дня, как она родилась, – ответила пожилая леди, но тут же умолкла, ощутив огромную тяжесть ответственности.
Да кто она такая, Фотини Даварас, чтобы рассказывать этой девушке о прошлом ее семьи, если уж родная мать хотела все от нее скрыть? И только в это мгновение Фотини вспомнила о письме, которое сунула в карман фартука. Она достала его и, взяв с соседнего стола нож, быстро вскрыла.
Дорогая Фотини!
Пожалуйста, прости меня за то, что я так долго не писала. Я знаю, мне ни к чему объяснять тебе причины, но поверь: я очень часто о тебе думаю. А это моя дочь Алексис. Ты, конечно, обойдешься с ней так же ласково, как всегда относилась ко мне. Мне и просить не нужно, верно?
Алексис очень интересуется своими корнями, и это естественно, но я поняла, что сама не смогу ей ничего рассказать. Разве не странно, что с годами становится все труднее вспоминать прошлое?
Я знаю, что Алексис станет задавать тебе множество вопросов, она ведь прирожденный историк. Ты ей ответишь? Ты сама видела и слышала все, была свидетелем всей истории. Думаю, ты сумеешь дать ей более правдивый отчет, чем я.
Нарисуй для нее всю картину, Фотини. Алексис будет тебе за это вечно благодарна. И может быть, вернувшись в Англию, она даже расскажет мне что-то такое, чего я сама никогда не знала. Ты ей покажешь, где я родилась? Ей это очень интересно, отвезешь ее в Айос-Николаос?
Я очень люблю тебя и Стефаноса. И передай, пожалуйста, мои самые теплые пожелания твоим сыновьям.
Спасибо тебе, Фотини!
Всегда твоя,
София.Дочитав письмо до конца, Фотини аккуратно сложила его и снова спрятала в конверт. Она через стол посмотрела на Алексис, изучавшую ее с откровенным любопытством, пока Фотини держала в руках смятый листок.
– Твоя мать просит меня рассказать тебе все о твоей семье, – сказала Фотини. – Но это явно не та сказка, которую рассказывают на ночь. Мы закрываем таверну по воскресеньям и понедельникам, да и вообще в такой сезон времени у меня больше чем достаточно. Почему бы тебе не остаться у нас на пару дней? Я буду просто счастлива, если ты согласишься.
Глаза Фотини поблескивали в темноте. Они казались влажными, но от слез или от волнения – Алексис не могла бы сказать.
Алексис уже подсознательно чувствовала, что это не будет пустой тратой времени и может наилучшим образом сказаться на ее будущей жизни. История ее матери, без сомнения, поможет ей в дальнейшем куда больше, чем посещение десятка музеев. Зачем рассматривать холодные останки исчезнувших цивилизаций, если можно вдохнуть жизнь в собственную историю?
Ничто не мешало Алексис остаться здесь. Отправить Эду короткое сообщение о том, что она задержится на день-другой, – вот и все, что требовалось. И хотя Алексис прекрасно знала, что подобный поступок будет выглядеть почти как грубое пренебрежение к Эду, она чувствовала: такая возможность просто требует небольшого проявления эгоизма. Алексис ведь, в сущности, свободна делать то, что ей нравится. А сейчас наступил момент полного спокойствия и тишины. Даже темное гладкое море как будто сдержало дыхание, а безоблачное небо над головой, на котором сияло самое яркое из созвездий, Орион – он был убит и отправлен на небо богами, – словно бы ожидало ее решения.
Наверное, это тот единственный шанс, что предлагает Алексис судьба – шанс ухватить все разрозненные обрывки ее собственной истории до того, как их развеет ветром. Алексис не сомневалась, что на приглашение Фотини может быть только один ответ.
– Спасибо, – тихо сказала она, внезапно охваченная усталостью. – Я буду рада задержаться здесь.
Глава 2
Алексис крепко спала в ту ночь. Когда они с Фотини наконец отправились на боковую, был уже второй час ночи. Долгая поездка до Плаки, день на Спиналонге и головокружительная смесь вина и бренди погрузили Алексис в глубокий сон без сновидений.
Было уже почти десять, когда сияющие лучи проникли в брешь между толстыми занавесками из грубой ткани и упали на подушку Алексис. Разбуженная Алексис машинально натянула на голову простыню, чтобы спрятать лицо. В последние две недели она спала в разных незнакомых ей комнатах, и каждый раз утром, когда она осознавала окружающую реальность, ее настигал момент растерянности. Большинство матрасов в дешевых пансионах, где останавливались они с Эдом, были то ли продавлены в середине, то ли обладали торчащими наружу пружинами. С таких постелей нетрудно было вставать утром. Но вот эта постель была совершенно другой. Да и вся комната была другой. Круглый стол под кружевной скатертью, табурет с поблекшим тканым сиденьем, несколько акварелей в рамках на стене, подсвечник, густо покрытый органными трубами воска, душистая лаванда, пучок которой висел на внутренней стороне двери, и стены, выкрашенные в мягкий голубой цвет, подходивший к постельному белью, – все это выглядело даже более домашним, чем родной дом.
Когда Алексис отдернула в стороны занавески, ее приветствовала ослепительная перспектива сверкающего моря и остров Спиналонга, который в мерцающей дымке казался более отдаленным и уединенным, чем накануне.
Выезжая из Ханьи вчера утром, Алексис вовсе не намеревалась задерживаться в Плаке. Она представляла себе короткую встречу с пожилой женщиной из материнского детства и недолгую прогулку по деревне, после чего должна была вернуться к Эду. Поэтому она ничего не взяла с собой, кроме карты и фотоаппарата, и, уж конечно, не предвидела, что ей понадобится сменная одежда и зубная щетка. Однако Фотини быстро пришла ей на помощь, одолжив все, что было необходимо: одну из рубашек Стефаноса вместо ночной сорочки и чистое, хотя и довольно старое полотенце. А утром Алексис обнаружила в ногах кровати цветастую блузку – совершенно не в ее стиле, но после жары и пыли прошедшего дня она была счастлива сменить одежду. К тому же это был жест такой материнской доброты, что Алексис едва ли могла его проигнорировать, пусть даже светлые розовые и голубые тона блузки выглядели довольно нелепо в сочетании с шортами цвета хаки. Но разве это имело какое-то значение? Алексис ополоснула лицо холодной водой над крошечной раковиной в углу, а потом внимательно рассмотрела в зеркале свою загорелую кожу. Она волновалась, как ребенок, которому должны были прочитать самую главную часть сказки. Сегодня Фотини станет ее Шехерезадой.
Одетая в непривычный хрустящий, отглаженный хлопок, Алексис не спеша спустилась по темной задней лестнице и очутилась в кухне ресторанчика, где в нос ударил мощный аромат крепкого, только что сваренного кофе. Фотини сидела за огромным грубым столом в середине комнаты. Хотя стол тщательно скребли, он все равно хранил на себе следы всех тех блюд, что готовились здесь, и запах всех трав, которые крошили на его поверхности. Наверное, он также был свидетелем тысячи разных споров, что вспыхивали и закипали в невероятном жаре кухни.
Фотини встала навстречу Алексис.
– Калимера, Алексис! – тепло произнесла она.
На Фотини была блузка, похожая на ту, что она ссудила Алексис, но в оттенках охры, подходивших к ее пышной юбке, колыхавшейся вокруг ног и доходившей почти до лодыжек. Первое впечатление от ее красоты, поразившее Алексис накануне вечером, в благожелательном свете сумерек, оказалось верным. Изящное сложение этой критянки и ее огромные глаза напомнили Алексис о великих минойских фресках в Кноссе, о ярких, живых портретах, переживших несколько тысячелетий и обладавших той удивительной простотой, которая и заставляла их выглядеть невероятно современными.
– Хорошо спала? – спросила Фотини.
Алексис подавила зевок, кивнула и улыбнулась Фотини – та уже хлопотала, нагружая поднос кофейником, немалых размеров чашками и блюдцами и хлебом, который только что достала из печи.
– Уж извини, хлеб разогретый. Это единственный недостаток местных воскресений – булочник не желает выбираться из постели. Так что приходится питаться сухими корочками или свежим воздухом, – со смехом сказала Фотини.
– Я буду более чем довольна свежим воздухом, если он пойдет на закуску к свежему кофе, – ответила Алексис, выходя следом за Фотини через завесу из пластиковых полосок на террасу, где столики с красными столешницами из огнеупорной пластмассы, лишившиеся бумажных скатертей, выглядели до странности голыми.
Женщины сели лицом к морю, лизавшему камни внизу. Фотини разлила по белым чашкам густую черную жидкость. После бесконечных чашек растворимой дряни, которые подавались так, словно эти гранулы представляли собой невероятный деликатес, Алексис поняла, что никогда в жизни настоящий кофе не казался ей таким крепким и таким вкусным. Похоже, никто не смог набраться храбрости и рассказать грекам, что «Нескафе» давно уже не новинка. Здесь по-прежнему пили старомодный густой и сладкий напиток, которого жаждала душа Алексис.
Сентябрьское солнце сияло в чистом небе, и благодатное тепло, сменившее напряженную августовскую жару, делало начало осени самым прекрасным временем на Крите. Адская жара середины лета миновала, и вместе с ней исчезли обжигающие, злобные ветра. Две женщины сидели друг против друга под тентом, и Фотини своей темной морщинистой рукой коснулась руки Алексис.
– Я так рада, что ты приехала, – сказала она. – Ты и представить не можешь, насколько я рада. Мне было очень больно, когда твоя мама перестала писать. Я все прекрасно понимала, но это порвало такую важную связь с прошлым!
– А я и не догадывалась, что она раньше вам писала, – ответила Алексис, чувствуя себя так, словно обязана извиниться за поведение матери.
– Начало ее жизни было трудным, – продолжила Фотини, – но мы все старались, правда старались сделать ее счастливой, прилагали все силы ради этого.
Видя слегка озадаченное выражение лица Алексис, Фотини поняла, что ей следует притормозить. Она налила им еще по чашке кофе, давая себе минутку на то, чтобы подумать, с чего лучше начать. Похоже, нужно было вернуться в более глубокое прошлое, чем она изначально себе представляла.
– Я могла бы сказать, что начну с самого начала, но, по сути, начала тут нет, – снова заговорила она. – История твоей матери – это история твоей бабушки, а также и прабабушки. А еще и двоюродной бабушки. Их жизни были сплетены между собой, и мы именно это всегда имеем в виду, когда говорим о судьбах в Греции. Наша судьба в основном предопределена нашими предками, а не звездами. Когда мы здесь говорим о древней истории, то всегда упоминаем судьбу. Конечно, иногда случаются внезапные события, которые меняют течение нашей жизни, но на самом деле все, что с нами происходит, определяют поступки тех, кто живет вокруг нас, и тех, кто жил до нас.
Алексис охватило легкое раздражение. Неприступное хранилище материнского прошлого, накрепко запертое от нее всю ее жизнь, сейчас должно было открыться. Все тайны должны были выплеснуться наружу. И вдруг Алексис поняла, что спрашивает себя: а в самом ли деле ей этого хочется? Она смотрела вдаль, через море, на бледные очертания Спиналонги и вспоминала свой одинокий день на том острове, уже тоскуя по нему. Пандора пожалела о том, что открыла ящик. Не случится ли то же самое и с ней?
Фотини заметила, куда смотрит Алексис.
– Твоя прабабушка жила на том острове, – сказала она. – Она была прокаженной.
Фотини не ожидала, что ее слова прозвучат так резко, так бессердечно, но сразу увидела, что они заставили Алексис поморщиться.
– Прокаженной? – переспросила Алексис, и ее голос едва не сорвался от потрясения.
Эта новость вызвала в ней отвращение, и хотя Алексис понимала, что ее реакция была, пожалуй, иррациональной, скрыть свои чувства ей оказалось трудно. Но она ведь уже знала, что тот старый рыбак тоже болел проказой, и собственными глазами видела, что это не отразилось на его внешности. И все же она пришла в ужас, услыхав, что некто из ее рода был прокаженным. Это ведь совсем другое дело, и Алексис вдруг ощутила непонятную брезгливость.
Для Фотини, выросшей в тени островной колонии, проказа была всего лишь жизненным фактом. Она видела столько прокаженных, приезжавших в Плаку, чтобы пересечь пролив и остаться на Спиналонге, что и сосчитать бы не могла. Фотини также видела и жертв самых разных стадий этой болезни: некоторые были чудовищно изуродованы, другие выглядели не затронутыми бедой. Но она понимала реакцию Алексис. Это был естественный отклик для человека, чьи знания о проказе почерпнуты из Ветхого Завета и в уме которого сохранился образ людей в балахонах, с колокольчиком в руках, кричавших: «С дороги! Нечистый идет! Нечистый!»
– Позволь мне объяснить подробнее, – предложила Фотини. – Я понимаю, ты догадываешься, как должна выглядеть проказа, но важно, чтобы ты знала правду, иначе тебе никогда не понять настоящую Спиналонгу, ставшую домом для многих хороших людей.
Алексис продолжала смотреть на остров по другую сторону мерцающих вод. Ее вчерашняя поездка туда породила множество противоречивых образов: развалины элегантных вилл в итальянском стиле, сады и даже магазины – и надо всем этим мрачная тень болезни, выглядевшей в глазах Алексис как смерть заживо. Она отпила еще глоток густого кофе.
– Я знаю, что эта болезнь не всегда смертельна, – почти с вызовом сказала Алексис, – но она всегда ужасно уродует человека.
– Не в такой степени, как тебе может казаться, – ответила Фотини. – Это ведь не свирепо разлетающаяся болезнь вроде чумы. Иногда ей нужно очень много времени, чтобы полностью развиться. Образы искалеченных людей, что ты себе представляешь, – это образы тех, кто болел многие годы, даже десятилетия. Есть два вида лепры, и одна из них развивается гораздо медленнее, чем другая. И обе теперь излечиваются. Но вот твоей прабабушке не повезло. У нее была быстрая форма болезни, и ни время, ни состояние медицины не были на ее стороне.
Алексис уже устыдилась своей первоначальной реакции. Она растерялась от собственного невежества, но ведь открытие, что кто-то из членов твоей семьи был прокаженным, это как гром среди ясного неба.
– Заболела твоя прабабушка, но твой прадед, Гиоргис, также страдал – от глубоких душевных шрамов. Еще до того, как его жена отправилась на Спиналонгу, он доставлял туда всякую всячину на своей лодке и продолжал это делать, когда там очутилась его жена. А это значило, что почти каждый день он видел, как уродует ее болезнь. Когда Элени очутилась на Спиналонге, представления о гигиене там были плачевными, и хотя они основательно изменились за время ее пребывания на острове, наиболее серьезные повреждения тела произошли у нее в самые первые годы. Я не стану вдаваться в подробности. Гиоргис не говорил о них Марии и Анне. Но ты ведь представляешь, как это происходит, да? Лепра поражает нервные окончания, в результате чего человек теряет чувствительность, он может порезаться или обжечься. Именно поэтому прокаженные так уязвимы, они постоянно сами себе наносят раны, и последствия могут быть ужасающими.
Фотини замолчала. Ей не хотелось слишком сильно задевать чувства этой молодой женщины, но в истории есть моменты, которые буквально потрясают. Поэтому продвигаться вперед нужно было с осторожностью.
– Мне не хочется, чтобы тебе казалось, будто семья твоей матери была буквально подавлена болезнью. Совсем не так, – поспешила добавить Фотини. – Посмотри. У меня есть несколько их фотографий.
На большом деревянном подносе, стоявшем напротив кофейника, лежал потрепанный конверт из грубой бумаги. Фотини открыла его и высыпала содержимое конверта на стол. Некоторые из фотографий были не больше билета на поезд, но были и размером с почтовую открытку. Одни сияли глянцевой бумагой с белой рамкой, другие казались матовыми, но все – черно-белые, и многие поблекли до такой степени, что их невозможно было рассмотреть. Большинство снимков сделали, вероятно, в какой-то студии, задолго до того, как появилась мгновенная фотография, и напряженность изображенных людей делала их такими же далекими и недостижимыми, как царь Минос.
Первый же снимок, на который упал взгляд Алексис, оказался ей знакомым. Это была та самая фотография, что стояла у кровати ее матери, – леди в кружевах и седовласый мужчина. Алексис взяла фото.
– Это твоя двоюродная бабушка Мария и двоюродный дед Николаос, – с гордостью пояснила Фотини. – А вот это, – добавила она, выуживая из груды один снимок, – последняя фотография твоих прадеда и прабабки и двух их дочерей.
Она передала фотографию Алексис. Мужчина на ней был почти такого же роста, как женщина, но весьма широкоплеч. У него были темные вьющиеся волосы, аккуратно подстриженные усы, крупный нос, а его глаза улыбались, несмотря на то что он держался перед объективом фотокамеры серьезно и важно. Руки у него выглядели крупными по сравнению с телом. А женщина, стоявшая рядом, была худощавой, с длинной шеей, и поразительно красивой: волосы заплетены в косы, уложенные вокруг головы, улыбка широкая и естественная. Перед парой сидели две девочки в ситцевых платьях. У одной из них были густые пышные волосы, свободно падавшие на плечи, глаза слегка раскосые, почти кошачьи. В этих глазах светилось что-то недоброе, а пухлые губы девочки не улыбались. У второй девочки волосы были заплетены в косы, она обладала более тонкими чертами лица и наморщила нос, улыбаясь в объектив. Ее можно было назвать почти тощей, и из двух девочек она больше походила на мать. Девочка мягко и скромно положила руки на колени, в то время как ее сестра скрестила руки на груди и как будто с вызовом уставилась на человека, делавшего снимок.
– Это Мария, – пояснила Фотини, показывая на улыбавшуюся девочку. – А это Анна, твоя бабушка, – добавила она, указывая на первую девочку. – Ну и их родители, Элени и Гиоргис.
Фотини раскидала фотографии по столу, и случайно налетевший порыв ветерка слегка сдвинул их с места, как будто оживив. Алексис увидела фотографии двух сестер в младенчестве, потом в школьном возрасте, а потом уже и молодых женщин, но на этот раз в обществе их отца. Была и фотография Анны, стоявшей рука об руку с мужчиной в традиционном критском костюме. Это был свадебный снимок.