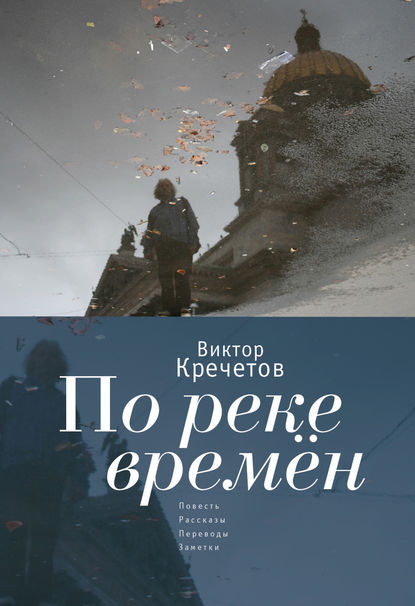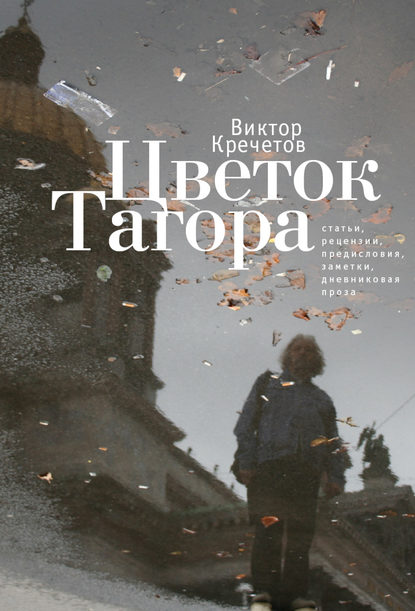
Полная версия
Цветок Тагора (сборник)
«И опять жалость ко всем. И эта мука беспокойства, как будто мы потеряли что-то и не сознаем, зачем мы все нужны друг другу. А без этого ничего не имеет никакого смысла. Нет, не в этом суть. Каждый из нас хочет жить придуманной жизнью, и мы потеряли естественность. Мы все виноваты друг перед другом. Асфальтом задушили землю… Неужели это выбор двадцатого века? О, если бы мы смогли понять суть самих себя! Нет, я должен перестать думать сейчас об этом, я должен заснуть – и в этом спасение. Ни одной мысли, и все будет легко… Это тоже выбор – не думать».
Однако думать Васильев обречен – и не потому, что он художник, а прежде всего потому, что он носит в себе чувство вины, и не только за дела человека, но и за нравственное состояние общества. Васильев чуток к тому, как живет общество, какими ценностями, что оно обретает и что им утеряно. «Мне кажется, – говорит он, – что в последние годы люди потеряли веру в самих себя. И это всех разъединило». Но Васильев не сторонний наблюдатель, и все болезненные явления общественной жизни в полной мере коснулись его самого. Разъединенность людей, утеря взаимопонимания, утрата чуткости – от всего этого Васильев и сам страдает, и мучительно пытается вырваться из этого состояния, преодолеть отчужденность близких и любимых им людей, найти взаимопонимание с Марией, с Викторией. Он постоянно анализирует свои поступки, контролирует их, но его самоанализ не идет дальше регистрации, потому что у него самого нет нравственного идеала, нет образца. Он лишь пытается понять себя, людей, жизнь, свое назначение на Земле и смысл этого назначения. Писатель избегает создавать в романе какую-либо жесткую схему жизни. Потому-то и Васильев – созидатель, крупный художник – лишен идеальных черт и сам страдает всеми болезнями века. Так, непростительна его вина перед отцом, хотя она и меньше, нежели вина Ильи перед матерью. И мы вместе с Васильевым понимаем: его рассуждение о том, «что живые всегда виновны перед мертвыми, что в век нервных перегрузок многим не хватает лишь одного шага на пути к добру, поэтому и угасает на земле и родственная привязанность, и взаимопонимание близких», есть лишь попытка оправдать себя. Васильев это понял и устыдился, он не нашел для себя оправдания, как не нашли его и мы, ибо есть святые понятия, истины, которые должны почитаться во всякое время и независимо ни от чего. Черствость Васильева тем более вызывает осуждение, что уж он-то и должен был бы стать идеалом, ибо нельзя создавать красоту, творить высокое искусство и одновременно попирать основы основ нравственности.
Васильев – художник. Но суть не в его профессии. Бондарев показывает его преимущественно человеком, причем человеком думающим, мучающимся. Более того, и Илья Рамзии, и Эдуард Аркадьевич, и Колицын, и друг Васильева Лопатин, и даже дочь и жена Васильева не лишены постоянного беспокойства и чувства неудовлетворенности. Но, в сущности, все они в какой-то мере представляют разные стороны самого Васильева: Илья – разочарование жизнью (и «той» и «этой»), Эдуард Аркадьевич – пресыщенность и ерничество, Колицын – творческие сомнения, Лопатин – волю к творчеству, к созиданию, Виктория – возмущение мерзостями жизни, Мария – потребность в любви и чувство глухого непонимания, разъединения с близкими. И все они вместе представляют в какой-то мере ту творческую интеллигенцию наших дней, которая во многом оторвалась от коренной русской жизни и живет преимущественно «пеной» мыслей. Илья оторвался от родного народа, от Родины физически, Васильев же, и живя в родной стихии, стал далек от народной жизни.
Вот это и не позволяет писателю найти в своих героях идеал. Именно это состояние разобщенности с жизнью народной рождает в нас чувство глубокой неудовлетворенности тем миром, в котором живут герои «Выбора». Но при всей оторванности от жизни народа герои романа имеют глубоко русский характер, сказавшийся и в их противоречивости, и в мучительных раздумьях о жизни, и в чувстве вины не только за себя, но и за все и вся в мире.
С Васильевым мы расстаемся тогда, когда у него еще остается его будущее, и мы не знаем, какой еще предстоит ему выбор, как завершится его жизнь. Его духовные искания и нравственные мучения не окончены. Итогом всех его размышлений является мысль, что «среди тысяч смыслов и выборов есть один – великий и вечный» – любовь. Но боль любви он испытывал ведь и прежде, и действительно, «может быть, ради этой боли стоило родиться на свет». Так думает Васильев, но мысль эта утверждает лишь вечность жизни, а не смысл ее. Вопрос же о смысле жизни остается открытым, он столь же вечен, как и сама жизнь, а значит, и Васильеву мучиться им до конца своих дней.
Подводя итог сказанному, хотелось бы повторить, что появление подобного произведения в нашей литературе неслучайно. Видимо, назрела пора всем нам внимательно осмотреться, приглядеться к жизни и ее проблемам, заглянуть внутрь себя, увязать свои деяния и ответственность за них со всем, что происходит в мире. Сегодня человек ответствен за время как никогда, ибо в его руках будущее Земли.
Уроки доброты
(О творчестве Сергея Воронина)
1Сергей Воронин – один из тех писателей, кто уже в начале своего творчества обратил писательский взор к личности как «частице» исторических судеб народа. Путь этот ныне стал магистральным в жанре рассказа, а достижения современных прозаиков в этом направлении бесспорны и общеизвестны.
Размышляя над тем, каким должен быть рассказ сегодня, Воронин пишет: «Мне думается, прежде всего несущий такую мысль, которая не оставит читателя равнодушным. Эта мысль должна быть непременно рожденной жизнью, развитием нашего общества, тесно связанной с нравственным состоянием народа в этом обществе» (Время итогов. М., 1978). Живая мысль, с в о я – непременное и самое первое условие настоящего рассказа. «Свои характеры», «собственная интонация»… «И конечно, слово емкое, точное, яркое и звучное. Оно несет мысль, оно создает характеры, оно наполняет музыкой настоящий рассказ. И если все это в рассказе есть, то такой рассказ не может не взволновать читателя, не может жить один день, и, по-моему, это единственный тип рассказа, который можно назвать перспективным» («Время итогов»).
Мысли, высказанные писателем о рассказе, ко многому обязывают его самого. Но Сергей Воронин всем своим творчеством заслужил право на определенную категоричность – за ней стоит его богатый творческий опыт.
Вот небольшой отрывок из рассказа «Весенние раздумья», в котором дана картина поздней весны. «Да, она всегда к нам, на Север, запаздывает. Но в этом году особенно – вот уже май, а все еще холода. Из-за озера, с его правого берега, тянет сквозной северный ветер. И хоть греет солнце, пробиваясь через мглу нависших над землей туч, но все равно знобко, и деревья, как зимой, сухо стучат голыми ветвями, и нет травы на буграх, даже осота нет, и озеро по-осеннему тяжелое, тусклое, и скворцы куда-то исчезли, и снег еще до сих пор лежит в ямах; и куда ни посмотришь – холодно». Минимальными средствами писатель добивается значительной выразительности: невольно начинаешь поеживаться, чувствуя позднюю северную весну, ее сквозящий ветер, ее цвет и запах…
Точно найденное слово, искусный подбор деталей, точная их расстановка, музыкальность, интонационная акцентировка, сжатость – все это делает художественный образ в рассказах Воронина жизненно убедительным. Однако дело не только в арсенале выразительных средств, которыми он владеет. Гораздо важнее другое – что несет он в мир своего, есть ли ему о чем сказать. Этот вопрос волновал Сергея Воронина всегда – и в пору становления, и в пору творческой зрелости.
«Долгое время я не знал своих тем, своих сюжетов, – пишет он в книге «Время итогов», – и поэтому не было удовольствия от работы, от самого творческого процесса, а была сплошная разочарованность в себе; то, наоборот, не успевал записывать, так быстро мысль диктовала руке и становилось радостно, и работать было интересно, и я чувствовал, что написанное получилось. Со временем я стал разбираться в том, что “мое” и что “не мое”, и уже не хватался не за свои темы и сюжеты, хотя они продолжали приходить ко мне. Нет, я не отмахивался от них, записывал или запоминал, и, случалось, спустя какое-то время, даже и длительное, “не мое” становилось моим, и я легко писал рассказ… Своя тема. Это, пожалуй, и есть то, что определяет творческую индивидуальность…»
Своя тема – не обязательно «новая» тема. Это скорее свой взгляд, найденный «ракурс» или «поворот», которого вполне достаточно для того, чтобы известное, о чем было немало написано, высветилось по-особому, приобрело иную, чем прежде, значимость, действительно новое звучание.
В чем суть воронинских тем, суть того, что он называет «своим»? Внимательный читатель без труда сумеет в его творчестве определить это своеобразие, но уместно привести здесь признание самого писателя. «Я сказал “откуда-то” появится рассказ. Откуда? Может, он пришел на той волне, на какую настроено все мое внутреннее, творческое, постоянно, даже до некоторой степени болезненно? Что тревожит меня, не дает быть пассивным созерцателем жизни? Я знаю эту волну. Это моя тема – сострадание к человеку. Особенно к моему современнику, на долю которого выпало столько трагических испытаний. Поэтому мне особенно больно, когда он обижен, когда его не уважают, когда он бессилен, когда торжествует хам. Я хочу добра моему Человеку. И поэтому мне только надо, чтобы внутри меня что-то саккумулировалось, то есть, чтобы накопилась определенная духовная энергия, и тогда лампочка нового рассказа вспыхнет и осветит мне самые затаенные уголки деталей, которые так нужны для достоверности рассказа» («Время итогов»).
В самом деле, рассказы Сергея Воронина можно сгруппировать по материалу: здесь будут рассказы о любви, рассказы о семейных отношениях, рассказы «туристические» и рассказы «дачные», рассказы «городские» и «деревенские» и т. д. Можно выделить в отдельную группу, скажем, таежные рассказы. Но не материал определяет их тему. Все они в конечном счете о том, как постичь умение творить добро, а сострадание является их внутренней пружиной, движущей силой, тем пульсом, биение которого и делает Воронина художником. Надо сказать, что не только в творчестве, но и в самой жизни писателя эта сила играет важную роль.
Сергей Воронин долгое время был изыскателем и после войны, вернувшись в Ленинград, почувствовал: в его жизни словно пролегла незримая черта между прошлым и будущим. Он остался жив и испытывает перед павшими не то чтобы чувство вины, но какое- то обостренное чувство ответственности – перед погибшими, перед всем народом. «Сколько полегло и на своей, и на чужой земле? – задумывается он. – И сколько среди них было будущих Менделеевых и Ломоносовых, Толстых и Есениных, Серовых и Чайковских? Сколько не вернулось отцов, сыновей и дочерей? Сколько погибло семей? Разрушено очагов? И какой ценой оплатить все это?.. Ничего не могу я сделать, кроме одного, – сострадать своему народу. Быть верным ему. И любить его, и гордиться им. И может, когда-нибудь написать хотя бы немногое, достойное его». Это высокое чувство писатель проносит через всю творческую жизнь.
2Человек человеку сделал Добро. Но так уж получилось, что слова благодарности не были вовремя сказаны, виной тому были обстоятельства. И вот уже на склоне жизни, в семьдесят лет, не теряя надежды отыскать ту девушку, которая выручила ее в августе 1942 года, женщина пишет писателю письмо с просьбой рассказать об этом. «Может, та девушка, теперь она, конечно, пожилая женщина, прочтет его и напишет Вам, и мы встретимся, и я скажу ей то, что должна была сказать тогда».
«Не откликнуться на такой зов нельзя, – говорит писатель. – О доброте идет речь. О человеческой благодарности. Но как написать рассказ, если я не был участником его?
Как войти в духовный мир незнакомого мне человека? И все же стал думать, как написать. Пробовал то от первого лица, то от третьего. В форме монолога. Описательно. И все получалось нежизненно, схематично, надуманно, хотя в основе лежал самый что ни на есть жизненный материал. И вдруг осенило: да зачем же придумывать? Ведь речь-то идет о том, чтобы та девушка узнала, что ее помнит женщина, которой она помогла когда-то, так не проще ли и не правильнее ли напечатать письмо, которое я получил от той женщины? Может быть, среди тысяч, которые прочтут эти страницы, окажется и та, ради которой они написаны, и теплая волна доброго чувства дойдет до нее, заставит все вспомнить и с тихой радостью принять запоздалое “спасибо”, рожденное в бессонную ночь».
Рассказ этот («Невысказанная благодарность») очень важен для понимания Воронина-писателя. В нем ярко проявляется и отношение писателя к жизненному материалу, с которым он работает, и смысл всей его работы – утверждение доброты в жизни. Это тем более ценно, что многие рассказы Воронина автобиографичны: либо он сталкивался с людьми, о которых пишет, либо кто-то рассказывал ему о людях, которых он знает, либо в основе рассказа – воспоминание о его изыскательской работе.
«У каждого писателя свой творческий путь, – писал Воронин в статье о творчестве ленинградского писателя Вильяма Козлова, – Как правило, его определяет биография самого писателя, которая ложится в основу всех наиболее значительных произведений. Ложится так, что произведения становятся как бы литературными аккумуляторами, в которых собраны и характерные черты времени, и люди – типажи тех определенных лет, и зафиксированы те идеи, которые формировали человека – гражданина того времени». Сама по себе мысль об определяющем характере биографии в судьбе писателя, конечно, не нова. К тому же история литературы знает и иные примеры, когда биография не определяет природы творчества писателя. Но Воронин отмечает в своем современнике то, что в высшей степени характерно и для него самого.
Даже при первом знакомстве с творчеством Сергея Воронина можно заметить, что многие его рассказы посвящены жизни изыскателей, как, впрочем, и роман «Две жизни». В одних случаях описываются события, происходящие в тайге, в других – тайга и все с ней связанное проходит фоном, и даже в поздних рассказах восемь лет, проведенные Ворониным в геологических партиях, отзываются со всей очевидностью.
О том, как биография вливается в его творчество, Воронин пишет: «Живут рядом соседи. У каждого своя нелегкая жизнь, и я пишу о них. Рассказ называется “Пять домов”. Лет десять назад был в Тамани. Хотел посмотреть этот “скверный городишко”, где когда-то бывал Лермонтов. Походить по тем местам, где ходил он, отыскать то место на берегу, к которому причалила лодка “с честными контрабандистами”, где чуть не погиб Печорин. После поездки я напечатал в “Литературной газете” корреспонденцию “Песня”, теперь же, спустя годы, написал рассказ “Тамань” и очерк “Пути-перепутья”. Вспоминаю тайгу, изыскания. И столько еще интересного, не рассказанного мною. И я пишу рассказы “На трассе бросового хода”, “Зимовка у подножия Чигирикандры”. Был трое суток на маленьком островке, в прибрежии Ладоги, – появляется рассказ “Только бы не было ветра”. Вспоминаю свою юность, больницу, и возникает рассказ “Буденновская шашка”. Но возникает не только потому, что вспомнил. Время дало мысль. Нашлись такие, кто стал ставить под сомнение наши святые идеалы. И “Буденновская шашка” – как ответ им. И как продолжение разговора – рассказ “За второй скобкой”. Но не жить же только воспоминаниями и не сидеть же на одном месте. Надо ездить. На родину. Я там не был сорок лет. Как теперь там? Надо, надо побывать! И поехал. И в итоге большой рассказ “История одной поездки”, наполненный раздумьями о многом, о чем должен думать человек. Так набирается книга рассказов “Роман без любви”» (Лауреаты России. Автобиографии российских писателей. М., 1980.)
Но не в том даже дело, что биография писателя входит в его творчество. Всякий писатель, работающий с конкретным материалом, так или иначе оперирует фактами, почерпнутыми им в жизни (потому-то он и должен хорошо знать жизнь!). В творчестве Сергея Воронина факты биографии получают нравственное осмысление.
Подобным же образом биография Сергея Воронина входит и в большое полотно – роман «Две жизни». Важно не только то, что писатель хорошо знает материал, но и пафос романа, и его нравственный заряд в целом. При этом уважение к жизненному материалу всегда остается для Воронина естественным и важнейшим условием творчества. Вот и в рассказе «Невысказанная благодарность» Воронина интересует, чтобы «та девушка узнала».
Внешне «Невысказанная благодарность» скорее очерк, чем рассказ, но только на первый взгляд. В этом художественном произведении глубоко сопряжены жизни двух женщин – и той, что написала письмо, и той, кому, по существу, оно адресовано. Судьбы их складываются независимо друг от друга до тех пор, пока однажды не пересекаются, чтобы вновь разойтись. Но теперь невысказанная благодарность одной из них незримо воссоединяет эти две судьбы в одну. Такова, по мнению писателя, логика самой жизни, логика людских отношений.
Вместе с тем в рассказе как бы одновременно присутствуют год 1942-й и день сегодняшний, и письмо женщины связывает эти эпохи, соединяет их. Обнародовав письмо, обращенное к неизвестной девушке, писатель тем самым напомнил, что людская доброта не подлежит забвению и у каждого есть время для благодарности. Верится, что слова благодарности дойдут до всех тех, кто творил добро, не ожидая за него вознаграждения. От имени женщины, написавшей письмо, писатель говорит «спасибо» как бы за всех тех, кто почему-либо не произнес этого слова вовремя: «И вот письмо напечатано. И я приобщен к нему и, как та незнакомая мне женщина, томительно жду отзвука на него в надежде, что та, которой оно предназначено, прочитает его и снимет и с моего сердца добровольный груз невысказанной вовремя человеческой благодарности».
Думается, совсем несущественно, действительно ли писатель получал такое письмо. Главное в том, что рассказ жизненно убедителен. Да и нужны ли читателю какие-то дополнительные свидетельства и пояснения?! Рассказ живет самостоятельно, и для него достаточно того материала, которым ограничился писатель.
Тема человеческой доброты и ее проявлений занимает Сергея Воронина на протяжении всего его творчества, в одних случаях являясь центральной, в других – проходя вторым планом, но неизменно присутствуя.
Замкнутым и нелюдимым предстает поначалу перед читателем герой рассказа «Белевич». Но это обманчивое впечатление.
Чужая беда и боль глубоко ранят его и вызывают у него естественное желание помочь людям. Так, он добровольно берет на себя обязанности отца и воспитателя дочерей Клавки, и вовсе не из любви к ней, поскольку никакой любви у них не было, а единственно из чувства человечности, из жалости к детям.
Рассказ заканчивается светло, несмотря на болезнь и смерть Клавки. Мы знаем, что обе девочки имеют надежную опеку, и, хотя мать им никто заменить не сможет, читатель верит, что и сгинуть им Белевич не даст, поднимет, поставит на ноги. И они не утратят веру в добро.
Конечно, в жизни не на каждом шагу встречаешься с такой действенной, активной добротой, но все же Воронин в рассказе не схематизирует, не лакирует жизнь. И она у него предстает далеко не однозначно в разных произведениях, что естественно, если исследовать жизнь, а не творить ее по своему лишь усмотрению. В таком подходе сказывается сознательная позиция писателя, его философия. «Правда жизни всегда объемна, – говорит он в книге «Думы о жизни» (М., 1968), – и неверно показывать только ее положительные стороны, как неверно показывать и только отрицательные».
Сергей Воронин видит сложность и противоречивость жизни, но при этом он всегда обличает зло в любых его проявлениях, всегда стоит на страже действенного, активного добра. Даже в тех случаях, когда он воздерживается от прямого авторского приговора, его нравственная позиция всегда ощутима. Раскрывая доброту поступков, Воронин призывает всех нас к добру активному, творящему. Даже о сложностях любви и супружеской жизни, где решения часто противоречивы и не всегда ведут к счастью, писатель рассказывает с чувством глубокой веры в лучшее, с надеждой, что человек научится быть творцом своего счастья.
Герой рассказа «Вдали от тайги» Струмилов любит свою красивую жену, но ее равнодушие к нему в конце концов разрушает эту любовь, и он встречает девушку, отвечающую ему взаимностью. Вместе они работают в таежной экспедиции, строят планы совместной жизни. И вот когда наконец Струмилов пытается сделать шаг к осуществлению этих планов, он встречается с совершенно неожиданной для него реакцией жены: оказывается, она его любит, ждала, скучала, думала о нем. И вот уже «он не в силах был оторвать ее руки от своих рук… И не в силах был бросить. Мешала жалость. И жить с ней не мог…».
Писатель намеренно не дает развязки этой истории. Мы расстаемся со Струмиловым в тот момент, когда он испытывает чувство безвыходности и беспомощности, удивительной, казалось бы, в таком сильном мужчине. Писатель не подсказывает герою выход из сложившейся ситуации, его интересует другое: как должно или не должно поступать, чтобы такие ситуации не возникали, он хочет призвать людей к бережному обращению друг с другом, к осознанию, что жизнь дана один раз и легко разрушить, но почти невозможно восстановить человеческое счастье.
В своем стремлении к правде жизни Воронин бывает суров и даже жесток, что вроде бы и не вяжется с пафосом всего творчества писателя. Он мало думает о том, чтобы угодить, понравиться читателю. Его интересует одно: как преодолеть то, что мешает людям жить счастливо. А уж решать, как герои будут поступать дальше, Воронин часто предоставляет самому читателю, делая его как бы участником рассказанных событий. Такова позиция писателя, и в этом одно из проявлений своеобразия воронинского видения жизни, миропонимания. И чем сильнее писатель верит в истинность своего взгляда, в свою правду, тем более страстно он проповедует ее. Какими средствами убеждать людей – каждый избирает по своему дарованию, по своим пристрастиям, это, в конце концов, дело мастерства. Можно соглашаться или не соглашаться с системой открытого конфликта, нерешенного конца (имею в виду внешнесмысловую нерешенность, а не художественную), но таков Воронин. И надо рассматривать его таким, каков он есть.
Впрочем, если говорить о «незавершенности» как художественном приеме, следует отметить, что «незавершенные» рассказы – это в большинстве те, герои которых нарушают мир гармоничных отношений, поступают в чем-то не по совести, малодушничают, предают, ищут личной выгоды, не сообразуясь с возможными последствиями.
Совсем иначе, например, решен рассказ «Вейка», рисующий образ Елизаветы Николаевны – чистой, душевно светлой русской женщины, тонко чувствующей чужую боль. Рассказ не только завершен в смысловом и художественном решении, но и окрашен удивительно светлым настроением, несмотря на смерть самой Елизаветы Николаевны. Так у Воронина всегда: там, где торжествует добро, даже смерть лишь омрачает, но не делает жизнь в целом мрачной. Мажорное, оптимистическое начало берет верх, и в конечном счете торжествует все-таки жизнь. Когда писатель говорит о людях цельных, поступающих по совести, там появляется завершенность и гармония. Так диктует писателю сама жизнь.
Проблема человеческой доброты и сопутствующая ей тема счастья занимают ум и сердце писателя. Что такое добро, что есть счастье человеческое? Вечные вопросы. Воронин не дает новых определений этих категорий. Но задача, которую он ставит перед собой, не менее сложная: исследовать природу добра и счастья в жизни человека. Он пытается понять, что нужно данному, конкретному человеку для счастья, в чем будет заключаться его доля добра, которую он должен внести в мир, как это добро осуществить. Несложные вроде бы вопросы, а решать их нелегко. Нелегко и творить добро, ибо человек живет неизолированно, и каждый поступок влечет за собой цепь последствий. И тут трудно давать рекомендации, хотя иногда сами поступки героев подсказывают единственно нужный шаг, ведущий к добру. Так, герой рассказа «Дорогие папа и мама» приютил паренька, брошенного матерью, но не сумел убедить в своей правоте других, не сумел настоять на своем. В результате доброе намерение так и осталось намерением, а маленькому человечку, поверившему ему, нанесена еще одна душевная рана.
В небольшом рассказе «Счастье» герой, от чьего имени ведется рассказ, по неосторожности едва не убивает внучку, которая даже не поняла, что произошло. И вот тут-то он впервые испытывает чувство, которое он называет счастьем.
«Ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему. И в этом “ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему” был великий, прекрасный смысл!
Как все рядом лежит, удивленно думал я, жизнь и смерть. Счастье и горе. Их отделяет неуловимая граница, которую всегда можно незаметно для себя перешагнуть нечаянно, бездумно. Этого я не понимал раньше. Случалось, что мне надоедало однообразие, хотелось, чтобы необычное нарушило привычное, и только тут я понял, что привычное, однообразное – это установившийся порядок, когда в семье все здоровы, когда уверенно чувствуешь себя на работе, когда в доме тепло и все сыты, обуты, одеты, и твоя совесть чиста и спокойна. Когда во всей окружающей тебя жизни порядок. То есть когда ничто извне не нарушает твоего привычного, обыденного. Да ведь это же счастье! Это и есть самое настоящее счастье, о котором все время говорят, пишут, которое ищут люди!»