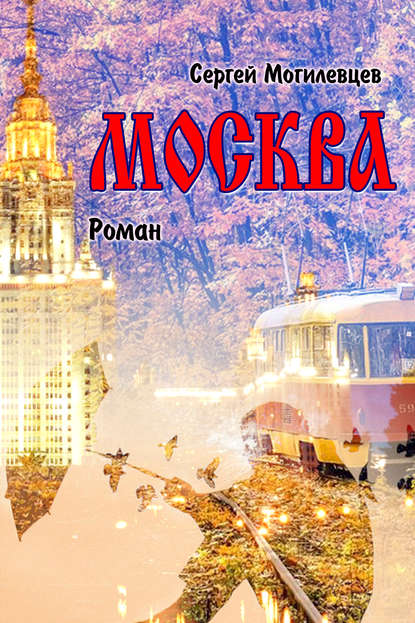Полная версия
Остров Проклятых
Прежде всего следовало позвонить этой загадочной Анастасии, этой девушке революции, и услышать ее живой голос, который, разумеется, должен звучать, как чудесная музыка. А как же иначе, скажите мне, должен звучать голос «Свободы на Баррикадах»?
– Это библиотека Майдана? – спросил я после того, как гудки закончились. – Могу я поговорить с Анастасией?
– Я вас слушаю, – ответили мне с той стороны.
– Я русский писатель Сергей Могилевцев, живу в Крыму, в Алуште, и мне хотелось бы послать книги в вашу библиотеку.
– Вы русский писатель, живущий в Алуште?
– Да, это мой город детства, я живу здесь наездами, и не очень долго, а так в основном обитаю в Москве. У меня много книг, все на русском языке, и я бы хотел послать некоторые из них на ваш адрес. Скажите, вас зовут Анастасия?
– Да, – ответила она, – меня зовут Анастасия, и я очень рада вашему звонку. Хотя, если честно признаться, с юго-востока Украины нам звонили и предлагали свои книги всего лишь несколько человек. Собственно говоря, вы всего лишь второй, больше никто из вашего региона нам не звонил.
– Но почему? – спросил я у нее.
– А вы разве не понимаете?
– Нет, совершенно не понимаю. Раз я писатель и у меня есть книги, которыми я хочу поделиться с другими, почему я не могу этого сделать? Может быть, вас пугает тот факт, что мои книги на русском языке? К сожалению, я не пишу на украинском.
– Нет, что вы, это не играет совсем никакой роли, у нас большая часть книг в библиотеке Майдана именно на русском языке. Киев вообще русскоговорящий город, здесь большинство говорят и даже думают именно по-русски.
– Тогда в чем же дело?
– В том, что мы с вами разные. В том, что мы с вами враги!
– Кто «мы»?
– Мы, защитники Майдана, и вы, юго-восток Украины!
– Простите, когда речь идет о культуре, нет никаких врагов, это область, свободная от какой-либо идеологии. Это нейтральная территория, земля вечного перемирия, и даже, если хотите, вечной любви. Я покорен эстетикой революции, я влюблен в идею Майдана, я вообще революционер по своим убеждениям, и мне плевать, что кто-то здесь считает вас своими врагами. Я, во всяком случае, вас своими врагами не считаю. Те, кто читает мои книги, автоматически становятся моими друзьями. А тот факт, что все они рискуют жизнью, и могут в любой момент погибнуть, делает наше содружество еще прекрасней. Кто знает, быть может какая-то из моих книг, спрятанная на груди у бойца Майдана, примет на себя пулю, летящую в сердце, и спасет его от смерти. Как партбилет в кармане у солдата времен последней войны.
– Вы говорите о войне с фашистами?
– Да, во времена моего детства это была практически единственная тема, о которой говорили, спорили, и даже показывали в кино.
– К сожалению, я эти времена не застала, в детстве мы говорили уже совсем о других вещах.
– А сколько вам лет, Анастасия?
– Двадцать один.
– Вы где-нибудь учились?
– Да, я закончила университет в Ивано-Франковске по специальности библиотечное дело.
– Выходит, ваша специальность вам пригодилась, и вы не зря потратили на учебу свое время.
– Да, я очень горжусь тем, что помогаю революции, и собираю книги для библиотеки Майдана.
– А вы никогда не стояли на баррикадах со знаменем революции в руках?
– Ну что вы, меня здесь все оберегают, и не позволяют даже близко приближаться к баррикадам. На баррикадах находятся в основном мужчины, а мы, женщины, помогаем в тылу всем, чем можем. Перевязываем раненых, закрываем глаза убитым, или собираем книги для библиотеки Майдана.
– Так вы не возражаете, если я пошлю вам свои книги?
– Конечно, не возражаю. Но будьте осторожны, и не забывайте, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад. Послав книги для библиотеки Майдана, вы автоматически станете врагом для своих соотечественников.
– Я не верю в это, – искренне ответил я ей, – литература интернациональна, она живет по своим законам, которые выше нелепых разделений на своих и чужих.
– И все же не забывайте о моем предостережении, и будьте осторожны. Не афишируйте нигде, что вы послали нам свои книги. Сделайте это тихо и незаметно. Посылайте их на адрес киевского Дома профсоюзов, там на первом этаже в холле находится наша библиотека. А вообще-то, я очень рада, что нашелся русский писатель, который не побоялся послать нам книги, и сегодня же расскажу об этом своим друзьям.
– Спасибо, Анастасия, берегите себя, и не подходите близко к тем местам, где стреляют.
– У нас стреляют везде, – со смехом отвечала она, – но все же я последую вашему совету.
– Я перезвоню вам, Анастасия!
– Я буду ждать вашего звонка, Сергей!
Вот и все, больше мы с ней никогда не говорили. Потому что вскоре сгорел Дом профсоюзов со всей библиотекой Майдана, а вместе с ней и мои книги, которые туда все же дошли. Я часто задавал себе вопрос: была ли хотя бы капля моей вины в том, что случилось, и не могли ли мои несколько книг хоть как-то повлиять на это трагическое событие? Но сколько я не задавался этим вопросом, я так и не смог на него до конца ответить. Однако то, что вместе с моими собственными книгами в Доме профсоюзов сгорела и часть меня самого, нет никакого сомнения. Да, а я еще не сказал, что вместе с библиотекой Майдана в Доме профсоюзов сгорела и Анастасия?
Впрочем, шагая в тот же день по залитым солнцем улицам зимней Алушты, я еще не мог знать об этом. Я был окрылен только что закончившимся разговором, собрал впопыхах несколько своих книг, все по несколько экземпляров, подписал одну из них Анастасии, остальные библиотеке, поскорее оделся, и вышел на улицу. Февральская Алушта была наполнена ранней весной, яркое солнце и легкий морской бриз вселяли надежду на будущее, а в сумке, которую я нес в руке, лежали два мои новых романа и две книги сказок. Для взрослых и для детей. И романы, и сказки должны были понравиться тем, кто их будет читать, я нисколько не сомневался в этом, ведь до сих пор они нравились очень многим. Я так замечтался, что не заметил, как подошел к дверям почты. На лицах тех, кто принимал посылку, было написано легкое недоумение. Если бы я был внимателен, я бы понял, что, посылая книги в библиотеку Майдана, я автоматически становлюсь своим среди чужих, и чужим среди своих. Так же, как говорила об этом она. Но в тот момент я предпочитал не думать об этом. О том же, что вместе с моими книгами в грядущем пожаре сгорела и Анастасия, я, кажется, уже говорил.
3. Книги
Когда сжигают книги Шекспира, Сервантеса, Гомера, или Гёте, всегда можно сказать, что по большому счету в этом нет ничего страшного. Что времена мракобесия пройдут, люди осудят средневековое варварство, и книги классиков вновь вернутся на книжные полки. Ибо классика бессмертна, и сжечь ее невозможно. Но когда сжигают твои собственные книги, пусть и достаточно известные, дело принимает совсем другой оборот. А вдруг среди сожженных книг была твоя последняя книга, и, уничтожив ее, варвары тем самым нанесли тебе непоправимый урон. Нанесли непоправимую рану. Хорошо еще, если от книги осталась рукопись, и ты сможешь вновь восстановить ее, с трудом расшифровывая собственные записи, сделанные впопыхах по ночам не то при свете свечи, не то современной настольной лампы. Утраченную книгу вообще восстановить очень сложно, а до последней буквы и запятой восстановить практически невозможно. Восстанавливая утраченную книгу, ты теряешь следующую, которую мог бы написать за то же самое время. А если вместе с уничтоженной книгой уничтожают и тебя, ее автора, книга вообще будет потеряна навсегда. То есть какое-то время люди будут помнить, что она была написана, и написана, кажется, хорошо, потом о ней начнут постепенно забывать, а спустя несколько лет наступит момент, когда о ней не будет помнить никто. Книга умирает не в тот момент, когда ее жгут на костре, а когда о ней перестают помнить. В этот момент она умирает окончательно, как будто ее никогда никто не писал. Как будто никто никогда не вдохновлялся великими подвигами, не испытывал лишений и бедствий, не отказывался от самого дорогого, иногда даже от друзей, жены и детей, но все же дожидался момента, когда ставил последнюю точку в рукописи, а потом и держал в руках готовую, пахнущую типографской краской, книгу. Если кто-нибудь думает, что это высший миг в жизни писателя, миг ликования и победы, то он глубоко заблуждается. Это миг страшной опустошенности и утраты, миг полного изнеможения, а иногда даже и нежелания продолжать жить на этом свете. То, что Ницше называл сумерками богов. Ты был богом, творя свою книгу, и ты стал никем, закончив ее. Впрочем, это тонкости, которые не должны никого занимать. Личная жизнь и судьба писателя – это его личная жизнь и судьба, и никому не следует совать в нее свой любопытный нос.
После того, как во время пожара сгорела библиотека Майдана, а вместе с ней сгорели и мои собственные книги вместе с приютившей их Анастасией, я какое-то время был сам не свой. Я был потрясен этим пожаром настолько, что не находил себе места, и не обращал внимания на события, происходившие вокруг. То я начинал винить себя в том, что это я виноват в пожаре киевского Дома профсоюзов, в котором погибло не менее сотни людей. Что, не пошли я туда свои книги, все могло быть совершенно иначе, и никакого пожара вообще не было. Что, возможно, мои книги, мои романы и сказки были для кого-то настолько опасны, что их специально сожгли, а вместе с ними сожгли Анастасию и других находящихся рядом людей. Что, возможно, я стал таким большим классиком, что пришла пора сжигать мои книги, и их действительно стали сжигать. Но, какое-то время воображая, что это так, я вдруг приходил в себя, и начинал смеяться себе в лицо. Я обвинял себя в непомерной гордыне, в тщеславии и в чудовищном самомнении, я смеялся над собой, и говорил, что мои книги ничтожны, и вообще никому не нужны. Что я жалкий литературный червь, корпящий с утро до вечера за письменным столом неизвестно зачем, никому ненужный и совершенно безвестный. Так я кидался из стороны в сторону между этими двумя полюсами, то виня себя в гибели библиотеки и Анастасии, то говоря, что книги мои ничтожны, и никто из бойцов Майдана даже не захотел взять их в руки. Как-то, промучившись такими раздумьями почти до утра, я неожиданно заснул прямо за письменным столом, и увидел странный сон. Я был один внутри сгоревшего Дома профсоюзов, вокруг были они лишь почерневшие стены да горы обугленных обломков, а спереди по длинному темному коридору шла навстречу мне Анастасия. Я сразу же понял, что это именно она, понял потому, что она была необыкновенно прекрасна, была именно такой, какой я ее себе представлял. Она была одета в прозрачные невесомые одежды, совсем не скрывавшие ее прекрасного белого тела, а над головой ее и вокруг всей фигуры стояло еле заметное призрачное сияние.
– Здравствуй, Анастасия, – сказал я ей, – откуда ты здесь появилась?
– Оттуда, – кивнула она в сторону, из которой шла мне навстречу, – из библиотеки Майдана, которая находится здесь же, на первом этаже здания.
– А разве библиотека Майдана не сгорела вместе со всем этим зданием, и теми людьми, которые в нем находились?
– Конечно, нет, библиотека не может сгореть, и тебе, как писателю, это должно быть известно лучше других. Могут сгореть дома и люди, находящиеся в них, но книги сгореть не могут. Тебе, как писателю, должно быть известно это в первую очередь. Ведь ты же знаешь, что ни рукописи, ни книги в огне не горят.
– Да, я знаю это, – ответил я ей. – Веди меня скорее к библиотеке и к моим книгам, которые находятся в ней!
– Хорошо, пойдем, – сказала она, беря меня за руку, и поворачивая по коридору назад, – ты сам сейчас убедишься, что все именно так.
Мы повернули в ту сторону, откуда она пришла, и вышли в просторный холл, находящийся на первом этаже Дома профсоюзов. Здесь не было никаких следов бушевавшего недавно огня, вокруг стояли длинные стеллажи, наполненные книгами, а рядом на креслах и стульях сидели одетые в камуфляж люди, держащие каждый в руках какую-нибудь раскрытую книгу.
– Вот видишь, – со смехом сказала Анастасия, – ничего не сгорело, все находится на своих местах, а бойцы в перерывах между боями читают книги, которые ты им прислал!
– Мои собственные книги?
– Да, твои собственные книги! Присмотрись хорошенько, с какой радостью и вниманием они их читают!
Я присмотрелся внимательно, и увидел, что у сидящих вокруг в разных позах людей были в руках мои собственные книги. Те самые два романа и две книги сказок, которые я и посылал сюда, предварительно их подписав. Но, странное дело, люди, внимательно склонившиеся над моими книгами, и, кажется, шевелившие от усердия губами, вовсе не были настоящими людьми! Это были безжизненные манекены с блестящими лакированными лицами и такими же безжизненными и неподвижными пальцами, в которых они держали мои книги.
– Но ведь это не люди, а манекены, – страшно испугавшись, сказал я Анастасии. – А где же находятся настоящие люди?
– Настоящие люди сгорели в пожаре вместе со всеми, кто находился в этом здании, всего около ста человек. К сожалению, люди горят в огне точно так же, как дома, мебель, и другие предметы, не горят только книги.
– Неужели книги долговечнее людей?
– Намного долговечнее. Можно убить, или сжечь на костре человека, но невозможно убить, или сжечь книгу. Написанная книга практически вечна, и именно поэтому ты видишь перед собой нетронутую огнем библиотеку Майдана.
– А люди, что стало с людьми, которые читали мои и все остальные книги из этой библиотеки?
– Не волнуйся о них, они сгорели, и сейчас находятся на небесах.
– И продолжают там читать мои книги?
– И продолжают там читать твои книги!
– А есть ли моя вина в том, что случился этот страшный пожар?
– Разумеется, есть. Писатель, чью книгу жгут на костре, всегда виновен в том, что этот костер разожгли. Каждый писатель должен быть готов к тому, что его книгу когда-нибудь сожгут на костре, и что в огне этого костра могут погибнуть люди.
– Но как же мне теперь жить с этим страшным знанием?
– Живи спокойно, твоя вина хоть и существует, но не так велика, как вина тех, кто поднес спичку к костру. Живи дальше, и продолжай писать свои книги!
– А ты, что будет с тобой?
– Со мной уже ничего не будет, ибо я теперь живу в вечности, вместе с теми людьми, которые перед смертью успели прочитать твои книги!
– А это правда, они действительно перед смертью успели их прочитать?
– Конечно, правда, перед смертью вообще все делается гораздо быстрее, чем в остальные моменты жизни. Быстрее дышится, быстрее читается, и быстрее живется. Последнее мгновение перед смертью вообще равно всей будущей жизни, и поэтому у оставшихся в живых нет вообще никаких преимуществ перед теми, кто умерли. Все находятся в одинаковом положении, но это большой секрет, и ты его никому не рассказывай!
– Хорошо, Анастасия, не буду. Скажи, мы с тобой еще когда-нибудь встретимся?
– В этой жизни нет, но не забывай, что еще существует и жизнь вечная!
– А там все точно так же, как в жизни земной?
– Умрешь, тогда и узнаешь, – с печальной улыбкой сказала она, сделала прощальный знак рукой, и исчезла.
Этот сон, который я запомнил до мельчайших подробностей, что тоже само по себе было очень странно, еще больше выбил меня из колеи, и я, кажется, пропустил много не менее удивительных событий, которые происходили вокруг. Но, согласитесь, человеку не под силу обращать внимание сразу на все.
4. Жертвоприношение
По какой-то странной случайности, а быть может, по злому року, за каждой моей книгой обязательно стояла женщина. Это происходило в неявной форме, очень часто не совпадало по времени, как в случае с Анастасией, которая, совершенно очевидно, погибла именно потому, что я написал свои книги, посланные в библиотеку Майдана, но это было именно так. За самой первой моей книгой тоже стояла женщина с не менее красивым именем, чем имя той, которая погибла в страшном огне. Устав писать рассказ за рассказом, и время от времени печатать их в одном известном московском издательстве, а также в московских журналах, я решил издать их целиком в виде отдельной книги. В моем московском издательстве стояла очередь на многие годы вперед из желающих заполучить наконец свой собственный, заветный томик рассказов и повестей, и поэтому я решил идти совершенно другим путем. В стране началась перестройка, рушилась мировая империя, от нее откалывались целые обломки, все вокруг умирало и рождалось заново, никто ничего не понимал, и одновременно надеялся на какое-то чудо. В этих условиях можно было за день, или за месяц, сделать то, на что раньше ушли бы целые годы. Это относилось и к изданию собственной книги. У меня в то время совершенно чудесным и малообъяснимым путем появились приличные деньги, и мне нужен был лишь консультант, или надежный друг, который бы нашел издателя, согласного выпустить мою книгу. И точно таким же чудесным образом такой консультант и такой друг моментально нашелся. Ее звали Инесса, она была внучкой испанского эмигранта, бежавшего из своей страны от режима Франко, и навсегда осевшего в снежной России. Я не решаюсь здесь приводить ее фамилию, настолько мелодичную и красивую, что в сочетании с уже упомянутым мною именем она просто кружила голову и рождала странные и не всегда приличные фантазии. Впрочем, она не была красавицей, скорее наоборот, но мы с ней довольно быстро сошлись, и между нами возникло нечто вроде недолгой дружбы. Если вообще возможна дружба между мужчиной и женщиной. Она совсем не заботилась о своей внешности, ходила в каком-то умопомрачительном полушубке, сшитом из неизвестного науке существа, писала рассказы из жизни революционеров, занималась йогой, пила по часам воду из чайника, и вообще производила впечатление чего-то невиданного, неслыханного и невозможного. Все это меня чрезвычайно устраивало, поскольку с ней все было очень просто, не надо было заигрывать и говорить комплименты, в том числе и комплименты по поводу достоинства ее революционных рассказов, а в сочетании с ее необыкновенной информированностью она вообще была вне конкуренции. Она жила на самом последнем этаже высотки на восточной окраине Москвы рядом с усадьбой Кусково, куда сразу же потащила меня, рассказывая, что именно здесь прошло ее детство. Здесь какое-то время работал в некоем тайном центре ее революционный дедушка, в память о котором она писала свои революционные рассказы и повести. Дедушка вообще не только дал ей звучную испанскую фамилию, но и закодировал ее на всю оставшуюся жизнь, ибо теперь ни о чем другом, кроме как о революции, она писать не могла. Мы условились, что за мои деньги издадим две книги: ее и мою, – а после их реализации на Арбате, которая, конечно же, пройдет успешно, она вернет мне все. Она, кроме того, вызвалась сделать рисунки к моим рассказам, и это еще больше сблизило нас. Квартира ее на уже упоминавшемся последнем этаже высотки рядом с усадьбой Кусково вся сплошь была заставлена бочонками и кадками с вечнозелеными растениями, у подножия одного из которых на старом матраце и была устроена моя импровизированная постель. Я в те времена был не менее экзотическим существом, чем она, если и не внешне, то по крайней мере внутренне, и нет ничего странного, что произошло то, что и должно было произойти. Или не произошло, я уже точно не помню. К тому времени, как обе наши книги были готовы, и мы начали продавать их на Арбате, произошло многое, о чем опять же мне рассказывать неинтересно. Мы с ней были слишком разные, и жили в совершенно разных мирах, которые соединить было нельзя. Она не могла предать память революционного дедушки, и смотрела на мир глазами бойца интернациональных бригад, деля весь мир на белое и черное, на своих и чужих, на тех, кого надо поставить к стенке, и тех, кого ставить туда не надо. В ней был заложен первоначальный надрыв и неизбежная трагедия, которая лишь до времени сдерживалась всей этой ее экзотичностью и непохожестью на других. Но то, что душа ее вошла в мою книгу, и осталась в ней навсегда, было несомненно. Она создала к этой книге довольно талантливые иллюстрации, научила меня пить воду из чайника и выполнять йоговские упражнения, показала свои тайные и заповедные убежища в усадьбе Кусково, и даже, кажется, сделала на время участником далеких испанских интербригад. Мы какое-то время довольно успешно торговали на Арбате двумя нашими книгами, деньги от которых так же успешно вместе потратили. Но с каждым днем становилось все очевидней, что мы все же настолько разные, что кроме совместной издательской деятельности нас не сближает практически ничего. Я уехал, унося с собой книгу, в которой навечно теперь жила ее душа. А еще чрез некоторое время мне сообщили, что она умерла. Я не был на ее похоронах, и впоследствии не посещал ее могилу, потому что боялся тех ответов и тех вопросов, которые при этом неизбежно возникнут. Я боялся обвинений самого себя в том, что это именно я виноват в ее смерти. Что, вложив душу в мою книгу, она одновременно и потеряла часть своей собственной души. Что моя книга, как некое варварское божество, потребовало положенную ему жертву, и что такой жертвой была Инесса. Разумеется, все это было притянуто за уши, все это были лишь мои собственные фантазии, плоды моего больного писательского воображения, но я до сих пор уверен, что каждая книга, как языческий монстр, требует, чтобы ей принесли необходимую жертву. Это не всем понятно и не всем видно, сам выход книги и принесенная ей жертва могут не совпадать во времени, но я по-прежнему уверен, что это именно так. Глядя на библиотеки, забитые от пола до потолка тысячами и миллионами изданных в разное время книг, я теперь невольно представляю себе те бесконечные гекатомбы, те кровавые дары, те горы трупов, которые незримо громоздятся рядом с этими библиотеками, и беззвучно взывают к возмездию. Кто его знает, быть может, книгопечатание есть величайшее зло в истории человечества, и без него все на земле было бы не так кроваво и не так плохо.
5. Автономия
Я, кажется, определенно становлюсь крымско-татарским идеологом. Мой издатель совершенно не понимает элементарных вещей, и это при том, что входит в руководство Меджлиса.
– Султан Ахметович, – говорю ему я, – вам нельзя оставаться в составе России, вы должны всеми силами держаться за Украину.
– Но почему? – искренне недоумевает он, – что плохого в том, что крымско-татарский народ вместе со всем Крымом станет частью России?
– Плохого в этом ничего нет, я сам хочу стать частью России. Но вы ведь хотите автономии, разве не так?
– Да, – отвечает он мне, – мы хотим крымско-татарской автономии на территории всего полуострова.
– Вы никогда не получите такую автономию, если Крым станет частью России. Поверьте мне, как русскому человеку, это невозможно ни сейчас, ни через год, ни через тысячу лет. Татарам в России никогда не дадут автономию, в Украине дадут, а в России не дадут ни за что.
– Но почему?
– Да потому, что для русского уха слово «татарин» звучит хуже, чем слово «фашист». Нет более страшного и ужасного слова для русского уха, чем слово «татарин». Четыреста лет татарского рабства навсегда впечатали в кровь, плоть и мозг русского человека недоверие к татарам. И уже совершенно не важно, что крымские татары – это совсем другие татары, а вовсе не те, которые разоряли и порабощали Русь на долгие четыре столетия. Это совершенно никого не волнует, и с этим никто всерьез не подумает разбираться. Да, разумеется, вы коренной крымский народ, и вы заслуживаете своей автономии. Но дело в том, что вы татары, а не марсиане, или, к примеру, жители Альфа Центавра. Меняйте свое название, будьте не татарами, а марсианами, и вам с радостью дадут автономию в составе России!
– Неужели все настолько серьезно? – искренне удивляется он.
– Чрезвычайно серьезно. Так серьезно, что больше уже не бывает. Вы ведь видите, какие события происходят вокруг. В Киеве Майдан, Янукович бежал, а в Симферополе в центре города посреди дня жгут книги. Может случиться все, что угодно, и лично я эти перемены только приветствую. За исключением сжигания книг, разумеется. Я писатель, и чем больше вокруг произойдет событий, тем легче мне будет описать их в очередном романе. Для меня главное – это русский язык, и его отнять у меня не в силах никто. А для вас, для народа, главное – это земля. Я воюю за язык, а вы воюете за землю, в этом наше с вами различие. Я сегодня живу здесь, а завтра, если условия жизни станут невыносимыми, могу уехать, куда угодно. А целый народ со своей земли уехать не может, разве что если его не депортируют в Среднюю Азию за двадцать четыре часа.
– За сорок восемь часов, – отвечает он мне, – в сорок четвертом нас депортировали отсюда за сорок восемь часов.
– Сорок восемь, или двадцать четыре, это не суть важно. Важно то, что если вы не будете в Украине, вы свою автономию никогда не получите!