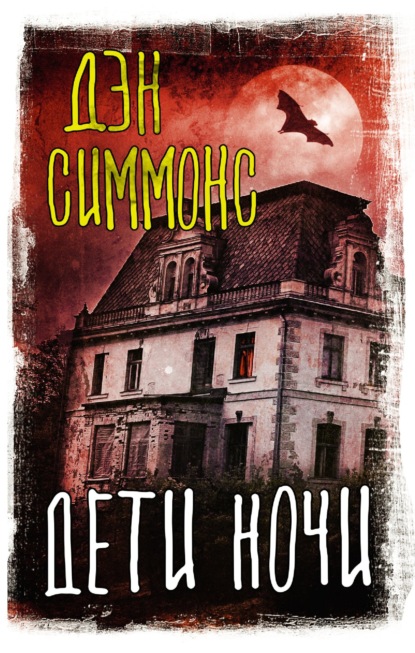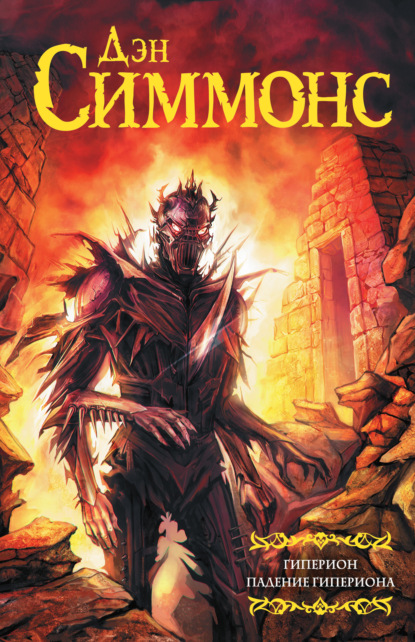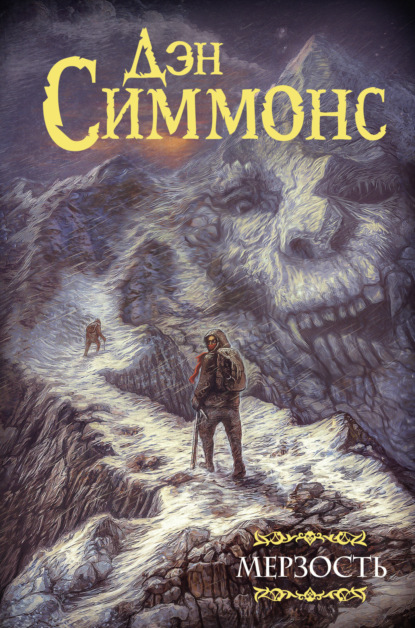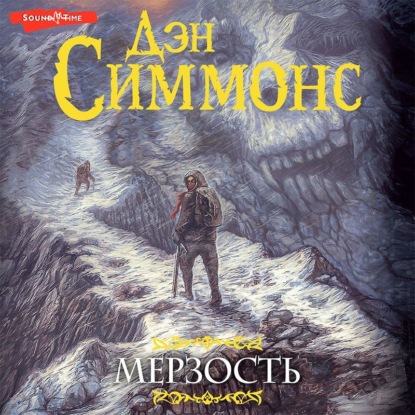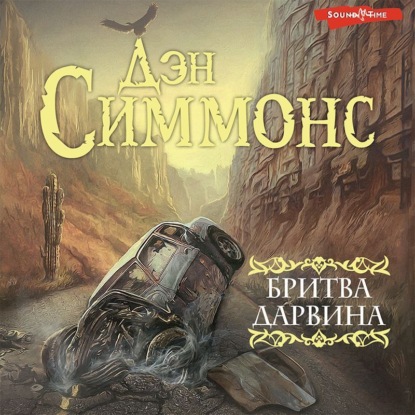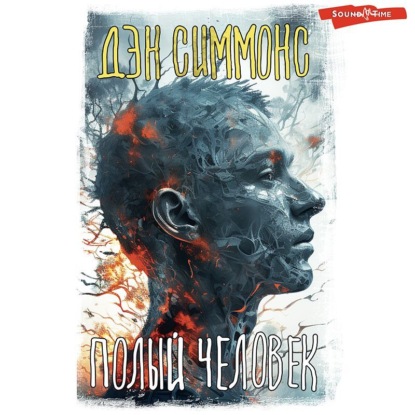Полная версия
Олимп
– Эти люди – наши союзники, гости, приглашенные мной на погребение моего брата! – воскликнул Гектор. – Вы не причините им вреда. Любой, кто ослушается приказа, падет от моей руки. Клянусь костями моего брата!
Из-за платформы, поднимая щит, выступил Ахиллес. Вот он-то был и в лучших доспехах, и при оружии. Сын Пелея более не шелохнулся, даже не произнес ни слова, но каждый на площади ощутил его присутствие.
Троянцы посмотрели на своего вождя, перевели взгляды на быстроногого мужеубийцу Ахиллеса, в последний раз обернулись на жаркий костер, где догорало тело женщины, – и отступили. Менелай видел растерянность на смуглых лицах троянцев, видел, что толпа теряет воинственный дух.
Одиссей повел ахейцев к Скейским воротам. Менелай и прочие опустили мечи, однако не спешили прятать их в ножны. Троянцы нехотя расступались, будто море, все еще жаждущее крови. За городской стеной стояли новые и новые шеренги недавних врагов. Филоктет шагал в середине тесного круга.
– Клянусь богами… – зашептал он. – Клянусь…
– Заткни свою поганую пасть, старик! – прорычал могучий Диомед. – Скажешь еще слово до того, как мы вернемся к черным кораблям, и я тебя сам прикончу.
Но вот позади остались ахейские караулы, защитные рвы и силовые поля моравеков. Как ни странно, на берегу царило волнение, хотя сюда еще не могли докатиться слухи о беде, чуть было не разразившейся в Илионе. Менелай оторвался от остальных и побежал вдоль берега.
Мимо промчался воин, громко дуя в раковину моллюска.
– Царь вернулся! – кричал он на бегу. – Предводитель вернулся!
«Это не Агамемнон, – подумал Менелай. – Его еще месяц ждать, а то и два».
И тут же увидел брата, застывшего на носу самого большого из тридцати черных кораблей, составлявших его маленький флот. Золотые доспехи сверкали на солнце. Гребцы проворно вели длинное, тонкое судно через прибой к берегу.
Менелай вошел прямо в волны, пока вода не покрыла бронзовые поножи.
– Брат! – воскликнул он, размахивая руками, как мальчишка. – Какие вести из дому? Где новые воины, которых ты обещал привезти?
До берега оставалось шесть или семь десятков футов. Черный нос корабля рассекал пенистые буруны. Агамемнон прикрыл глаза рукой, как будто ему было больно смотреть на послеполуденное солнце, и прокричал в ответ:
– Пропали, брат Атрид! Все до единого!
5Погребальный костер будет гореть всю ночь.
Томас Хокенберри, получивший степень бакалавра в колледже Уобаш, магистра гуманитарных наук и доктора филологии в Йеле, в прошлом преподаватель Индианского университета – вернее, глава отделения классической литературы до своей смерти от рака в две тысячи шестом году нашей эры, – а в течение последних десяти лет из десяти лет и восьми месяцев после своего воскрешения – гомеровский схолиаст олимпийских богов, обязанный ежедневно в устной форме отчитываться перед Музой по имени Мелета о ходе Троянской войны, а точнее, о сходстве и расхождениях событий с теми, что описаны в гомеровской «Илиаде» (боги оказались неграмотными, словно трехлетние дети), перед наступлением сумерек покидает площадь с погребальным костром и поднимается на вторую по высоте башню Илиона, ветхую и опасную, чтобы спокойно поужинать хлебом с сыром и выпить вина. На взгляд Хокенберри, день выдался долгий и жутковатый.
Башня, где он часто уединяется, стоит ближе к Скейским воротам, чем к центру города возле Приамова дворца, однако не на главной проезжей дороге, и бо́льшая часть складов у ее подножия сейчас пустует. Официально башня – одна из самых внушительных в довоенной Трое, почти четырнадцать этажей по меркам двадцатого века, – закрыта для посещения. Когда-то она венчалась шарообразным утолщением, похожим на маковую коробочку, что придавало ей сходство с минаретом. В первую неделю нынешней войны сброшенная богами бомба уничтожила верхние три этажа и разбила наискосок маковую головку, оставив несколько верхних комнат без крыши. Башню изрезали пугающие трещины, а узкую винтовую лестницу усеяли вылетевшие из стен камни и штукатурка. Два месяца назад Хокенберри с немалым трудом расчистил себе дорогу наверх, к маковке на одиннадцатом этаже. По указанию Гектора моравеки оклеили входы оранжевой лентой с графическими пиктограммами, предупреждающими, как опасно туда лезть (согласно самым жутким из картинок, башня могла рухнуть в любую минуту), и прочими символами, предписывающими держаться подальше под угрозой царского гнева.
Охотники за наживой обчистили строение за трое суток, после чего местные жители и в самом деле стали обходить пустое, никчемное здание стороной. Хокенберри пролезает между оранжевыми лентами, включает фонарик и начинает долгое восхождение, нимало не боясь, что его арестуют, ограбят или просто остановят. Он вооружен ножом и коротким мечом. К тому же он хорошо известен: Томас Хокенберри, сын Дуэйна, товарищ… ну ладно, не товарищ, но по крайней мере собеседник… Ахиллеса и Гектора, не говоря уже о более коротком знакомстве с моравеками и роквеками. В общем, любой троянец или грек хорошенько подумает, прежде чем на него напасть.
Хотя, конечно, боги… Но это уже другое дело.
На третьем этаже у Хокенберри начинается одышка. К десятому он с присвистом хватает ртом воздух. Добравшись до полуразрушенного одиннадцатого – пыхтит, будто «паккард» сорок седьмого года выпуска, некогда принадлежавший его отцу. Больше десяти лет он наблюдал, как эти смертные полубоги – равно троянцы и греки – сражались, пировали, любились и буянили, словно ходячая реклама самого успешного в мире клуба здоровья, не говоря уже о богах и богинях, которые, пожалуй, послужили бы ходячей рекламой лучшего клуба здоровья во Вселенной. Однако Томас Хокенберри, д. ф. н., так и не нашел времени заняться собственной формой. «Вот так всегда», – думает он.
Узкие ступени круто вьются по сердцевине круглого здания. Дверных проемов здесь нет; предзакатный свет проникает с двух сторон через окна тесных комнатушек, однако сама лестница утопает во мраке. Хокенберри светит себе под ноги, убеждаясь, что ступени еще на месте и не засыпаны новыми обломками. Хорошо хоть стены не исписаны. «Одно из многих благословений поголовной неграмотности», – думает профессор Томас Хокенберри.
В который раз, достигнув маленькой ниши на верхнем – теперь уже – этаже, расчищенной его руками от пыли и штукатурки, хотя и открытой ветрам и дождю, он решает, что восхождение стоило затраченных усилий.
Усевшись на свой любимый камень, Хокенберри откладывает фонарик, одолженный ему месяцы назад одним моравеком, кладет на пол мешок, достает свежий хлеб и заветренный сыр, а потом выуживает бурдюк с вином. Вечерний ветер с моря колышет его отросшую бороду и длинные волосы. Хокенберри не спеша нарезает боевым ножом куски сыра, отхватывает ломти хлеба, любуется видом и чувствует, как исподволь, капля по капле, рассеивается напряжение трудного дня.
Вид отсюда и впрямь хороший. Обзор почти в триста градусов, ограниченный лишь уцелевшим обломком стены за спиной, позволяет рассмотреть не только бо́льшую часть города – погребальный костер Париса в нескольких кварталах к востоку с такой высоты кажется расположенным почти под ногами, – но и стены Трои, на которых в этот час начинают зажигать факелы, а также лагерь ахейцев, растянувшийся к северу и к югу вдоль побережья. Сотни далеких огней напоминают Хокенберри картину, однажды увиденную мельком в иллюминатор самолета, снижающегося в сумерках над Лейк-Шор-драйв в Чикаго, – ожерелье движущихся фар и окон жилых домов. Вдали, едва различимые на волнах винноцветного моря, темнеют три десятка кораблей, только что вернувшихся с Агамемноном. Длинные суда покачиваются на якорях: лишь незначительную их часть вытащили на берег. Лагерь Агамемнона, в последние полтора месяца почти пустовавший, теперь пылает заревом костров.
Да и небеса здесь не пусты. На северо-востоке последняя из дыр – проколов пространства, или бран-дыр, или что там это такое (ее называют просто Дырой) – вырезает из троянского неба диск, соединяя Илионскую долину с океаном на Марсе. Красная марсианская пыль сменяет бурую почву Малой Азии без всякого перехода, без единой трещинки. На Марсе сейчас чуть более ранний вечер, и багровые сумерки выделяют Дыру на фоне более темного неба старой Земли.
Дозорные моравекские шершни, мигая алыми и зелеными навигационными огнями, патрулируют пространство над Дырой, над городом, кружат над морем и вновь устремляются на восток, туда, где еле различимыми тенями вздымается поросшая лесами Ида.
Хотя сейчас зима и солнце село рано, на улицах Трои кипит жизнь. На рыночной площади у Приамова дворца торговцы только что свернули свои навесы и теперь увозят непроданный товар на тележках. Даже с такой высоты Хокенберри слышит долетающий по ветру скрип деревянных колес. Зато соседние проулки, где теснятся бордели, рестораны, бани и опять бордели, в это время лишь начинают пробуждаться, заполняясь отблесками факелов и толчеей. По троянскому обычаю на всех больших перекрестках, а также углах и поворотах городской стены дозорные каждый вечер зажигают огромные жаровни, где всю ночь горят дрова или масло. Темные тени жмутся к этим огням для тепла.
Ко всем, кроме одного. На главной площади все еще горит погребальный костер Париса, однако никто не ищет его тепла. Лишь Гектор громко стенает и плачет, призывая своих воинов, рабов и слуг подбрасывать в бушующее пламя больше дров, а сам большим двуручным кубком черпает из золотого сосуда вино и возливает вокруг костра. Издали чудится, будто вымокшая насквозь земля сочится багряной кровью.
Хокенберри уже заканчивает ужин, когда на лестнице слышатся чьи-то шаги.
Сердце бешено стучит, во рту привкус страха. Кто-то его здесь выследил. Шаги на ступенях чересчур тихие, как будто кто-то крадется тайком.
«Может, просто какая-нибудь бедная женщина ищет, чем поживиться», – думает Хокенберри, однако луч надежды гаснет, едва загоревшись. Во-первых, из темноты слабым эхом доносится тихий звон металла – видимо, бронзовых доспехов. А во-вторых, троянские женщины куда опаснее большинства знакомых ему мужчин двадцатого и двадцать первого столетий.
Хокенберри как можно тише встает, убирает в сторону хлеб, сыр и вино, прячет кинжал в ножны, беззвучно вытаскивает меч и, укрыв его под алым плащом, пятится к единственной уцелевшей стене. Налетевший ветер колышет складки плаща.
«Мой квит-медальон. – Он левой рукой трогает маленькое устройство для квантовой телепортации, висящее на груди под одеждой. – С чего я решил, будто у меня нет ничего ценного? Даже если я не могу воспользоваться им без того, чтобы олимпийцы меня засекли, вещь все равно уникальная. Бесценная». Он достает фонарик и направляет вперед, как прежде направил бы тазерный жезл. Кстати, вот что сейчас действительно не помешало бы…
Шаги уже близко. Что, если это бог? Бессмертные и раньше пробирались в город в обличье простых людей. И у них достаточно причин, чтобы убить его и забрать квит-медальон.
Таинственный гость одолевает последние ступени. Выходит под открытое небо. Хокенберри включает фонарик, и луч выхватывает из темноты фигуру…
Она маленькая – от силы метр – и лишь смутно гуманоидная. Колени загнуты назад, руки сочленяются неправильно, правая ладонь не отличается от левой, лица как такового вообще нет, и все заковано в темный пластик и серо-красно-черный металл.
– Манмут, – с облегчением говорит Хокенберри, отводя круг света от зрительной панели маленького европеанского моравека.
– У тебя под плащом меч, – произносит Манмут по-английски, – или ты просто рад меня видеть?
Поднимаясь на башню, Хокенберри обычно брал с собой немного топлива для костерка. В последние месяцы это чаще всего были сухие коровьи лепешки, но сегодня ему удалось разжиться охапкой ароматного хвороста, которым торговали на черном рынке лесорубы, привезшие дрова для погребального сруба. И вот сейчас Хокенберри с Манмутом сидят друг напротив друга на камнях у весело трещащего огня. Дует пронизывающий ветер, и по крайней мере Хокенберри рад возможности согреться.
– Я не видел тебя несколько дней, – говорит он, глядя, как отсветы пламени пляшут на блестящей зрительной панели Манмута.
– Я был на Фобосе.
Хокенберри не сразу вспоминает. Ах да, Фобос. Одна из лун Марса. Кажется, самая близкая. Или самая маленькая? В общем, луна. Он поворачивает голову к Дыре в нескольких милях к северо-востоку от города. На Марсе теперь тоже ночь, и Дыра еле выделяется на темном небе, и то лишь потому, что звезды там немного другие – то ли светят ярче, то ли гуще насыпаны, то ли все сразу. Марсианские луны – где-то вне поля зрения.
– Я ничего интересного сегодня не пропустил? – спрашивает Манмут.
Не удержавшись от усмешки, Хокенберри рассказывает о погребальном обряде и самосожжении Эноны.
– Ух ты, опупеть, – говорит Манмут.
Похоже, он сознательно предпочитает обороты речи, которые, по его мнению, были в ходу в ту эру, когда Хокенберри жил на Земле. Иногда этот выбор удачен. В основном же, как сейчас, комичен.
– Не помню, чтобы в «Илиаде» упоминалась прежняя жена Париса, – продолжает Манмут.
– Вроде бы в «Илиаде» этого нет. – Хокенберри силится вспомнить, говорил ли он о таком в своих лекциях. Кажется, не говорил.
– Впечатляющее, наверное, было зрелище.
– Да уж. Но особенно сильное впечатление произвели слова Эноны, что Париса на самом деле убил Филоктет.
– Филоктет? – Манмут почти по-собачьи наклоняет голову вбок.
Хокенберри почему-то привык думать, что так моравек делает, когда копается в банках памяти.
– Герой Софокла? – спрашивает Манмут через мгновение.
– Да. Он был предводителем фессалийцев, из Мефоны.
– Я не помню его в «Илиаде», – говорит Манмут. – И здесь вроде бы тоже не встречал.
Хокенберри кивает:
– Агамемнон с Одиссеем высадили его на острове Лемнос по дороге сюда, много лет назад.
– Почему? – В голосе Манмута, очень похожем по тембру на человеческий, сквозит любопытство.
– Главным образом потому, что от него дурно пахло.
– Дурно? Почти все человеческие герои плохо пахнут.
Хокенберри хлопает глазами. Лет десять назад, воскреснув на Олимпе для новой работы, он и сам так считал, но через полгодика притерпелся. «Интересно, и я тоже?» – думает он, а вслух говорит:
– От Филоктета воняло особенно сильно. У него была гнойная язва.
– Язва?
– Змея укусила. Ядовитая. Как раз когда… Впрочем, долго рассказывать. Обычная история про кражу чего-нибудь у богов. В общем, нога у него сочилась зловонным гноем, а сам он постоянно вопил и терял сознание. Это было десять лет назад, по пути в Трою. В конце концов Агамемнон, по совету Одиссея, высадил старика на Лемносе, то есть буквально бросил его гнить.
– Но он выжил? – спрашивает Манмут.
– Очевидно. Возможно, боги хранили его для некоей миссии, но все это время он мучился от нестерпимой боли в ноге.
Манмут опять наклоняет голову набок:
– Понятно… Теперь я помню пьесу Софокла. Одиссей отправился за ним, когда прорицатель Гелен сказал грекам, что те не покорят Трою без Филоктетова лука, полученного им от… э-э-э… Геракла. Геркулеса.
– Да, лук перешел к нему по наследству, – говорит Хокенберри.
– Не помню, чтобы Одиссей за ним отправлялся. Я имею в виду реальность, последние восемь месяцев.
Хокенберри снова кивает:
– Все провернули очень тихо. Одиссей отсутствовал всего три недели, и возращение было обставлено в таком духе, мол, я тут за вином плавал, по пути забрал Филоктета.
– В трагедии Софокла, – говорит Манмут, – главным героем был Неоптолем, сын Ахиллеса. Отца он при жизни так и не встретил. Неужели он тоже здесь?
– Насколько я знаю, нет. Только Филоктет. И его лук.
– И теперь Энона обвинила его в убийстве Париса.
– Угу.
Томас Хокенберри подбрасывает в огонь несколько веточек. Искры кружат на ветру и уносятся к звездам. В темноте над океаном медленно ползут тучи. Наверное, до рассвета пойдет дождь. Иногда Хокенберри ночевал здесь, подложив под голову дорожный мешок и укрывшись плащом вместо одеяла. Однако сегодня лучше будет уйти под крышу.
– Но как Филоктет мог попасть в Медленное Время? – Манмут встает и, не страшась обрыва в сотню с лишним футов, подходит в темноте к отколотому краю площадки. – Нанотехнологию, позволяющую совершить этот переход, ввели ведь только Парису перед единоборством?
– Тебе виднее, – отвечает Хокенберри. – Это ведь вы, моравеки, накачали Париса нанотехнологиями, чтобы он мог сразиться с богом.
Манмут возвращается к костру, но продолжает стоять, вытянув ладони к огню, словно желая их согреть. Может, и правда греет, думает Хокенберри; ему известно, что у моравеков некоторые части органические.
– У некоторых других героев – у Диомеда, например, – до сих пор остаются в крови нанокластеры Медленного Времени, введенные когда-то Афиной или другими богами, – говорит Манмут. – Но ты прав, лишь Парису обновили их десять дней назад, перед поединком с Аполлоном.
– А Филоктета здесь не было десять лет, – говорит Хокенберри. – Так что вряд ли кто-нибудь из богов мог накачать его наномемами Медленного Времени. И ведь это же ускорение, а не замедление, верно?
– Верно, – говорит моравек. – «Медленное Время» – неправильный термин. Тому, кто туда попадал, кажется, будто все вокруг застыло в янтаре, а на самом деле путешественник наделяется сверхбыстрой реакцией и движением.
– А почему же он не сгорает? – спрашивает Хокенберри.
Он мог бы последовать за Аполлоном и Парисом в Медленное Время и увидеть бой своими глазами. Собственно, он бы так и поступил, если бы не был тогда в другом месте. Боги накачали его кровь и кости наномемами как раз для такой цели, и он много раз переносился в Медленное Время и смотрел, как боги готовят кого-нибудь из ахейцев или троянцев к бою.
– Из-за трения… – добавляет он. – О воздух или обо что там еще… – Тут он беспомощно осекается, исчерпав познания в физике.
Однако Манмут кивает, как будто услышал что-то разумное.
– Ускоренное тело, конечно, загорелось бы – прежде всего из-за внутреннего перегрева, – если бы не нанокластеры. Это часть наногенерируемой силовой оболочки тела.
– Как у Ахиллеса?
– Да.
– А не мог ли Парис сгореть как раз из-за этого? – спрашивает Хокенберри. – Из-за какого-нибудь сбоя нанотехнологии?
– Вряд ли. – Моравек выбирает камень поменьше и снова садится. – С другой стороны, зачем Филоктету убивать Париса? Разве у него был мотив?
Хокенберри пожимает плечами:
– В негомеровских рассказах о Трое Париса убивает именно Филоктет. Из лука. Отравленной стрелой. В точности как говорила Энона. Гомер даже упоминает, что Филоктета должны вернуть, дабы исполнить пророчество, по которому без него Троя не падет. Во второй песни, если не ошибаюсь.
– Но ведь греки и троянцы теперь союзники?
Хокенберри невольно улыбается:
– Те еще союзники. Ты не хуже меня знаешь, сколько в обоих станах заговоров и недовольства. Никого, кроме Гектора и Ахиллеса, не радует эта война с богами. Очередной мятеж – не более чем вопрос времени.
– Да, но Гектор и Ахиллес – практически непобедимый дуэт. И у каждого за спиной десятки тысяч верных троянцев и ахейцев.
– Это сейчас, – говорит Хокенберри. – Но возможно, в дело вмешались боги.
– Помогли Филоктету войти в Медленное Время? – спрашивает Манмут. – Но зачем? Согласно бритве Оккама, если бы они хотели смерти Париса, то Аполлон и убил бы его, как все считали до нынешнего дня. Пока не вмешалась Энона со своими обвинениями. Для чего было подсылать убийцу-грека… – Он умолкает, затем бормочет: – А, ну да.
– Угадал, – говорит Хокенберри. – Боги желают ускорить мятеж, убрать с дороги Ахиллеса и Гектора и натравить троянцев и греков друг на друга.
– Вот зачем этот яд, – произносит моравек. – Чтобы Парис успел рассказать жене… первой жене, кто на самом деле его убил. Теперь троянцы станут искать возмездия, и тем грекам, которые верны Ахиллесу, придется защищать себя с оружием в руках. Умный ход. А было сегодня еще что-нибудь, сопоставимое по значению?
– Агамемнон вернулся.
– Без фуфла? – спрашивает Манмут.
«Надо будет потолковать с ним насчет молодежного сленга, – думает Хокенберри. – Ощущение, будто говорю с первокурсником в Индианском университете».
– Да, без фуфла, – говорит он. – Вернулся на месяц или два раньше срока, и у него более чем странные вести.
Манмут выжидающе подается вперед. По крайней мере, Хокенберри интерпретирует позу маленького гуманоидного киборга как выжидающую. Гладкое лицо из металла и пластика не отражает ничего, кроме языков костра.
Хокенберри откашливается.
– Там, где побывал Агамемнон, люди пропали. Исчезли. Сгинули.
Он рассчитывал услышать удивленное восклицание, но маленький моравек лишь молча ждет продолжения.
– Никого не осталось. Не только в Микенах, куда Агамемнон отправился первым делом. Исчезли не только его жена Клитемнестра, сын Орест и прочие родственники. Исчезли все. Города обезлюдели. На столах стоит нетронутая еда. В конюшнях ржут голодные лошади. Собаки воют у холодных очагов. Недоеные коровы мычат на пастбищах, а рядом бродят нестриженые овцы. Где бы ни высаживался Агамемнон на Пелопоннесе и дальше – в Лакедемоне, царстве Менелая, на родине Одиссея Итаке – везде пусто…
– Да, – говорит Манмут.
– Постой-ка, – говорит Хокенберри. – Ты ничуть не удивлен. Моравеки уже знают, что греческие города и царства греков опустели. Но как?
– Ты спрашиваешь, как мы узнали? Очень просто. С самого нашего появления мы следили за ними с земной орбиты, отправляли беспилотники для записи данных. Можно столько всего узнать о Земле за три тысячи лет до твоего времени… то есть за три тысячи лет до двадцатого и двадцать первого века.
Хокенберри ошеломлен. Ему и в голову не приходило, что моравеки интересуются чем-нибудь, кроме Трои, близлежащих полей сражений, Дыры, Марса, Олимпа, богов, может быть, марсианского спутника-другого… Черт, разве этого не достаточно?
– И когда они все… исчезли? – наконец выдавливает он. – Агамемнон говорит, еда на столах была еще свежей, бери да ешь.
– Думаю, дело в определении понятия «свежесть», – говорит Манмут. – По нашим наблюдениям, люди пропали четыре с половиной недели назад. Как раз когда флот Агамемнона приближался к Пелопоннесу.
– Господи Исусе, – шепчет Хокенберри.
– Да.
– Вы видели, как все произошло? Ваши спутниковые камеры или зонды… они что-нибудь засекли?
– Не совсем. Только что люди были на месте – и в следующую секунду их не стало. Это случилось около двух часов ночи по греческому времени, так что наблюдать было особенно нечего… в греческих городах, я имею в виду.
– В греческих городах, – тупо повторяет Хокенберри. – То есть… ты хочешь сказать… другие люди… тоже исчезли? Скажем… в Китае?
– Да.
Внезапно налетевший ветер бросает искры во все стороны сразу. Хокенберри прикрывает лицо руками, потом аккуратно стряхивает угольки с плаща и туники и, когда ветер стихает, подбрасывает в огонь остатки хвороста.
Не считая Илиона и склонов Олимпа – который, как выяснилось восемь месяцев назад, вообще на другой планете, – Хокенберри бывал только в доисторической Индиане, где бросил на попечение индейцев единственного уцелевшего коллегу Кита Найтенгельзера, когда Муза начала убивать схолиастов направо и налево. Сейчас он безотчетно трогает квит-медальон под одеждой. «Надо проверить, как там Найтенгельзер».
Словно прочитав его мысли, Манмут говорит:
– Исчезли все за пределами пятисоткилометрового радиуса от Трои. Африканцы, китайцы, австралийские аборигены. Индейцы Северной и Южной Америки. Гунны, даны и будущие викинги. Протомонголы. Все. Все остальные на планете – по нашим оценкам, примерно двадцать два миллиона человек – исчезли.
– Невозможно, – говорит Хокенберри.
– Да. Кажется невозможным.
– Какая же нужна сила, чтобы…
– Божественная, – отвечает моравек.
– Но это не могут быть олимпийские боги. Они просто… ну…
– Более мощные гуманоиды? – говорит Манмут. – Мы тоже так думаем. Здесь действуют иные энергии.
– Бог? – шепчет Хокенберри, воспитанный в строгой вере родителей-баптистов, которую позже променял на образование.
– Возможно, – отвечает моравек. – Но коли так, Он живет на другой планете Земля или ее орбите. Там произошел мощнейший выброс квантовой энергии в то самое время, когда исчезли жена и дети Агамемнона.
– На Земле? – повторяет Хокенберри. Он смотрит в темноту, на погребальный костер внизу, на улицы, где кипит ночная жизнь, затем на далекие походные костры ахейцев и еще более далекие звезды. – Здесь?
– Не на этой Земле, – говорит Манмут. – На другой Земле. Твоей. И похоже, мы туда скоро отправимся.
Целую минуту сердце у Хокенберри колотится так, что ему страшно за свое здоровье. Потом до него доходит: Манмут говорит не о его планете двадцать первого века из обрывочных воспоминаний прежней жизни, до того как боги воссоздали его по ДНК, книгам и бог весть чему еще, не о том потихоньку всплывающем в сознании мире, где был Индианский университет, жена и студенты, а о Земле – современнице терраформированного Марса более чем через три тысячи лет после того, как закончил свой короткий и не слишком удачливый век преподаватель классической литературы Томас Хокенберри.