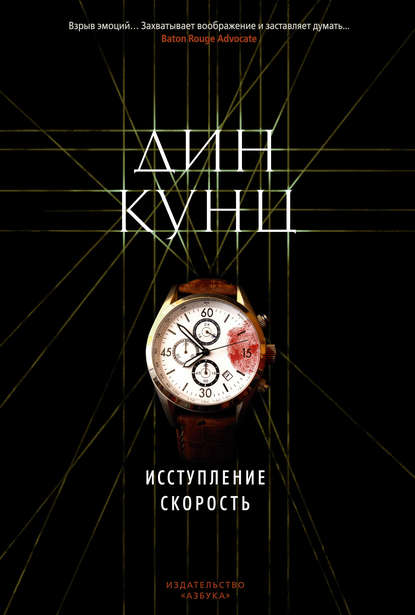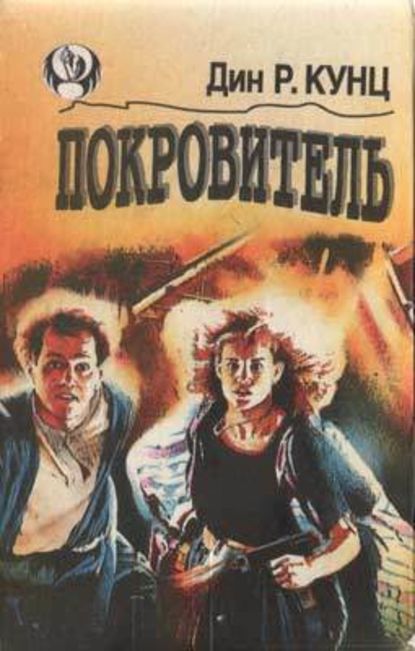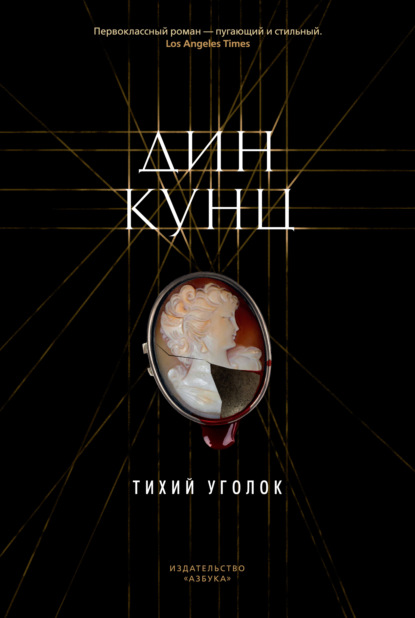Полная версия
Молния
– Я уважаемый бизнесмен с безупречной репутацией.
Взгляд мужчины был полон беспричинной грусти и странного беспокойства.
– Боб, вы хороший человек, но иногда бываете слишком наивным.
– Что вы имеете в…
Незнакомец поднял руку, заставив собеседника замолчать:
– В критические моменты репутация, к сожалению, ничего не значит. Большинство представителей человеческого рода добросердечны и привыкли решать сомнения в пользу человека, но отвратительное меньшинство радуется падению и разорению других. – Его голос опустился до шепота, и, хотя он продолжал смотреть на Боба, перед его мысленным взором, казалось, возникали другие места, другие люди. – Зависть, Боб. Зависть снедает их живьем. Если у вас есть деньги, они завидуют вашему богатству. Но так как вы бедны, они завидуют тому, что у вас такая хорошая, умная, любящая дочь. Они завидуют вашему счастью. Завидуют вам, потому что вы не завидуете им. Одна из величайших трагедий человеческого существования – то, что люди не умеют радоваться жизни, а радуются лишь несчастьям других.
Мужчина говорил так искренне, так безыскусно, что Бобу нечем было крыть. Он знал, что тот абсолютно прав. И невольно вздрогнул.
После секундного молчания лицо незнакомца разгладилось, взгляд стал настойчивым.
– А когда копы решат, что вы лжете насчет спасшего вас Одинокого рейнджера, у них возникнут вопросы. Собирался ли тот наркоман вас вообще грабить? Что, если вы были знакомы и просто чего-то там не поделили? А вдруг вы запланировали это убийство и попытались придать ему вид самозащиты во время грабежа? Таков образ мыслей копов, Боб. Если они не смогут повесить на вас убийство, то постараются хотя бы отравить вам жизнь. Вы хотите, чтобы Лора через все это прошла?
– Нет.
– Тогда делайте, как вам говорят.
– Сделаю, – кивнул Боб. – Все как вы сказали. Но кто, черт возьми, вы такой?!
– Не имеет значения. У нас в любом случае на это нет времени. – Незнакомец зашел за прилавок и наклонился над Лорой, оказавшись лицом к лицу с девочкой. – Ты хорошо поняла, что нужно говорить? Если полиция спросит, что случилось…
– Вы были с тем мужчиной. – Лора махнула рукой в сторону лежавшего на полу трупа.
– Правильно.
– Вы с ним были приятели, – сказала девочка, – но потом поругались из-за меня, правда, не знаю почему, потому что я ничего такого не сделала.
– Дорогая, «почему» не имеет значения, – ответил он.
Лора кивнула:
– А потом вы застрелили его, убежали с нашими деньгами и уехали на машине, а я очень испугалась.
Незнакомец поднял глаза на Боба:
– Восемь лет, да?
– Она очень смышленая девочка.
– И все же будет лучше, если копы не станут на нее сильно давить.
– Я им не позволю.
– А если станут, то я начну плакать и буду плакать, пока они от меня не отвяжутся.
Мужчина улыбнулся и так ласково посмотрел на Лору, что Бобу стало не по себе. Однако незнакомец отнюдь не походил на того извращенца, который хотел затащить Лору в подсобку. Взгляд светловолосого гостя был нежным и любящим. Он коснулся щеки девочки. Неожиданно глаза его влажно заблестели. Сморгнув слезы, он выпрямился:
– Боб, спрячьте подальше деньги. Запомните, я забрал всю кассу.
Только сейчас Боб сообразил, что по-прежнему сжимает мятую пачку в руках, и сунул деньги в карман штанов, прикрытых свободным передником.
Незнакомец отпер дверь и поднял роллету:
– Берегите ее, Боб. Она особенная.
И с этими словами он выбежал под дождь, оставив дверь открытой, и сел в «бьюик». Скрипнули покрышки – и автомобиль выехал с парковки.
Радио продолжало работать, но до Боба только сейчас это дошло. Последнее, что он помнил, было то, как Скитер Дэвис пела «The End of the World», когда пристрелили наркомана. Теперь Шелли Фабарес исполняла «Johnny Angel».
Неожиданно Боб услышал звук дождя, причем не отдаленный глухой шум и бульканье, а неистовую барабанную дробь по окнам и крыше над квартирой на втором этаже. Несмотря на врывающийся в открытую дверь порывистый ветер, запах крови, смешанный с вонью мочи, усилился, и Боб, словно внезапно выйдя из транса и очнувшись от сковавшего его ужаса, вдруг понял, насколько близко была от смерти его ненаглядная Лора. Он подхватил дочь, оторвал от пола и прижал к себе, повторяя ее имя и гладя по волосам. Затем уткнулся лицом ей в шею и вдохнул свежий аромат ее кожи, почувствовал биение жилки на нежной шейке, возблагодарив Господа за то, что она осталась жива.
– Я люблю тебя, Лора.
– Папочка, я тоже тебя люблю. Я люблю тебя из-за сэра Томаса Жабы и из-за миллиона других вещей. Но теперь нам нужно позвонить в полицию.
– Да, конечно. – Боб неохотно отпустил дочь.
Его глаза были полны слез. Он так разнервничался, что забыл, где находится телефон.
Но Лора уже сняла телефонную трубку и теперь протягивал ее отцу:
– Папочка, а хочешь, я сама им позвоню? Номер написан на телефоне. Так мне позвонить?
– Нет, детка, я сделаю это сам. – Сморгнув слезы, он взял у дочери трубку и сел на деревянный табурет за кассой.
Лора положила руку отцу на плечо, словно понимая, что он нуждается в ее поддержке.
Дженет была эмоционально сильной женщиной. Но сила и выдержка Лоры казались невероятными для ее возраста. Бобу Шейну оставалось только удивляться, откуда что берется. Быть может, девочка стала такой самостоятельной, потому что росла без матери.
– Папочка, – Лора нетерпеливо постучала пальцем по телефонному аппарату, – ты не забыл про полицию?
– О да, конечно. – Пытаясь сдержать тошноту от стоявшего в магазине запаха смерти, Боб набрал номер экстренного вызова полиции.
Кокошка сидел в автомобиле через дорогу от бакалейного магазина Боба Шейна, задумчиво теребя пальцем шрам на щеке.
Дождь прекратился. Полиция уехала. С наступлением темноты зажглись неоновые вывески магазинов и уличные фонари, однако, несмотря на иллюминацию, битумное дорожное покрытие лишь тускло поблескивало, словно мостовые не отражали, а поглощали свет.
Кокошка прибыл сюда одновременно со Штефаном, белокурым, голубоглазым предателем. Человек со шрамом слышал выстрелы, видел, как Штефан уехал в автомобиле убитого, а после приезда полиции затесался в толпу зевак, где и узнал основные детали произошедшего в магазине.
Конечно, Кокошка сразу понял, что нелепая история Боба Шейна, будто Штефан – второй грабитель, шита белыми нитками. Штефан был не налетчиком, а их самозваным телохранителем, и он наверняка солгал, скрыв свою подлинную личность.
Лору снова спасли.
Но почему?
Кокошка попытался понять, какую роль может играть девчонка в планах предателя, но зашел в тупик. Очевидно, допрос девчонки ничего не даст, поскольку она была слишком мала, чтобы обладать полезной информацией. И скорее всего, причины чудесного спасения оставались для нее такой же загадкой, как и для самого Кокошки.
Отец девчонки наверняка тоже был не в курсе. Штефана интересовала именно девчонка, а не ее отец, так что Боб Шейн вряд ли был посвящен в планы предателя и не знал, откуда тот появился.
Проехав несколько кварталов до ресторана, Кокошка пообедал, а после полуночи вернулся к бакалейному магазину и припарковался на боковой улочке в тени раскидистой финиковой пальмы. В магазине было темно, однако в окнах квартиры на втором этаже горел свет.
Из глубокого кармана дождевика Кокошка вытащил револьвер: «курносый» полицейский «кольт» 38-го калибра, компактный, но мощный. Он любил отлично разработанное, хорошо сделанное оружие, любил ощущать приятную тяжесть мощного револьвера в своей руке. То была сама смерть, воплощенная в стали.
Кокошка мог перерезать телефонные провода в квартире Шейнов, тихонько проникнуть в дом, убить девчонку и ее отца, а затем незаметно ускользнуть, прежде чем полиция отреагирует на выстрелы. У него был не только особый дар, но и тяга к подобным делам.
Однако если он убьет их, не узнав, почему это делает, и не поняв, какую роль они играют в планах Штефана, то, вероятно, впоследствии обнаружит, что их ликвидация стала ошибкой. Прежде чем действовать, следовало узнать истинную цель Штефана.
И Кокошка неохотно убрал револьвер в карман.
3В безветренную ночь дождь отвесной стеной падал на город, и каждая капля казалась невероятно тяжелой. Дождь громко стучал по крыше, по ветровому стеклу маленького черного автомобиля.
В час ночи вторника в конце марта мокрые от дождя улицы, затопленные кое-где на перекрестках, были пустынными, за исключением военного транспорта. Штефан выбрал окольный путь до института, чтобы избежать известных контрольно-пропускных пунктов, опасаясь при этом наткнуться на временный дорожный пост. Бумаги Штефана были в порядке, форма допуска освобождала его от соблюдения комендантского часа, однако он предпочитал не попадать в поле зрения дотошной военной полиции. Он не мог допустить, чтобы его автомобиль обыскали, поскольку в чемодане на заднем сиденье лежали медная проволока, детонаторы и пластиковая взрывчатка. Все это было приобретено нелегально.
Ветровое стекло запотевало от дыхания, дождь превращал зловещий черный город в расплывчатое пятно, дворники машины были изношены, а колпаки фонарей ограничивали поле зрения, в результате чего Штефан едва не пропустил узкую, вымощенную булыжником улочку, пролегавшую за зданием института. Ударив по тормозам, Штефан резко повернул руль. Седан под визг шин завернул за угол и заскользил по мокрому булыжнику.
Штефан припарковался в темноте у заднего входа, вышел из автомобиля, взял с заднего сиденья чемодан. Институт располагался в невзрачном четырехэтажном кирпичном здании с зарешеченными окнами. От здания исходила аура опасности, хотя с виду оно явно не походило на место, которое таило секреты, способные радикально изменить мир. Металлическая дверь на скрытых петлях была выкрашена черной краской. Штефан нажал на кнопку звонка и, услышав, как за дверью раздался протяжный звон, принялся напряженно ждать.
Он надел резиновые сапоги, поднял воротник плаща, но не позаботился о шляпе и зонте. Мокрые от дождя волосы облепили череп, холодные струйки текли по затылку.
Зябко поежившись, Штефан посмотрел на прорезь окна в стене возле двери. Оконное стекло шириной шесть дюймов и высотой один фут было зеркальным снаружи и прозрачным с внутренней стороны.
Он терпеливо слушал, как дождь барабанит по крыше автомобиля, молотит по лужам, булькает в водосточной трубе. И со злобным шипением хлещет по листьям платанов на обочине.
Над дверью зажегся свет. Конусообразный плафон задерживал золотистое сияние, так что луч света был направлен прямо на Штефана.
Штефан улыбнулся в зеркальное смотровое окно. Улыбка предназначалась охраннику, которого он не видел.
Свет погас, лязгнул, открывшись, ригельный замок, дверь распахнулась вовнутрь. Штефан знал охранника: Виктор какой-то там, крепкий мужчина лет пятидесяти с коротко стриженными седыми волосами, в очках в стальной оправе. Охранник, суровый снаружи, но мягкий в душе, по натуре был настоящей наседкой, пекущейся о здоровье друзей и знакомых.
– Герр Штефан, что вы здесь делаете в такой час и в такой ливень?
– Мне не спалось.
– Жуткая погода! Входите, входите! Так и простудиться недолго!
Штефан вошел в тамбур и, пока Виктор запирал дверь, порылся в памяти в поисках обрывков информации о личной жизни охранника.
– Судя по вашему виду, ваша жена по-прежнему готовит вам эти потрясающие блюда с лапшой, о которых вы мне рассказывали.
Отвернувшись от двери, Виктор тихо рассмеялся и похлопал себя по животу:
– Клянусь, ее нанял сам дьявол, чтобы ввести меня в грех чревоугодия! А это у вас что такое? Чемодан? Вы решили здесь поселиться?
Вытерев мокрое от дождя лицо, Штефан сказал:
– Да так, данные исследований. Брал их домой несколько недель назад. Работал по вечерам.
– У вас что, совсем нет личной жизни?
– Я выделяю себе ровно двадцать минут каждый второй четверг.
Виктор неодобрительно поцокал языком, затем подошел к письменному столу, занимавшему треть пространства небольшой комнаты, поднял телефонную трубку и позвонил второму ночному охраннику, дежурившему в вестибюле перед главным входом в институт. Когда кого-то впускали внутрь в неурочное время, дежурный охранник всегда предупреждал коллег в другом конце здания во избежание ложной тревоги и, возможно, случайной стрельбы в сотрудников, явившихся без злого умысла.
Оставив мокрый след на вытертой ковровой дорожке, Штефан выудил из кармана плаща связку ключей и подошел к внутренней двери. Как и наружная, она была стальной, на скрытых петлях, и открыть ее можно было лишь двумя ключами, повернутыми одновременно: один ключ имелся у сотрудника с соответствующим уровнем доступа, второй – у дежурного охранника. Исследования, проводившиеся в институте, были настолько выдающимися и секретными, что даже ночной охранник не имел доступа в лаборатории и архив.
Виктор положил телефонную трубку:
– Насколько вы здесь задержитесь?
– На пару часов. Кто-нибудь еще работает сегодня вечером?
– Нет. Вы единственный мученик. И должен вам сказать, никто толком не ценит мучеников. Спорим, вы загоните себя в гроб, и ради чего? Кто это оценит?
– Элиот писал: «Святой и мученик правят из могилы».
– Элиот? А это еще кто такой? Какой-то поэт или вроде того?
– Томас Элиот. Да, поэт.
– Значит, «святой и мученик правят из могилы»? Ничего не слышал о таком. Непохоже, что это одобренный властями поэт. Наверняка инакомыслящий. – Виктор от души рассмеялся.
Его развеселила абсурдная идея, что этот трудоголик может быть предателем.
Вдвоем они открыли внутреннюю дверь.
Перетащив чемодан с взрывчаткой в коридор подвального этажа института, Штефан включил свет.
– Если у вас войдет в привычку работать по ночам, – заявил Виктор, – я принесу вам один из пирогов, которые печет моя жена, чтобы вы хоть чуть-чуть подкрепились.
– Спасибо, Виктор. Но, надеюсь, это все же не войдет у меня в привычку.
Охранник закрыл за собой металлическую дверь. Замок звякнул и автоматически защелкнулся.
Оставшись в одиночестве в коридоре, Штефан в очередной раз подумал, насколько ему повезло с внешностью: блондин, с мужественными чертами лица, голубоглазый, чем отчасти объяснялась та смелость, с которой он пронес взрывчатку в институт, не опасаясь досмотра. В Штефане не было ничего темного, скрытого или подозрительного. Он казался настолько идеальным, а его улыбка – такой ангельской, что в патриотизме Штефана не способны были усомниться люди вроде Виктора, люди, чья слепая преданность государству и чей пивной, сентиментальный патриотизм мешали им задумываться над порядком многих вещей. Очень многих вещей.
Поднявшись на лифте на третий этаж, Штефан направился прямо в свой кабинет, где, включив латунную настольную лампу, сняв плащ и переобувшись, достал из шкафа бумажную папку и разложил ее содержимое на письменном столе для создания видимости кипучей деятельности. Нужно было сделать все возможное, чтобы устранить любые подозрения на тот случай, хотя и маловероятный, если кто-нибудь из сотрудников решит появиться в институте посреди ночи.
Взяв чемодан и фонарь, спрятанный во внутреннем кармане плаща, Штефан поднялся по лестнице на четвертый этаж, а оттуда – на чердак. Луч фонаря высвечивал тяжелые балки с торчащими кое-где гвоздями. Чердак, с его черным деревянным полом, не использовался для хранения и был абсолютно пуст, если не считать слоя серой пыли и паутины. Высота конька остроконечной шиферной крыши позволяла Штефану выпрямиться в полный рост, хотя ближе к карнизу пришлось опуститься на колени.
Здесь, прямо под самой крышей, неустанный шум дождя был подобен гулу непрерывно пролетающих над головой бомбардировщиков. Этот образ напрашивался сам собой, поскольку город уже был обречен.
Штефан открыл чемодан. Работая с быстротой и сноровкой опытного подрывника, он установил брикеты пластида так, чтобы сила взрыва шла вниз и внутрь. Взрыв должен был не только сорвать крышу, но и разнести средние этажи, с тем чтобы шиферные плиты и тяжелые балки рухнули вниз, вызвав еще большие разрушения. Он спрятал взрывные устройства между стропилами, в углах длинного чердака, а также под парой отодранных половых досок.
Непогода снаружи немного улеглась. Правда, вскоре тишину ночи разорвали зловещие удары грома, а дождь полил с новой силой. И в довершение всего поднялся ветер, завывавший в водосточных трубах и стонавший под скатами крыши: его странный замогильный голос, казалось, одновременно и запугивал, и оплакивал город.
Чердак не отапливался, и окоченевший Штефан делал эту тонкую работу трясущимися руками, но, несмотря на пробирающий до костей холод, даже вспотел от напряжения.
Вставив детонатор в каждое взрывное устройство, он протянул проволоку от всех взрывных устройств в северо-западный угол чердака. После чего сплел проволоку в один медный провод, который спустил в вентиляционную шахту, идущую вниз до цокольного этажа.
Взрывные устройства и проволока были спрятаны так, чтобы их не заметил человек, случайно открывший дверь на чердак. При более внимательном осмотре помещения или если на чердаке вдруг решат устроить склад, проволоку и пластид наверняка обнаружат.
Однако Штефану нужно было всего двадцать четыре часа. Не слишком строгое ограничение, учитывая, что последние месяцы никто, кроме него, не поднимался на чердак.
Завтра ночью он вернется со вторым чемоданом и разместит взрывчатку в цокольном этаже. Разрушить институт одновременно двумя взрывами вверху и внизу было единственным способом стереть здание с лица земли, чтобы превратить в прах абсолютно все документы, позволявшие возобновить опасные исследования, которые здесь проводились.
Конечно, взрывчатка в таком количестве, пусть и грамотно размещенная, могла повредить соседние здания, и Штефан резонно опасался, что во время взрыва погибнут невинные люди. Но, к сожалению, случайных жертв было не избежать. Ведь если документы и хранящиеся здесь дубликаты будут уничтожены не полностью, то проект наверняка оперативно запустят заново, чего категорически нельзя было допустить, поскольку на кону стояла судьба человечества. И если погибнут невинные люди – что ж, тогда ему, Штефану, придется жить с вечным чувством вины.
Он управился за два часа, закончив работу на чердаке в начале четвертого ночи.
Затем вернулся в свой кабинет на третьем этаже и сел за письменный стол. Нужно было высушить мокрые от пота волосы и унять дрожь в руках, чтобы не вызвать подозрений у Виктора.
Штефан закрыл глаза. Представил себе лицо Лоры. Мысли о Лоре всегда его успокаивали. Сам факт ее существования приносил душевный покой и прибавлял смелости.
4Друзья Боба Шейна не хотели, чтобы Лора присутствовала на похоронах ее отца. Они считали, что двенадцатилетней девочке не выдержать столь тяжкого испытания. Однако Лора настояла на том, чтобы пойти, а если она чего-то сильно хотела – в данном случае сказать последнее «прости» своему отцу, – то отговаривать ее было бесполезно.
Тот день, четверг, 24 июля 1967 года, стал худшим днем в жизни девочки, даже хуже, чем вторник на той же неделе, когда умер отец. Первый анестезирующий шок прошел, и Лора вышла из оцепенения: эмоции рвались наружу и она не могла их контролировать. Лора начинала осознавать всю невосполнимость своей утраты.
Она выбрала темно-синее платье, поскольку черного у нее не было. Надела черные туфли и темно-синие носки, хотя и сомневалась в их уместности, так как носки придавали ей легкомысленный, детский вид. Но она пока еще не носила нейлоновых чулок, и надевать их впервые в жизни на похороны казалось столь же неуместным. Ведь папочка будет смотреть на нее с небес во время заупокойной службы, и ей хотелось быть такой, какой он привык ее видеть. Если папа увидит дочь в нейлоновых чулках – маленькую дурочку, пытающуюся сойти за взрослую, – ему придется за нее краснеть.
В траурном зале похоронного бюро Лора сидела на передней скамье между Корой Лэнс, хозяйкой салона красоты, расположенного неподалеку от бакалейного магазина Шейна, и Анитой Пассадополис, вместе с которой Боб занимался благотворительностью в пресвитерианской церкви Святого Андрея. Обеим дамам было ближе к шестидесяти, и они, словно две бабушки, взволнованно кудахтали над Лорой, ободряюще ее поглаживая.
Но беспокоиться за Лору им явно не стоило. Она не будет рыдать, не впадет в истерику, не станет рвать на себе волосы. Она понимала, что такое смерть. Каждому на этой земле суждено умереть. Умирали люди, умирали собаки, умирали кошки, умирали птицы, умирали цветы. Даже древние секвойи рано или поздно умирали, хотя и жили в двадцать или тридцать раз дольше, чем человек, что, конечно, было несправедливо. Хотя, с другой стороны, просуществовать тысячу лет в виде дерева – перспектива куда более безрадостная, чем прожить сорок два года счастливым человеком. Ее папе было всего сорок два, когда у него не выдержало сердце – бац, и внезапный сердечный приступ! – слишком мало. Но так уж устроен мир, и плакать из-за этого бессмысленно. Лора гордилась своей рассудительностью.
И, кроме того, для человека смерть не была концом, а на самом деле – только началом. Ведь за ней следовала другая – лучшая – жизнь. Лора знала, что это, скорее всего, правда, поскольку так говорил ей папа, а папа никогда не лгал. Ее папа был самым правдивым человеком, добрым и очень хорошим.
Когда священник взошел на кафедру слева от гроба, Кора Лэнс наклонилась поближе к Лоре:
– Милая, ты в порядке?
– Да, все хорошо, – ответила Лора, не глядя на Кору.
Девочка не решалась смотреть в глаза пришедшим на похороны и поэтому с интересом рассматривала неодушевленные предметы.
Она впервые в жизни попала в похоронное бюро, и ей здесь совсем не понравилось. Бордовый ковер казался до нелепого ворсистым. Шторы и обивка стульев были тоже бордовыми, с узкой золотой отделкой, абажуры на лампах, конечно, бордовые. Возникало ощущение, будто декорировавший траурный зал дизайнер по интерьерам помешан на бордовом цвете, ставшем для него фетишем.
«Фетиш» было новым словом в словаре Лоры. Она использовала его слишком часто, как и все новые слова, но на сей раз вполне уместно.
В прошлом месяце Лора, впервые услышав чудное слово «секвестрированный», означавшее «ограниченный» или «урезанный», стала использовать его по поводу и без повода, на что папа начал поддразнивать ее использованием этого слова в самых нелепых сочетаниях: «Эй, как сегодня дела у моей секвестрированной Лоры?» или «Картофельные чипсы – наиболее ходовой товар, поэтому мы переместим их в первый проход, поближе к кассе, потому что угол, где они лежат, предстоит секвестрировать». Папа обожал смешить Лору, например рассказывая сказки о сэре Томасе Жабе, земноводном родом из Великобритании, которого Боб придумал, когда дочери было восемь лет, и чью смешную биографию каждый день украшал новыми подробностями. В каком-то смысле отец был большим ребенком, и Лора любила его за это.
У Лоры задрожала нижняя губа. Девочка ее прикусила. Сильно. Если она заплачет, значит она сомневается в папином обещании, что на том свете человека ожидает другая, лучшая жизнь. Своим плачем она подтвердит, что он умер, умер раз и навсегда. Все, finito.
Лоре безумно хотелось, чтобы ее прямо сейчас секвестрировали в своей комнате над бакалейным магазином, в своей кровати, с натянутым на голову покрывалом. Эта идея показалась столь заманчивой, что Лора представила себе, как создаст фетиш для своего секвестрирования.
После похоронного бюро все отправились на кладбище.
На кладбище не было надгробий. Лишь бронзовые дощечки на мраморных основаниях могил. Холмы с зелеными лужайками в тени индийских лавров и более низких магнолий можно было вполне принять за парк – место, чтобы играть, бегать и смеяться, – если бы не свежевырытая могила, в которую опустили гроб с Бобом Шейном.
Прошлой ночью Лора дважды просыпалась от отдаленных раскатов грома, и сквозь сон ей показалось, будто она видела, как в окне сверкнула молния, но если ночью несвоевременная гроза и прошла где-то в стороне, то сейчас от нее не осталось даже следа. День был ясным, безоблачным.
Лора стояла между Корой и Анитой, которые гладили девочку и шептали бесполезные слова утешения. С каждым словом заупокойной молитвы давящее чувство в душе лишь усиливалось. Девочке вдруг показалось, что она стоит не в тени раскидистого дерева в теплое безветренное июльское утро, а голая на морозе и кругом царит арктический холод.
Распорядитель похорон включил электрический лифт. Тело Боба Шейна предали земле. Когда начали опускать гроб, Лора, неожиданно почувствовав приступ удушья, выскользнула из ласковых рук двух новоиспеченных бабушек и сделала два шага по кладбищу. Она была холодной, как мрамор, и ей не терпелось выйти на солнцепек. Лора остановилась, оказавшись на солнце, которое приятно пригревало кожу, но не могло растопить лед внутри.