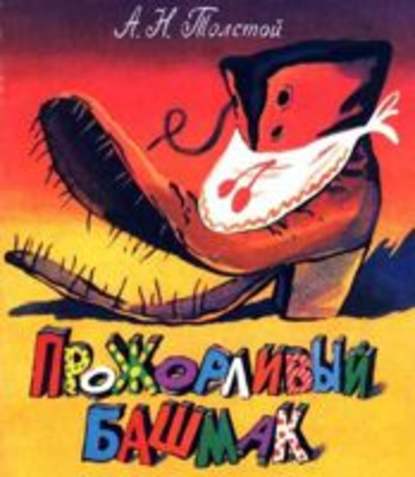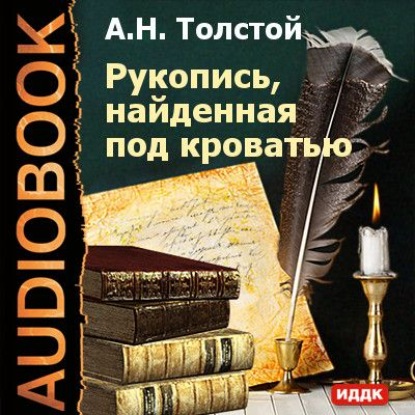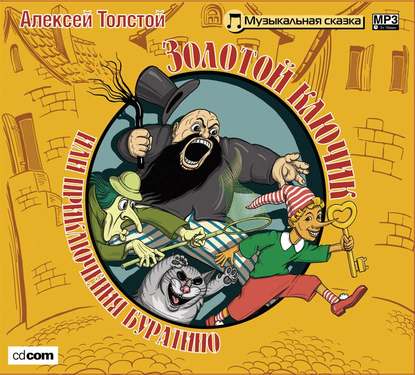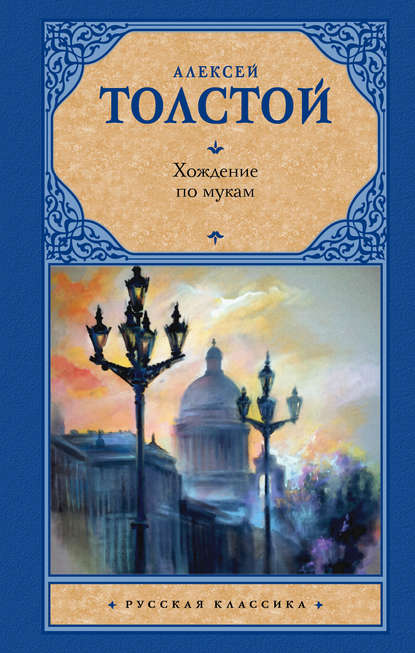
Полная версия
Хождение по мукам
– Вы – негодяй, – сказала она, – я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек.
Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на Говядина, пошла к реке.
«Вот дура, вот дура, не спросила даже адреса, – куда писать, – думала она, спускаясь с обрыва, – не то в Кинешму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с Говядиным. Ах, боже мой». Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. «Напишу Кате: «Представь себе, кажется, я полюбила, так мне кажется». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила вполголоса: «Милый, милый, милый Иван Ильич».
В это время неподалеку раздался голос: «Не полезу и не полезу, пусти, юбку оборвешь». По колена в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно, молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: «Пусти, юбку оборвешь».
Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, – стиснуло горло от омерзения и стыда. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежал запыхавшийся Говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу.
После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путем началась обида на Телегина, точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем провинциального города с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней, улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя на пыльные окошки: «Рыбы воблой, рыбы», – но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший и наполовину взбесившийся пес; когда со двора издалека дунайской, сосущей скукой заиграет шарманка.
Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее утробный мещанский покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места, хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: «Жить хочу, жить!»
Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив: не ей же, Даше, в самом деле, говорить: «Понимаете, что люблю». Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может быть, даже и думать забыл.
И в прибавление ко всему этому унынию в одну из знойных, как в печке, черных ночей Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка с запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше впрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала:
«Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. И потом – я не помню, писала ли я тебе, – меня вот уже сколько времени преследует один человек. Выхожу из дому, – он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте в большом магазине, – он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую, – точно мне провели рукой по спине, – оборачиваюсь – неподалеку сидит он. Худой, черный, с сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит…»
Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал между прочим:
– Кошка, поезжай в Крым.
– Зачем?
– Разыщи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж, к жене. А впрочем, как хочет… Это их частное дело…
Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша вдруг обрадовалась: Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развевающийся на голове шарф, и чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей.
Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович.
12
В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы с катарами и бронхитами, и шумные, растрепанные москвичи с ленивой и поющей речью, и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных «о» и «а», и презирающие эту российскую суету богатые сибиряки; жарились и обгорали дочерна молодые женщины, и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей.
В середине лета от соленой воды, жара и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда, городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображения на этрусских вазах.
В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным. А какова будет расплата потом, на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон и все кому-то чем-то обязаны, – стоит ли думать о расплате. Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног, и вытянутому телу на песке, закинутым рукам и закрытым векам – легко, горячо, сладко. Все, все, даже самое опасное, – легко и сладко.
Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие.
По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы.
Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города, с дороги, пыльной белой лентой бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов соломы, она увидела против солнца большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте, по степи, среди полыни, сверху донизу покрытый черными, поставленными боком, парусами. Это было до того удивительно, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле армянин сказал, засмеявшись: «Сейчас море увидишь».
Автомобиль повернул мимо квадратных запруд солеварен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало будто выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: «Вот оно. Начинается».
В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купанье и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатертей и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда что-то весело кричали. Толпой появились и заняли большой стол москвичи, все – мировые знаменитости. Любовник-резонер поморщился при виде их и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать.
– У меня глубоко продумана вся тема, но написан только первый акт, – говорил он, вдумчиво и благородно глядя в лицо Николаю Ивановичу. – У тебя светлая голова, Коля, ты поймешь мою идею: красивая молодая женщина тоскует, томится, кругом нее пошлость. Хорошие люди, но жизнь засосала, – гнилые чувства и пьянство. Словом, ты понимаешь… И вдруг она говорит: «Я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то к светлому…» А тут – муж и друг… Оба страдают… Коля, ты пойми, – жизнь засосала… Она уходит, я не говорю, к кому, – любовника нет, все на настроении… И вот двое мужчин сидят в кабаке молча и пьют… Глотают слезы с коньяком… А ветер в каминной трубе завывает, хоронит их… Грустно… Пусто… Темно…
– Ты хочешь знать мое мнение? – спросил Николай Иванович.
– Да. Ты только скажи: «Миша, брось писать, брось», – и я брошу.
– Пьеса твоя замечательная. Это – сама жизнь. – Николай Иванович, закрыв глаза, помотал головой. – Да, Миша, мы не умели ценить своего счастья, и оно ушло, и вот мы – без надежды, без воли – сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем… Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует…
У любовника-резонера задрожали мешочки под глазами, он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу.
– Коля, – говорил любовник-резонер, тяжело глядя на собеседника, – а знаешь ли ты, что я любил твою жену, как бога?
– Да. Мне это казалось.
– Я мучился, Коля, но ты был мне другом… Сколько раз я бежал из твоего дома, клянясь не переступать больше порога… Но я приходил опять и разыгрывал шута… И ты, Николай, не смеешь ее винить. – Он вытянул губы свирепо.
– Миша, она жестоко поступила со мною.
– Может быть… Но мы все перед ней виноваты… Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять, – как ты, живя с такой женщиной, – прости меня, – путался в то же время с какой-то вдовой – Софьей Ивановной. Зачем?
– Это сложный вопрос.
– Лжешь. Я ее видел, обыкновенная курица.
– Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно… Софья Ивановна была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно… На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил.
– Коля, но неужели – вот мы вернемся в Петербург, вот настанет вторник, и я приеду к вам после спектакля… И твой дом пуст… Как мне жить? Слушай… Где жена сейчас?
– В Париже.
– Переписываешься?
– Нет.
– Поезжай в Париж. Поедем вместе.
– Бесполезно…
– Коля, выпьем за ее здоровье.
– Выпьем.
В павильоне, между столиками, появилась актриса Чародеева, в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, – так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хор муз», взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локтя.
– Изумительная женщина, – проговорил Николай Иванович сквозь зубы.
– Нет, Коля, нет, Чародеева – просто падаль. В чем дело?.. Жила три месяца с Бессоновым, на концертах мяукает декадентские стихи… Смотри, смотри, – рот до ушей, на шее жилы. Это не женщина, это – гиена.
Все же, когда Чародеева, кивая шляпкой направо и налево, улыбаясь большим ртом с розовыми губами, приблизилась к столу, любовник-резонер, словно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком.
– Милая… Ниночка… Какой туалет!.. Не хочу, не хочу… Мне прописан глубокий покой, родная моя…
Чародеева потрепала костлявой рукой его щеку, сморщила нос.
– А что болтал вчера про меня в ресторане?
– Я тебя ругал вчера в ресторане? Ниночка!
– Да еще как!
– Честное слово, меня оклеветали.
Чародеева со смехом положила мизинчик ему на губы: «Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться». И уже другим голосом, из какой-то воображаемой светской пьесы, обратилась к Николаю Ивановичу:
– Сейчас проходила мимо вашей комнаты: к нам приехала, кажется, родственница, – прелестная девушка.
Николай Иванович быстро взглянул на друга; затем взял с блюдечка окурок сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода.
– Это неожиданно, – сказал он, – что бы это могло означать?.. Бегу. – Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок. В гостиницу Николай Иванович вошел уже запыхавшись…
– Даша, ты зачем? Что случилось? – спросил он, притворяя за собой дверь. Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошел зять, она не спеша поднялась, подставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно:
– Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла два письма от Кати. Вот. Прочти, пожалуйста.
Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насторожилась.
– Ты завтракала? – вдруг спросил он. – Если голодна – пойдем в павильон.
Тогда она подумала: «Разлюбил ее совсем», – обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить до завтра.
По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но когда Даша спросила: «Ты купаешься?» – он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующее гигиенические цели.
– Представь, за месяц купанья на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его внутрь. Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас, мужчин, еще терпимо, только небольшой пояс, но женщины закрывают почти две трети тела. Мы с этим решительно начали бороться… В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу.
Они шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку из плоских, обтертых прибоями раковинок. Неподалеку, там, где на отмель набегали и разбивались кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки в красных чепчиках.
– Наши адептки, – сказал Николай Иванович деловито. У Даши все сильнее росло чувство не то возбуждения, не то беспокойства. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль.
Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки, и это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша присела и опустила туда руки. Маленький плоский краб шарахнулся боком, пустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной замочило руки выше локтя.
– Какая-то с тобой перемена, – проговорил Николай Иванович, прищурясь, – не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора.
Даша обернулась, взглянула на него странно, поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резонер махал соломенной шляпой.
Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским; любовник-резонер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча словно про себя: «Боже мой, как хороша!» – и подводил знакомить каких-то юношей – учеников драматической студии, говоривших придушенными голосами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщен таким успехом «своей Дашурки».
Даша пила вино, смеялась, протягивала кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом взволнованное море. «Это счастье», – думала она.
После купанья и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавеси окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шехерезады, висела над чешуйчатой дорогой через все море. Даша засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.