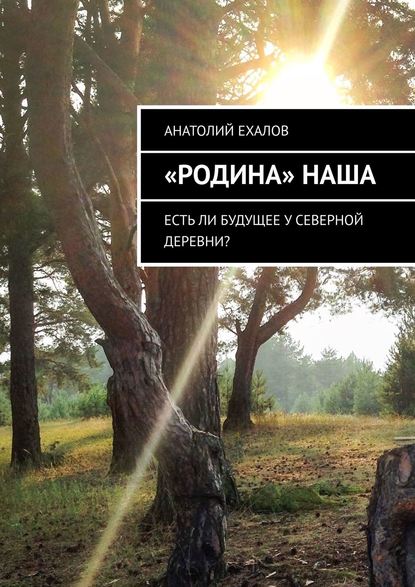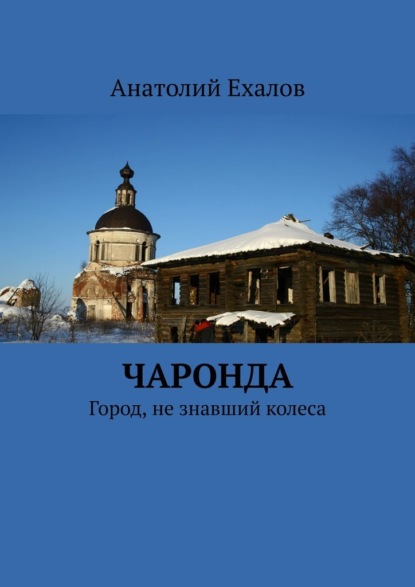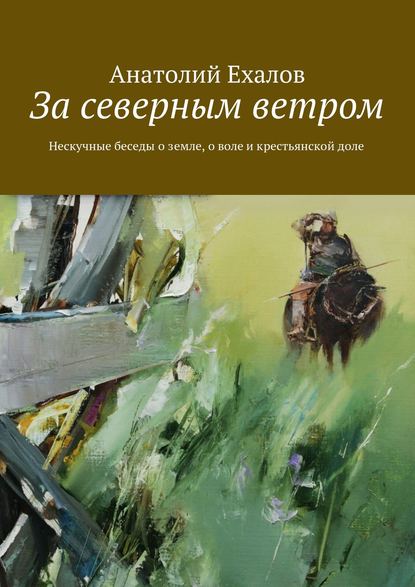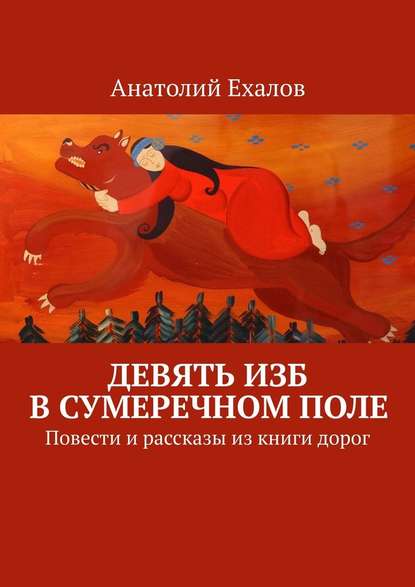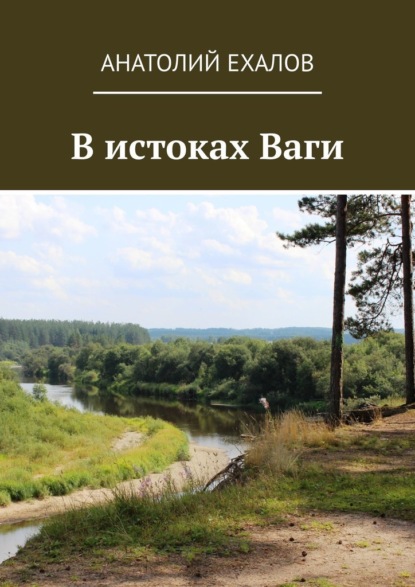
Полная версия
В истоках Ваги
Мои служебные обязанности заканчивались в 18 часов, а занятия в школе начались в 19. Подхватив сумку, я мчался в школу и корпел за учебниками и тетрадями до полуночи.
По уставу отбой в части был в 22 часа. Я приходил в час, во втором. А вставать нужно было в 6 часов утра. Таким образом я спал на четыре, пять часов меньше своих сослуживцев. Но я знал, что нельзя расслабляться. Нужно учиться и учиться, чтобы изменить жизнь родной деревни.
А из деревни шли тревожные новости. Отчим сильно болел.
После двух лет службы мне положен был отпуск на родину. Не успел я оформить документы, как пришла телеграмма: отчим был при смерти.
Меня отпустили без промедления. И все же я не успел проститься с отчимом, который заменил мне отца и принял, как родного. Постоял у свежей могилки, погоревал. Но беда не ходит одна, говорят в народе. Слегла сестра. Болезнь развивалась стремительно. Пришлось вести ее в районную больницу, где ее сразу отправили на операционной стол. Слава Богу и докторам, сестру удалось спасти.
А дома оставалась мама в солидном возрасте… Нужно было помочь ей в домашних делах. И я дал телеграмму в часть с просьбой продлить мне отпуск на пять дней по семейным обстоятельствам. Отпуск мне продлили.
Трудовое студенчество
А впереди были три года службы. За эти годы я успел закончить девятый и десятый классы, сдать успешно экзамены. Мой непосредственный начальник Макаров не раз интересовался моими планами. Он говорил, что я могу остаться на сверхсрочную службу или поступать в Киевскую военно-политическую академию. Но к тому времени уже твердо решил связать свою жизнь с деревней.
– Как же ты будешь учиться вдали от дома? —Спрашивал Макаров. – Вот моя дочь учиться в Ленинграде, живет у тети, получает стипендию, а все-равно я каждый месяц высылаю ей по две тысячи рублей. Я не уверен, что твоя мать сможет тебя поддерживать из своей деревни. Какие там заработки? Слезы.
И действительно слезы. Война вытянула из села последние силы. Отдала все: и людей, и хлеб, и скот, и средства шли на прежде всего на восстановление разрушенного хозяйства в оккупированных районах. У великой страны не доставало средств, чтобы поддержать бесчисленные северные деревеньки, казалось бы отдавших себя всю на борьбу со смертельным врагом.
Поэтому я принял решение поступать в Ленинградский институт механизации сельского хозяйства. Я верил, что только машины выведут наше село из нищеты, избавят от непосильного труда. Написал заявление, отослал документы и мне в июле пришел вызов: экзамены с 1 августа. Но я еще находился на службе. Демобилизация должна была состояться только осенью
Но я говорил о человечности наших командиров. Невероятно, но меня отпустили из армии досрочно. Вступительные экзамены я сдавал во флотской форме. Приняли!
Знания у меня были прочные, поэтому поступить в институт не составило большого труда. Но что делать дальше?. На что жить?. Стипендии, как не крути, не хватит. Я съездил на десять дней домой и вернулся в 1 сентября в Ленинград. И началась студенческая жизнь.
Всю жизнь я тащил на себе воз общественных нагрузок. На флоте первые три года был секретарем комитета комсомола части. Тоже, я вам скажу, не баклуши бить. Ответственность. И еще какая.
.Все зависит от того, как к делу относиться. Можно формально, набрать цифр с потолка и отчитаться чеканным голосом. Можно по-другому: вникать в суть вопросов, видеть, как учил капперранг Макаров за каждой цифрой человека…
У меня была очень хорошая характеристика из армии и поэтому меня сразу ввели в состав комитета комсомола факультета, а уже на третьем курсе меня выбрали секретарем комитета комсомола факультета. Говорят, грузят на тех, кто ввезет. Но я не воспринимал общественную работу, как нежелательную нагрузку. Мне она была интересна. Но времени, как всегда не хватало. Не хватало денег.
Поэтому, как всякий малообеспеченный студент советских времен, я ходил по ночам подрабатывать. И не в подворотню. Нынче я слышал, некоторые подрабатывают разбоем в подворотнях. А я работал но ночам на железной дороге, где разгружал вагоны.
Так что получалось так. В армии я работал и занимался общественной деятельностью днем, а по ночам учился, а теперь я учился днем, а на жизнь зарабатывал ночью.
Мне было в ту пору 25 лет. Я был здоров, силен и настойчив.
Довелось побывать на целине. Это волнительные воспоминания на всю жизнь. Из вузов Ленинграда был сформирован целый эшелон студентов-добровольцев, желавших поучаствовать в грандиозном деле – освоения целинных и залежных земель. Сегодня спорят на поводу целины, надо ли было трогать эти вековые степи, что потревоженная плугами земля может стать бедствием для экологии… Конечно, можно было пойти по другому пути, вернуться к оставленным без внимания землям и деревням Северо-Запада и Центральной России. Они бы накормили страну. Но для этого нужно было время. А целина могла дать результат мгновенный. А страна остро нуждалась в хлебе. И мы ехали, чтобы этот хлеб вырастить и убрать…

Какой подъем царил у пассажиров этого заряженного энтузиазмом эшелона!
В каждом вагоне звучала эта, ставшая мгновенно популярной песня:
– Эх, ты, дорога длинная!Здравствуй, земля целинная,Здравствуй, простор широкий!Весну и молодость встречай свою.Ехали мы в Казахстанские степи, в Павлодарскую область, совхоз имени Абая. Меня потряс вид бескрайних степей, темного золота хлеба под ветром, похожие на морские волны.
Жили в палатках. Резко континентальный климат давал себя знать. Днем стояла безумна жара, от которого негде было укрыться, ночью степь стремительно остывала, так что под утро зуб на зуб не попадал.
Мне доверили комбайн. Не зря комбайнеров назвали тогда капитанами полей. Я готов был работать день и ночь. Бункер намолачивался быстро, не всегда машины успевали отвозить зерно. На глазах росли терриконы обмолоченного зерна. Я даже во сне, в мечтах не мог представить такого количества хлебов под открытым небом. Зерновые элеваторы не справлялись, техники, не смотря, что были мобилизованы все ресурсы страны, катастрофически не хватало. И в этом тоже был урок. Урок правильной, тщательной организации труда и планирования.
Я вернулся в институт с правительственной наградой – медалью «За освоение целинных земель».

Задолго до распределения я написал письмо в министерство сельского хозяйства РСФСР с просьбой направить меня на работу в Вологодскую область Верховажский район. Выпускников Ленинградского института на Вологодчину не направляли, потому что там свой институт в Молочном имени Н.В, Верещагина покрывал потребности области в кадрах сельского хозяйства.
Просьбу мою удовлетворили. Я еду домой. К матери, которая уже не молода и нуждается в поддержке.
Нижнее Кулое
Сначала я был инспектором по госсельхознадзору в Чушевицкой зоне, но уже через два месяца меня направили на хозяйственную работу заведующим межколхозными ремонтными мастерскими в Нижний Кулой.

Кулой – это красивейшая река, которая берет начало в озере Сондугском в соседнем Тотемской районе. В этих краях никогда не было крепостного права. Крестьяне были черносошенными или государевыми, которые работали на государство, обеспечивая его валютой. А валютой в те времена были меха, живица или сосновая смола, вар, пек, лен, пакля. Строевой и корабельный и мачтовый лес. Лес этот справлялся по реке в Вагу, по Ваге в Северную Двину и далее на корабельные верфи Архангельска.
Нужно видеть какие дома строились крестьянами по реке, Кулой.
Настоящие деревянные крепости, про которые Белов писал, что крестьянский дом на Севере это подводная лодка в автономном плавании. Но деревня была к тому времени истощена.
В Нижнем Кулое ремонтные мастерские располагались в церкви.
До этого там была машинно-тракторная станция, которую ликвидировали, превратив в межколхозную ремонтную станцию, которую и возглавил я по решению бюро райкома партии.
Тепла в церкви не было. Слесари и механизаторы грелись около железной бочки, в которой горел постоянно огонь. Озябшие ремонтники большей частью грелись вокруг ее и на ней же разогревали еду, приносимую из дома. Все фрески были в копоти.
Я поехал в райком партии за помощью. Увы, секретарь сказал, что помочь мне не в его силах. Нечем… Нужны материалы, а фондов на них нет.
– А вот, поезжай-ка ты в Вологду. Походи по организациям, возможно что-то, где-то и сыщешь.
Я послушал его совета, но всюду, куда я приходил мне отказывали. И тогда я записался на прием к первому секретарю обкома КПСС Лонгунову.
Поразительно, но он меня принял, выслушал и помог.
В лесу в лесхимартели был старый брошенный котел. Мы притащили его в церковь, отремонтировали, из Вологды доставили нам трубы и батареи по ходатайству Лонгунова. И мы своими руками смонтировали отопление и на первом и на втором этаже. Сделали настоящие двери работа по ремонту тракторов и машин закипела…
Надо сказать, что народ был замечательно отзывчивый там. Достаточно было проявить к ним чуточку внимания, готовы были убиться на работе. С таким народов можно было при правильной организации труда свернуть горы.
Но все же хотелось вернуться домой, поближе к матери.
Однажды я был по каким-то делам в Верховажье и зашел в райком партии озвучить эту просьбу. Я попросился направить меня в колхоз «Верховье» механиком, но неожиданно получил предложение выставить свою кандидатуру на председателя. Там председатель колхоза попросил отпустить его по состоянию здоровья. Он был инвалидом второй группы.
И я согласился.
Верховье

Прежде нужно рассказать, что из себя представляло к 1960 году наше коллективное хозяйство «Верховье».
До 1050 года в Верховье, так называлась вся наша округа, были два сельсовета. Верховский первый по одну сторону реки и Верховский второй. Представьте, как плотно было заселена территория верхней Ваги.
В первый сельсовет входило пять колхозов. Они были тогда небольшими.
Это « Пятилетка Севера», в который входили деревни Сметанино, Жуково, Отводница. Этот колхоз объединял 35 хозяйств и 90 трудоспособных человек.
Был такой колхоз имени Калинина, в него входили деревни Фомина и Калинина. В нем было 37 хозяйств и 40 трудоспособных человек.
Колхоз «Красная Звезда» объединял деревни Кудринскую, Зимницы, Прилук, Кужиху, Собакино. В нем было 54 хозяйства и 64 трудоспособных.
«Красная новь» \Пеженга\. В него входили деревни Мальцевская, Михайловская, Маклаковская и Семеновская. В них 60 хозяйств и 75 трудоспособных.
Колхоз «Победа». Деревни Слободка, Бакури…,Барханка, Сало…
87 хозяйств, 166 трудоспособных
Второй Верховский сельсовет на том берегу Ваги так же включал пять колхозв.
«Первомайский» в деревне Основинской,
«Красное Знамя» -Данилково с хуторами
«Молодой коммунар» -Киселево
«Стахановец» – Боровичиха
«Северный колхозник» – Щекотиха, Погибла и хутора.
Колхозы в том и другом сельсовета часто укрупнялись и разъединялись, но к шестидесятым за рекой был создан колхоз «Боевик», объединивший все эти колхозы-рукавицы.
А в первом сельсовете образовался колхоз Верховье.
А 12 февраля 1959 года на общем собрании принято было решение о слиянии слияние обоих в один колхоз «Верховье». Председателем колхоза избрали директора неполной средней школы Николая Павловича Трапезникова.
Николай Павлович принял это решение спокойно, не отказывался. Но ему не хватило воли и знаний, чтобы управлять таким разрозненным коллективом. Не хватало экономических, агромических, технических, наконец, знаний. И созданный, собранный, сшитый, как лоскутное одеяло огромный колхоз, сразу стал трещать по швам.
В это время происходил переход колхозов с натуроплаты на денежные расчеты. «Верховье» не перешло, а переползло. Денег в банке не было, на счетах огромная картотека, ожидающих от колхоза расчетов. Людям за их труд не платили.
Анархия царила всюду. Никто никого не слушал, распоряжения председателя не выполнялись. Колхоз уверенно погружался в пучину банкротства.
Работа с кадрами отсутствовала. Доходило до того, что ухаживать за телятами было некому. И вместо телятниц на ферму ходил обряжаться секретарь парткома А. Г. Гущин. За поросятами ухаживали по очереди работники конторы, в киселевской бригаде на ферме некому было доить коров.
Лен, который во все времена кормил северного крестьянина, был отодвинут на последний план. Сроки теребления, растила,
16. подъема его со стлищ затягивали. Часто он уходил под снег, а по весне его сжигали…
Мастерские по ремонту техники опять же располагались в церкви, которая день и ночь отоплялась из железной бочки. Но день и ночь ворота были нараспашку и температура в помещение была такая же, как и на улице. Вокруг церкви валялись кучи искореженного железа, тат же была кузница, тут же стояла заправка, бочки с ГСМ, с солидолом, нигролом…
Напротив церкви была потребсоюзовская столовая. Когда в нее привозили разливное пиво, механизаторы бросали работу и выстраивались в очередь с тарками. Унять их не было никакой возможности. Они могли послать начальство очень далеко.
А между тем, в объединенном колхозе катастрофически не хватало кормов. Голодная скотина на фермах кричала так, что казалось, от рева их поднимется крыша. Не было кормов даже на личных подворьях, не было и у председателя колхоза.
И вот в шестидесятом году 60, приняв колхоз, я вынужден был на стороне изыскивать корма как для общественного стада, так и личного скота в том числе и председателя колхоза.
Видя такое бедственное положение, Трапезников отказался от своей зарплаты и не получал ее. Колхоз оставался должен ему около 10 тысяч рублей на старые деньги.
Поклон льну

Естественно. Начинать надо с будущего. Нужно показать людям видимую, понятную, достижимую цель.
Лен – вот наше спасение – так думал я долгими зимними ночами за рабочим столом при свете керосиновой лампы..
Зимой 1961 года я был на совещании в области, на котором присутствовали многие хозяйственные руководители, в числе который был знаменитый, впоследствии дважды Герой Социалистического труда, председатель колхоза Родина Михаил Григорьевич Лобытов.
То, что рассказывал он, на первых порах вызвало взрыв хохота. А дело было в том, что колхозники «Родины» вытеребив лен, везли его на асфальтовую дорогу. Через них проходила дорога на Москву. И вот они расстилали по асфальту лен, а проходящие автомобили своими колесами вымолачивали из головок льна семена.
Лен собирали и везли на стлище, сокращая тем самим сроки подготовки льна к сдаче на льнозаводы.
Мы слушали и не верили, лен давал хозяйству сумасшедшие прибыли, о которых мы только мечтали.
И вот по возвращении из Вологды я собрал правление, чтобы обсудить этот серьезный вопрос: как вырвать колхоз из бедности и откровенной нищеты.
Мы решили материально заинтересовать колхозников в получении высоких урожаев и высорких доходов.
В 1962 году льняное поле в колхозе составляло 125 гектаров. Всходы поднялись дружные, чистые, обещающие высокийй урожай. Мы разделили весь лен на участки, закрепив за каждой семьей колхозников по пятьдесят, семьдесят соток. У некоторых было и по гектару. Мы объявили, что четверть дохода от сданной 18. тресты пойдет колхозникам на оплату. Но не по принципу уравниловки, а конкретно за результат. Ты вытеребил свои пятьдесят соток, ты высушил в бабках лен, свез на колотилку, очесал, расстелил под августовские росы, снял, погрузил на машину, поехал с нею на завод, получил справку о количестве сданной тресты с твоего участка, и качестве ее, может получить свои двадцать пять процентов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.