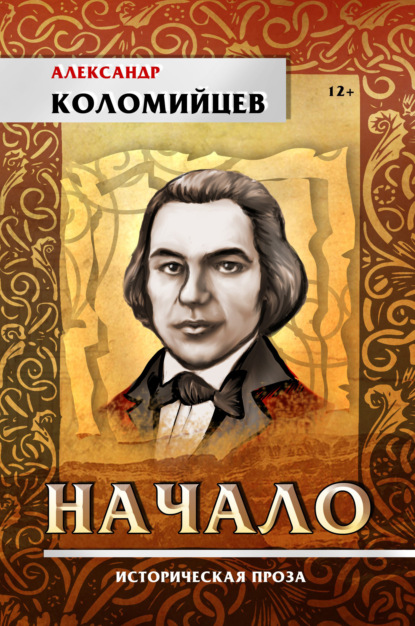Полная версия
Русские хроники 10 века
Блуд повёл боязливый взгляд на богов, возвышавшихся во внутренней краде. Среброголовый Перун сурово вперил очи в боярина, Макошь, Дажьбог смотрели осуждающе, с укором. Стрибог и Хорс, стоявшие ошую от Перуна, глядели загадочно, не поймёшь, что на уме. Лишь крылатый пёс Семаргл, притулившийся под ногами Макоши, казался безразличным. Ну так пёс – он и есть пёс, хоть и крылатый. Не бог, а так, боженёнок.
– Чего тянешь? – пхнул плечом Ждберн.
Боярин собрал у подбородка бороду в горсть, пропустил сквозь кулак.
– Бояре, и вы, старци! Слушайте, что скажу! Перун-Громовик благоволит великому киевскому князю, дружине его. Ведомо вам, ходил ныне князь на ятвягов. Вернулся с победой, полон пригнал, много врагов побил. Из дружины же лишь малое число кметов смерть приняли. Потому желает князь со своею дружиною сотворить Перуну требу великую, небывалую. Пожелали князь и дружина его принести в жертву Перуну за великую милость его наикрасивейшего отрока или юницу, какие только есть в Киеве.
Брячислав первый разинул рот, за ним и Путята, и Волчий Хвост, и Ждберн завопили одной глоткой:
– Кинем жребий на наикрасивейших сынов и дщерей наших. Кому жребий выпадет, того зарежем богу нашему.
Знали сии бояре: минет жребий чад их.
Бояре, дружина, старци градские загалдели тут же согласно: «Быть по сему. Кому жребий выпадет, того зарежем богови нашему!» Волхвы заголосили, словно калёным железом ужаленные, закричали прежнее, супротивное, многажды рекомое. Зворун вздел руки, в деснице сжимал посох.
– Что речёте, окаянные!
Брячислав, боров откормленный на двух ногах, иной конь под туловом приседает, напирал грудью на тщедушного волхва:
– Иди, иди, старче! Идите, ярок да тёлок выбирайте. Се наша треба, без вас решим, без вас принесём.
Бояре, дружина крепкими плечами, а то и тычками вытеснили ярившихся волхвов за внешнюю краду. Блуд кивнул Мистише. Тот сунул руку в холстяной мешок. Мешок перед тем потряс, чтоб без обмана было. Нашарив, вытянул вощёную дощечку. Показав дощечку боярам, прочитал скороговоркой одиннадцать имён. Кашлянув, прочитал двенадцатое: «Отрок Иван, сын варяга Буды».
Вчера день-деньской старци градские ходили с сотскими по Киеву, глаголили вполголоса со старшинами, заглядывали во дворы. К вечеру выбрали двенадцатью двенадцать отроков и юниц. Мистиша при свечах выписал имена на двенадцать одинаковых дощечек. Одинаковых постороннему глазу. На одной знак имелся, одному Мистише ведомый.
Из другого мешка Мистиша вынул двенадцать чистых дощечек. Изогнутым писалом начертал на каждом по одному имени. Скидал дощечки в мешок, потряс хорошенько. Бояре, дружинники, старци глядели, затаив дыхание. Вновь пошарила сноровистая рука в мешке. Прикусив губу, жеребьёвщик вынул меченую дощечку, громко прочёл: «Отрок Иван, сын варяга Буды».
– Быть по сему. Бери гридней, скачи к Буды, – велел Блуд, перевёл дух, отёр со лба выступивший пот.
2
Двор Буды находился неподалёку, полверсты едва наберётся, да негоже княжим людям пеши волю княжью исполнять.
Не слезая с коня, Мистиша раз-другой ударил рукояткой меча в тёсаные воротца. Крепко ударил, аж гул пошёл. Во дворе лаем зашлась собака, но людских голосов не слышалось. Мистиша пнул ногой в другой раз, прислушался. Зашлёпали босые ноги, калитка приоткрылась на две пяди. В щели появилась голова с нечёсаными волосами. Серые глаза вопросительно смотрели на гридней.
– Чего вылупился? – заорал Мистиша. – Ворота отворяй. Хозяин-то дома?
– Погодите, – независимо ответил обель. – Сейчас хозяина спрошу.
– У тебя что, бельма на глазах? – взъярился Мистиша. – Не видишь? Княжьи люди мы. Дело к твоему хозяину. Отворяй скорей, пока ворота в щепы не разнесли.
Голова скрылась. Прошуршал засов, ворота растворились. Вслед за Мистишей во двор въехали десяток сопровождавших его гридней. На улице толпились привлечённые шумом любопытствующие мужики, боярские челядинцы из соседних дворов. Из греков варяг вернулся с тугой мошной. Избу справил двухъярусную, с сенями на резных столбцах. По периметру двора располагались рубленые, крытые соломой одрины, клети. У крайней клети бесновался волкодав.
– Уйми собаку да покличь хозяина, – распоряжался Мистиша.
Хозяин в зелёной ферязи уже показался в сенях. Положив сильные руки на перильца, сурово смотрел на незваных гостей.
– Чего надобно от меня князю?
– Будь здрав, Буды! – насмешливо, глумливо выкрикнул княжий прихвостень, представляя заранее униженные мольбы варяга о пощаде. Усладой бывали такие минуты. – Радость великую тебе привезли, Наши боги выбрали твоего сына. Давай его нам, мы укажем ему дорогу к богам.
Оторопь взяла варяга. Ладони сжали перила, аж суставы на пальцах побелели. Откинулся корпусом назад, смотрел расширившимися зрачками.
– Ай не понял? Боги твоего сына требуют. Отдай его нам! – уже со злобой, распаляя себя перед кровью, выкрикнул княжий угодник.
К Буды вернулось самообладание. Понял варяг, для чего надобен сын нечестивцам. Смерть стояла во дворе, но старый воин не страшился её. Всемогий бог испытывал его, и он с радостью был готов принять муки ради него.
– Почто ж они сами не пришли, боги ваши бесовские? – презрительно спросил варяг. – Пускай придут и возьмут, а вам не отдам.
– Ты что речёшь, богохульник? – ярился Мистиша. – Богам противиться возжелал? Гляди, раздерёт тя Перун родией.
– Ваши боги – истуканы деревянные. Сегодня они есть, а завтра их нету, сгниют деревяшки. Бог един, и верую я в него. Не отдам сына на бесовское требище.
– Добром не отдашь – сами возьмём. Тебе же хуже будет.
Мистиша словно не понимал собственных речей. Что может для родителя быть горше смерти единственного дитяти? Собственную жизнь с радостью обменяет на жизнь сына. Варяг скрылся в избе. Гости расслабились, считая того покорившимся злой участи. Буды появился в сенях вместе с сыном. Глянув на обоих, Мистиша с досады скривился. Варяг сжимал в руках сулицы, на поясе висел крыжатый меч, отрок держал наготове лук с наложенной на тетиву стрелой.
– Волоките сюда кутёнка, – процедил Мистиша сквозь зубы.
Трое гридней, соскочив с коней, стремглав кинулись к лестнице. С сеней метнулась тень, и прыткий Вышко, коий не мог видеть пред собой чьей-либо спины, и всегда лезший напередки, раскинув руки, повалился на поспешавших за ним товарищей. В шее кмета торчало копьё, кровь хлестала струёй, орошая лестницу, руки, подхватившие враз обмякшее тело. Самому Мистише в грудь ткнулась стрела. Выручила предусмотрительность – под кафтан надел бронь. Толпа ахнула и попятилась к одринам. Раздалась громкая брань, конское ржанье. Мужику в ляжку вцепилась собака. Обезумевший от боли раненный стрелой конь сбросил вершника. Мистиша велел спешиться, вывести коней со двора. Осатаневший пёс издыхал с разрубленным хребтом.
Крепко выругался Мистиша. За убитого гридня перед князем ответ держать придётся, не в брани погиб. Ещё и другой охает, то ли зашибся, то ли ногу вывихнул. Не ожидал хитрец и проныра, что здесь, на Горе, в самом центре Киева, близ теремного двора, кто-нибудь поднимет руку на княжих людей. Предвкушал насладиться униженными мольбами, стенаниями, а оно вона как вышло.
Неожиданная смерть товарища взъярила гридней. Уже и без понуканий своего временного начальника жаждали поквитаться с варягом. Слепая ярость грозила обернуться новыми смертями. Не на брань отправлялись, ни копий, ни луков гридни с собой не взяли. Буды готовился метнуть следующее копьё, Иван держал наготове лук. Пока по неширокой лестнице взберутся на сени, варяги успеют ещё не одного кмета лишить жизни.
– Запалить их, что ли? – со злобой молвил Мистиша.
– Что ты, милай? – загалдели мужики. – Сушь стоит, а ну как огонь на другие дворы перекинется?
– За такие дела князь не похвалит, – заметил старший гридень.
– То верно, – согласился Мистиша.
Двор варяга стоял по соседству с боярскими хороминами. Запалишь – и князь не спасёт от боярского гнева. Перемолвившись с десятинником, Мистиша велел пятерым гридням посноровистей обойти избу, вломиться через окна, мужикам же сказал:
– Вот, что, милаи, слушай меня. Ежели эти бесы ещё хоть одного княжьего кмета завалят, велю палить варяговы хоромы. А ежели беда какая выйдет, скажу боярам: ваши людишки потатчиками княжьему ослушнику были, потому и пожар случился. Вам же хуже будет. Помогайте нам. Тащите топоры, плахи, шкуры.
Несчастье, пришедшее во двор Буды, сочувствия не вызвало. Варяг для русича – серый хищник. Варяг служит не Земле, князю, и на службе той беспощаден и безжалостен. Трудно, сея зло и обиды, рассчитывать на людскую доброту. Если пришла пора поквитаться с одним из обидчиков, о том, какой он веры, каким богам поклоняется, Перуну, Одину, Христу ли, о том и думать никто не думает.
Дверь из избы в сени трещала. Под сени, прикрывшись от стрел плахами и шкурами, пробрались мужики, рубили топорами столбцы. Ещё одна Иванова стрела нашла себе жертву среди мужиков, но смертный час варягов приближался. Сени качались, готовые рухнуть. Прижавшись спиной к стене, поставив рядом с собой сына, Буды выкрикнул что есть мочи:
– Принимаем муки за Господа нашего Иисуса Христа! Да святится Пресвятая Троица!
Восславив Христа, вместе с сыном запел псалом. Смерть не страшила старого воина, принимавшего муки за Спасителя. Сени рухнули. Мистиша и не пытался удержать от расправы распалившихся гридней и мужиков.
Глава 5
1
Отпировав с боярами и дружиной, Владимир с Добрыней уехали в Вышгород. Здесь веселие продолжалось. Любо было князю вышгородское застолье. Не докучали ненасытные, завидущие бояре. Дружина – иное. С дружиной князь бывал щедр. Вернувшись из похода, делил добычу, и, получив награду, дружинники более не выманивали кун, земельки, леса для лов. Боевые соратники ков друг дружке не строили, совет держали прямой, без потаённых корыстных задумок. До конца пира Владимир не досидел, ушёл в покои. Утром попарился в бане с духмяными травами, грушевым квасом, челядин опрокинул ведро колодезной воды на голову. На люди князь вышел свежий, весёлый, с румянцем на тугих щеках.
Солнце коснулось верхушек вязов, приплюснулось, раздробилось. В гриднице отставили чаши, затянули песню. Владимир в лёгком хмелю откинулся на спинку деревянного кресла, подпевал. Сзади тихой поступью, на носках приблизился служка, зашептал на ухо. Владимир лишь имя Мистиши разобрал, нахмурился. Сгоряча хотел отругать отрока, с каких пор князь должен выходить из-за стола к своим людишкам. Сдержался, дело у Мистиши скрытное, не зря не зашёл в гридницу. Дружинники примолкли, Владимир рукой махнул: продолжайте, у меня, мол, дело своё, особое, вас не касаемо.
Мистиша, запылённый, с виноватым лицом, мялся в проходе, при виде раздражённого князя склонился до пола.
– Не гневись, княже, сам велел сразу известить.
Владимир унял раздражение, и вправду давал такой наказ.
– Говори, всё изладил, никто поперёк не пошёл?
– В святилище всё ладом сделали. Волхвов, чтоб не перечили, за краду вытолкали. Потом наперекосяк пошло. Не отдал Буды сына, на твоих людей, княже, руку поднял.
– Ну? – нетерпеливо воскликнул Владимир. – Неужто отступились?
– Приступом варяга взяли. Избу по брёвнышку раскатали. Самого Буды и кутёнка его до смерти пришибли.
Выслушав рассказ Мистиши, Владимир рукой махнул. Так или иначе, с обидчиком рассчитался.
– Ладно, умойся с дороги, заходи в гридницу.
Мистиша облегчённо вздохнул, повеселел. Коли князь на пир зовёт, значит, не гневается.
2
Дружинники ожидали князя с наполненными чашами. Выпив мёд, Владимир обернулся к Добрыне.
– Помнишь ли, как печенеги Киев обложили, когда князь Святослав в Переяславце был?
Добрыня отёр мягким убрусом жир с пальцев, глянул на князя трезвым взглядом. Не пропали его слова втуне.
– Как не помнить! Княгиня Ольга, с вами, детьми малыми, едва животы спасла тогда.
– Печенеги-то пришли, откуда и не ждали, не со степи вовсе. И валы обошли, и Рось. Путь им теперь знакомый. Крепости надобно на том пути ставить, городки с городницами, вежами. Человека бы бывалого сыскать, чтоб места те знал. Валы – что, только заминка, не обойдут, так перелезут где.
– Есть такой человек. С Роси родом, но и по Стугне, и по Ирпеню хаживал.
Владимир в который раз подивился прозорливости уя. Добрыня же подозвал дружинника, сидевшего у другого конца стола.
– Огнеяр! Подь-ка сюда.
К князю приблизился кмет, годами немногим моложе Добрыни. С бритой головы до мочки уха свешивался пук седоватых волос, длиннющие усы опускались ниже подбородка. Рыжина основательно вылиняла, подходило время, когда имя Огнеяр можно сменить на Белояр. Кожа лица была высушена солнцем, выдублена ветром и стужей. Левая щека хранила след вражьего железа. Некоторое время Владимир смотрел в глаза кмета. Тот взгляд не опускал, не отводил. Ему ли, сотни раз готовившемуся перейти из Яви в Навь, страшиться разговора, хотя бы и с самим всесильным киевским князем. Князь смигнул, невольно опустил взгляд, усмешкой прикрыв слабинку, спросил:
– Давно ли в дружине?
– Ещё с отцом твоим, князем Святославом, Белую Вежу брал, ромеев рубил, печенегов, всех не упомнишь.
– Доволен ли ты службой киевским князьям?
Огнеяр шевельнул плечом.
– Князю Святославу и злато, и каменья, и паволоки – всё мусор было. Оружье князю было любо. Оружьем я доволен.
– Ты и князю Ярополку служил?
Старый рубака пожал плечами, хмыкнул, не поймёшь, насмешничал над князем, виноватился ли.
– Меня князь Святослав в дружину взял Землю боронить, вот я и бороню.
Владимир мысленно продолжил за гордеца: «Князья меняются, а Земля остаётся». Святославовы рубаки держались гордо и независимо – под началом самого князя Святослава на брань ходили, а молодой князь в ратном деле пока особых успехов не достиг. Раздражало то и сотников, и тысяцких, но всякий ветеран стоил десятка молодых кметов, потому стоило с ними считаться и не замечать гордыни.
– При князе Святославе был, когда того Куря подстерёг? – Владимир смотрел прищурившись, злобно выжидательным взглядом. Задела князя спокойная уверенность, даже снисходительность, сквозившая в речах и самом облике бывалого бойца, захотелось самому куснуть.
– Нет, в Киеве оставался. Недужил после ран, не взял меня князь в тот раз, дома оставил.
– Ведомо ли тебе, зачем мне надобен?
– Ведомо, князь. Места на Стугне показать.
– А ведомы ли тебе те места?
– Ведомы, княже. Знаю я и Стугну, и бор великий, и топи. Отроком с отцом на ловы ходил. Всё помню. В коих бранях бывал, кого рубил, кто меня рубил, и не припомню, всё смешалось. Как отроком с отцом по лесам ходил, всё помню. Верно, княже, мыслишь. Надобно на Стугне заслон степнякам строить.
Владимир щёлкнул пальцами, отрок наполнил чашу. Князь чашу подал кмету.
– Вот, испей. Будь при мне, из теремного двора не отлучайся. Хорошо сослужишь – награжу. Что ж ты, ещё с князем Святославом ходил в походы, а всё простой кмет?
Огнеяр, не отрываясь, выпил мёд, поставил пустую чашу на стол, вытер рукавом усы.
– Бывал я и десятинником, и сотником. Повыбило и десяток, и сотню мою, – с простотой добавил: – При Ярополке в простые кметы перевели, а с тобой твои люди из Новгорода пришли, – развёл руками. – Так и остался кметом. Благодарствую за честь, княже, из твоих рук чашу принял.
Владимиру опять послышалась насмешка, но в этот раз сдержался, виду не подал, может, почудилось. Мог бы поведать кмет о себе, глядишь, по-иному бы князь на него смотрел, промолчал, посчитал пустым. Прозвали кмета Огнеяром не только за огненные кудри. Как-то на пиру, уже при Ярополке, когда медов выпили довольно, спросил горячий сотник у хитроумного воеводы, почто князя не уберёг. Слово за слово, из-за стола выскочили, чаши опрокинули. За отца сын Лют вступился. Не вмешайся Ярополк, спор мечами бы решили. С того дня житья не стало сотнику от воеводы. У князя правды искать – пустое дело, Свенельд – правая рука. Ушёл Огнеяр в Чернигов, в Киев вернулся, когда столец Владимир занял, а Свенельд с сыном в Навь переселились. Во Владимирову дружину взяли простым кметом. Годы пометили сединой, добавили мудрости.
Князю прискучила беседа с неразговорчивым дружинником.
– Ладно, ступай, Перунов день отметим, пойдём на Стугну.
За столом уже спорили.
– Городки поставить – надёжнее валов заслон будет, спору нет. Дак в городках дружину держать надобно. А кто её поить, кормить станет? Леший с медведем? Из Киева припасов не навозишься, а там людий – на десять вёрст полтора человека.
Всяк считал своё мнение самым верным, торопился донести до князя.
Поход на Стугну едва не сорвался. Владимир готовился ехать в Киев, отмечать Перунов день, а из Киева примчался вестник. Сам в поту и пыли, конь в пене. Отрок принял поводившего боками гнедка, повёл по двору, гонец склонился перед князем.
– Беда, княже! Радимичи бунтуют. Воеводу прогнали, едва ноги унёс. Сказывали, не посылал бы ты, княже, бояр на полюдье. Ничего не дадут, и от Киева они отпадают, власти киевского князя не признают. Своего князя поставят.
В сердцах Владимир едва не ударил вестника, но тот был ни при чём, не он бунтовал, что велели, то и передал. Добрыня был уже тут.
– Вот те и Стугна, – зыркнул на воеводу князь. – Собирай дружину, выступаем.
– Погоди, княже. Ай мало у тебя бояр-воевод? Путята, Волчий Хвост, Блуд, посылай любого. Князю ли лапотников усмирять? Ай дел поважней нету?
Владимир успокоился. И вправду, чего горячку пороть? Ему рубежи Земли крепить надобно, а лапотников – вон, хотя бы Волчий Хвост усмирит.
Глава 6
1
Вечером, после целого дня в седле на заревском солнцепёке, отдыхали в полстнице, в прохладе. На входе полсть шатра откинули, внутрь проникал свежий ветерок. Зарев не кресень, не червень, солнце село, прохлада пришла, комарьё, мошкара не донимали. В первом нынешнем походе ни на вольном воздухе, ни в полстнице без дымокуров от злобных кровососов житья не было. На пированье в Вышгороде предполагали, восславив Перуна, двинуться на Стугну. Но шибко любил князь Перуна, долго славили огнекудрого бога, опомнились, когда зарев подошёл. Пировали в гриднице, в терему, пировали в холодке во дворе, в тени высоких осокорей. Не в отца уродился Владимир. Тому конское седло было удобней княжьего стольца да мягких лож. В преддверии брани, при виде врага, готовящего удар, хмелел сильней, чем от медов крепких, хмелел да голову не терял. Но кое-что перешло молодому князю от воинственного отца. Был Владимир так же широк и щедр. Не скупясь, поил-кормил дружину, наделял кунами. Развеселясь, иной раз повелевал привести на теремной двор из Нижнего города, с многолюдного Торговища убогих, сами-то не придут, на Гору не всякого пускали. Да не одного-двух, толпу, всякого, кто на пути встретится. Нищую братию рассаживали за столы, кормили досыта, поили допьяна. Кормили не абы чем, не объедками, потчевали теми же яствами, что дружине выставляли. Князь выводил во двор гусляров, выпивал с нищими чашу. Пили и ели, пели и плясали убогие, славили щедрого князя. Славили в теремном дворе, Киеве, по весям и городам, где бродили, добывая пропитание. Ую то любо было. Сам, наезжая в Новгород, устраивал многолюдное веселие. Не только хоромина, улица ходуном ходила. Всяк, кто жажду, голод терпел, у кого душа развеселиться желала, пил-ел на его дворе. Наевшись да напившись, в пляс пускался, песни пел.
Владимир лежал на ложе из шкур, Добрыня сидел на складной скамье. Горела свеча, освещая середину шатра. Лица обоих собеседников скрывал полумрак. Беседа шла неспешно, покойно.
Умели княжьи дружинники меды пить, песни горланить, умели службу нести. За то сотники, тысяцкие строго спрашивали, да и перед товарищами позорно в дозоре сплоховать. Юркие ночные зверушки в становище не проскочат. Воевода беседу с князем вёл, а уши держал раскрытыми. В дозорах был уверен, да не за городницами ночуют, в открытом становище, на пути степняков. Потому в мирном шуме – шорохе шагов по траве, негромком говоре у костров, голосах ночных птиц – сторожил посторонние, тревожные звуки – заполошный вскрик, конский топот.
– Говорил с гостем Гюратой, – неторопливо повествовал уй. – Год прожил гость в Царьграде, всё вызнал. И ныне, и на то лето ромеям не до Руси, своих забот хватает. Ромейские смерды от непомерных податей бегут в монастыри. Басилевсам то не любо.
– Монастыри – то что есть? – лениво спросил Владимир. – У нас церкви есть, монастырей нет.
– В монастырях живут мнихи, божьи люди. Есть монастыри для жён, есть для мужей. И жёны, и мужи живут в безбрачии. Богу молятся, то, что всякому людину привычно, называют плотским и считают скверной.
– И девы молодые в монастырях живут?
– И девы, и жёны. Девы – невесты Христовы, мужей не знают.
Владимир захохотал.
– Блядословие то всё! Ромейские попы дев в монастырях для блуда держат, а рекут – невесты Христовы. У меня такие невесты тоже есть.
– В монастырях ныне не до молитв, – перегодив шутки племянника, продолжал Добрыня. – Земель у монастырей много, успевай поворачиваться – ниву пахать, скотину обихаживать, на молитвы времени не остаётся. Не монастыри, а наши боярские вотчины. По ромейским законам в казну церкви дани не дают, басилевсам и попам то не любо. Из-за монастырей у ромеев раздоры. Ещё и болгарский царь Симеон против империи выступает. Себя по своему царскому титлу мнит равным цареградским басилевсам. В граде Охриде своё болгарское патриаршество держит и цареградским попам не подчиняется. Потому забот у басилевсов хватает, не до Руси им. Но и бояре цареградские, и попы, и сами басилевсы шибко злы на Русь, так Гюрата проведал.
– Воно оно как. А ныне есть верный человек в Царьграде?
– А как же. Не сомневайся, княже, упредит. У олешьского воеводы лодия с кметами для того приготовлена.
Владимир потянулся, зевнул, закрыл глаза. Добрыня задул свечу, вышел из шатра. И дружинники, и сотники своё дело знали, но всё же спать укладывался, когда сам ночное становище проверит. Да и не любил воевода в походе в полстнице спать.
2
Высоко в блёкло-голубом небе парил, раскинув крылья, канюк. Вершники остановились в тени дубравы, всматривались вдаль, в неоглядное ковыльное поле, уходившее в знойное марево. Не понять, откуда налетел Стрибожий чадушко, взбрыкнул глупым жеребёнком, колыхнул ковыль, умчался неведомо куда. Огнеяр, сидевший на чалой с чёрной гривой кобылице слева от князя, давал пояснения.
– То Перепетово поле, от самой Роси идёт. Меж Стугной и Росью через Днепр броды есть. Переходи Славутич, выезжай на поле и скачи хоть до самого Киева. Дубравы вершникам не помеха. Добро бы едомой стояли, а рамены хошь справа объезжай, хошь слева. Там, – продолжал кмет, указывая вправо, – верстах в двадцати отсель Ирпень течёт.
– Нет, – перебил князь, – город надобно на Стугне ставить. Ирпень далеко от печенежского хода, так я мыслю. Добро бы против излучины поставить, тогда печенегам никак городка не миновать.
– Верховья Стугны топки, городок на берегу не поставишь. А без воды в осаде долго не высидишь.
– Пождём дозорных. О чём говорить? Для воды колодцы можно выкопать, да город на берегу ставить надобно, – меланхолично проговорил Добрыня и тут же, словно зернь кидал, воскликнул азартно: – Ух ты, узрел-таки!
Канюк, казалось, недвижно зависавший в голубом небе, уже тяжело поднимался от земли. В вытянутых лапах его корчился чуть различимый зверёк. Неспешно, словно лодии в безветренную погоду вверх по Славутичу, в вышине тянулись комки белоснежных облаков. Солнце припекало, тень от дубравы сместилась. Вершники спешились, уселись в тени ясеня, верного спутника дуба. Челядин подал квас, первому налил князю.
* * *От Стугны донёсся топот копыт. К дубраве подскакал отряд гридней, остановился в десятке саженей. Старшой соскочил наземь, приблизился.
– Топь, княже. И на этом берегу, и на той стороне.
Владимир ударил кулаком по колену. Огнеяр хмыкнул неведомо чему. Добрыня ничего не сказал, покосился сумрачно на самолюбивого кмета. Раздражённо, словно проводник был повинен в неудачном месте, князь спросил:
– Ну и где его ставить, городок этот? Не здесь же, посреди поля.
Огнеяр покусывал стебелёк мятлика, дождался, когда князь угомонится.
– Ниже, от излучины версты четыре ли, пять, сухие места пойдут. А тут сторожи поставить, дозорами стеречь. Сторожи от самого Днепра можно ставить. Степняки появятся, костры жечь дымные. Дым-от в поле далеко видать.
– Поехали! – Владимир пружинисто поднялся, легко вскочил в седло, доезжачий не успел и стремя придержать.
Весело было, отпустив поводья, пришпорив коня, мчаться по степи. Ветер посвистывал в ушах, земля мчалась навстречу. Князь вырвался вперёд, обогнав замешкавшийся дозор. Преодолев неглубокую балку с зарослями боярышника, поднялся на пологую возвышенность, остановил скакуна рядом с раскидистой дикой грушей, осыпанной тёмно-жёлтыми плодами. Привстав на стременах, прикрыл глаза ладонью, окинул взором окрестности. Правый склон зарос шиповником, за колючей лядиной стеной стоял камыш. Далеко за ним, очевидно, на самом берегу высились ивы. Слева, верстах в трёх зеленела грабовая роща. Князя окружили гридни. Дозорные, не останавливаясь, рассыпались по полю, ускакали вперёд. Далее ехали шагом. Камышовая чащоба постепенно сужалась, редела, перешла в луговину. Вершники забирали вправо, меж ивами блистала вода.