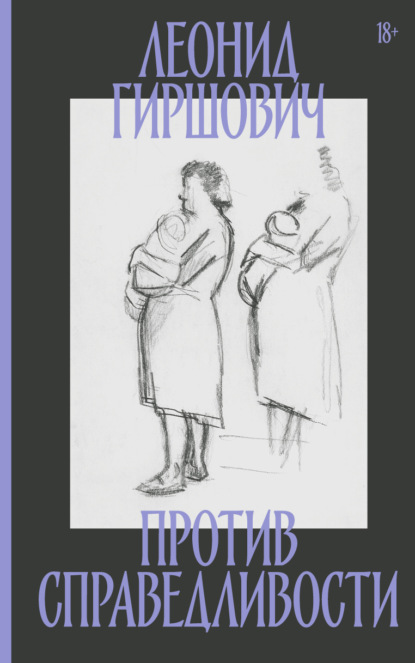
Полная версия
Против справедливости
Ребята приставали то к одной, то к другой группе паломников – интересно же, о чем говорят. О чем бы ни говорили, нет-нет да и припомнят, что раньше шли через Шхем. Больше не пойдешь через Самарию, как при Ироде.
Разговор сразу сбивался на политику. Четвертовластника называли не иначе как Четверть Ирода.
– Да бес с ним. По-любому лучше Ирода Великого. Вот по ком не соскучились.
– Иродиан в Галилее найти трудней, чем наловить рыбы в Мертвом море. Это Иудея соскучилась.
– И чем этот едомит им приглянулся? Что́ Иродово нечестие, что́ римские орлы.
– А четырнадцать тысяч вифлеемских младенцев? Да Ирод в сто раз хуже.
– А послушать, так у нас было великое царство, повсюду шло строительство, казны не жалели.
– Казны… сына родного не пожалел!
– Это в правилах всех великих царей. Давид что, пожалел? Кто, снявши голову, плакал по волосам: «Авесаломе, Авесаломе…»[9].
– Ну, положим, Ирод по Антипатру не плакал.
– Сказал же Кесарь: лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном.
– По крайней мере, безопасней – сыновья-то кошерные.
– Что ни говори, а Кесарь Ирода уважал. Иудея перешла под римский мандат только после его смерти.
– А помер-то как: заживо лопнул.
– Маленькие ироды тогда перегрызлись, вот и остались с носом.
Две излюбленные темы: от какой болезни умер Ирод и как Четверть Ирода отбил у брата жену, которая была дочерью их сестры. Все понимают, почему Иродиада ушла от Филиппа Ирода к Ироду Антипе:
– Надеется стать Царицей Иудейской.
– А пока что у нее подрастает дочь, с которой отчим играет в доктора.
Мэрим поминутно спохватывается: где Яшуа? И успокаивается, увидя его. Что он там слушает?
– …В бешеном отчаянии, вероятно, чтобы одну сильную боль отвлечь другою, приказал казнить своего старшего сына. На одре своего нестерпимого недуга, распухнув от болезни и сжигаемый жаждой, покрытый язвами на теле и внутренно палимый медленным огнем, пожираемый заживо могильным тленом, точимый червями, жалкий старик лежал в диком неистовстве, ожидая последнего часа.
Яшуа слушал внимательно. Красноречивый рассказчик с козьей бороденкой часто и мучительно кашлял в рукав и, похоже, описанием Иродовых мук пытался заговорить собственное кровохарканье.
Паломники из Галилеи наводняли деревушки по ту сторону Кедрона. Ночевали среди оливковых плантаций, а дни проводили на Храмовой горе, куда попадали через Овечьи ворота, минуя Бет-Хисду, что по-арамейски значит Дом Жалости. Этот Дом был искусственный водоем, «бреха». Пять крытых его галерей до отказа заполнили паралитики с потухшим взглядом, исходящие пеной припадочные, изъеденные зловонными язвами гноекровные. У иных рука или нога не толще хворостины, другие раздуты наподобие бурдюка. К этому прибавить без числа слепцов, глухонемых, трясунов. Живая кунсткамера, вызывавшая вместо жалости только отвращение.
Время от времени Ангел баламутил стоячую воду ударом крыла – кто тотчас в нее погрузится, будет исцелен от любой болезни. Но кратковременное возмущение это случалось так редко, что ни один из чаявших движения воды не поспевал за Ангелом, даже кто был с краю.
– Ну, где Яшка, опять его ждем, – Яхуда, недовольным голосом. Кто росточком с цыпленка, тот всегда петушится. А Мэрим уже испуганно ищет глазами. Видит: Яшка стоит, склонив голову, сосредоточенный. Какой-то человек простерт навзничь, глаза закрыты, клинышек бородки нацелен в небеса.
Мэрим вспомнила: тот, кто плевался кровью в рукав, расписывал агонию Ирода.
– Узнал? – спросила у Юдьки.
– Morior, – прошептал умирающий свистящим шепотом. Готовясь неведомо куда, он уже перешел на неведомо какое наречие.
– Еврей должен прочитать «Шма Исроэл»[10], – сказал Яхуда и отвернулся, как от собаки.
Как ни брезговали римские чиновники всем, что имело отношение к здешним нравам: обрядам, пище, Храму, тупому упрямству – куда больше им претил тип «нового эллина», носившего римское платье, посылавшего своих детей в риторские школы и гимнасии. «Сик тххханзит», – дразнили их римляне. – «Картавая латынь». Но те только упорней держались своего «эллинства», даже перед лицом смерти.
– А прикоснулся бы к моей одежде, поправился бы, – сказал Яшка.
– Яшуа Га-Нави, солнышко останови[11].
Но он не обращал на Юдьку внимания.
– А ты бросься с крыши Храма, ангелы тебя понесут, если ты Машиах, – не унимался Яхуда. И то слово: связался черт с младенцем.
– Любовь, здоровье и Господа не испытывают, – отвечал Яшуа. – Не рубят сук, на котором сидят по милости Всевышнего, дабы не преткнуться о камень.
«Крылатый талэс, вот что тебе надо, – подумала Мэрим, – дабы не преткнулся о камень». Вспомнила, с какой доверчивостью он слушал и слушал – и не мог наслушаться ее рассказов: «Мати, еще». Тогда он звал ее «мати», а не как какой-нибудь оборванный левит, ходящий из дома в дом с протянутой рукой, – уничижительно: «жéно».
Иконописный лик Мэрим сам собой начинал мироточить. Раз она посетовала, что глаза у нее на мокром месте. А он отвечает: «Древние говорили: девичьи слезы – вода. Я же говорю: миро. Жены своими слезами ноги будут омывать Сыну Божьему, а волосами отирать». – «Яшенька, я тебе сошью огромные воскрылья. Если что, они взамен ангелов подхватят тебя. Спрячешь их под талэсом, ладно?»
Накрыв праздничный стол («шулхан орэх»), Мэрим прилегла со всеми. Реб Ёсл проговаривал пасхальную повесть с детства затверженной бесцветной скороговоркой. Они возлежали, укрывшись большой попоной верблюжьей шерсти, такая при найме жилья давалась на семью: в нисане месяце в горах холодно по ночам.
Мэрим смотрела на Яшуа под убаюкивающее бормотанье:
– Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царю мира, отделивший святое от будничного, свет от тьмы, субботу от других дней недели, Израиль от других народов…
– Н-ну ч-что же ты-ы? – сказал Шимик, наливая в ее чашку. Она позабыла налить ему. В ночь свободных людей нет ни господ, ни слуг, все прислуживают друг другу, таков сейдер.
Младшему вопрошать, и Яшуа как младший за столом спрашивает:
– Чем отличается эта ночь от остальных? Почему взамен хлеба этой ночью мы едим мацу? Почему мы едим не сидя, а возлежим? – и еще много разных «почему».
«Почемучка мой золотой». После вина умиление разошлось по всему телу, до мизинчиков ног. А реб Ёсл бубнил и бубнил:
– Четыре сына: один умный, один нечестивый, один наивный, один не способный задать вопрос.
Она видит, как Яхуда – даром что взрослый – лягнул Яшуа под попоной.
Реб Ёсл продолжает:
– Нечестивый, как он задает вопрос: «Что это за служба у вас?» «У вас», не у него. Его дело сторона. Этим он отрицает неукоснительность соблюдения Закона для себя лично. Притупи ему зубы своим ответом…
– Ты чего дерешься? – спросил Яшуа шепотом.
– Это тебе надо притупить зубы. Ты – нечестивец, против нас всех. Тебе повезло, что у тебя такой тата.
– Ты, Юдька, ревнуешь Отца ко мне. Я не против всех, я за всех – а ты только за себя. «Если не я за себя, то кто за меня» – вот как ты считаешь. Поэтому не учи меня жить.
Она все слышала: ребенок осадил взрослого. И так будет всегда: выбирая между Юдькой и им, люди пойдут за ним. С этой мыслью, уставшая со всех праздничных хлопот, Мэрим повернулась на бочок и проспала всю пасхальную повесть.
Проснулась, когда уже пели «Козлика», по-арамейски: «Хад гадья». Мэрим стала подпевать.
Отец мне козлика купил, две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Недолго жил козленок мой, загрыз его котище злой.Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Почуяв кровь, пес прибежал, котяру злого растерзал,Который козлика задрал.Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Дубинка, не спросясь, кто прав, свершила суд, пса наказавЗа то, что на кота насел, который козлика заел.Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Огонь дотла дубинку сжег, свалившую собаку с ног:Почто, пес, на кота насел, который козлика заел?Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Журча, ворча, ручей притек, залил водой наш огонек,Тот самый, что дубинку сжег, свалившую ту псину с ног:Почто, мол, на кота насел, который козлика заел?Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Пришел вол, выпил ручеек, гасивший яркий огонек,Тот самый, что дубинку сжег, свалившую ту псину с ног:Почто, мол, на кота, насел, который козлика заел?Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Мясник ножом вола рассек, который выпил ручеек,Гасивший яркий огонек, тот самый, что дубинку сжег,Свалившую ту псину с ног: почто, мол, на кота насел,Который козлика заел? Отец мне сам его купил,Две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Подкралась смерть исподтишка, свела в могилу мясника,Что на убой вола обрек, который выпил ручеек,Гасивший яркий огонек, тот самый, что дубинку сжег,Свалившую ту псину с ног: почто, мол, на кота насел,Который козлика заел? Отец мне сам его купил,Две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.Отнимет Бог у смерти меч, спешившей мясника упечь,Что на убой вола обрек, который выпил ручеек,Гасивший яркий огонек, тот самый, что дубинку сжег,Свалившую собаку с ног: почто, пес, на кота насел,Который козлика заел? Отец мне сам его купил,Две целых зузы заплатил.Козлик, козлик.5
Казалось бы, только-только пришли, а уже назад. Клич: все по домам! Назад в Ноцерет, в Капернаум, в Бет-Сайду. Галилейская колония за Кедроном легка на подъем. Двенадцатого под вечер пришли, двадцать пятого с утра ушли.
– Дэр лэбн бар аёр – в будущем году снова, – прощались хозяева с постояльцами, которых знали не первый год.
– «Ебэжэ», как говорится, – и постояльцы шутливо стучали себя по «лобному месту»: галилейское дерево.
Тоскливо возвращаться из Иерусалима «в родные восвояси», в жизнь галилейскую. Не идут больше с пеньем, полные предвкушений. Понуро тащится Сепфорис – Ласточкино Гнездо, вчерашняя столица. Но и нынешней, Тивериаде, до стольного града далеко. Юлиада, Тивериада, Кесария – хоть горшком назови! Суть дела не в названии, а в местоположении. Юг Сирии привести в чувство еще никому не удавалось. Мало радости граничить с Трахонией. Как и править ею. Одного из сыновей Ирода, Филиппа II, явно обделили, то-то он из своего дворца носа не кажет.
Ноцерет, «дярёвня наша» идет-грядет сама собой, «переваливаючись», будням навстречу. Реб Ёсл сдал за эти дни. Куба скоро женится, придется надстраивать этаж. Глядишь, Яшка вообще перестанет бывать дома. Исчезнет на все четыре, как ветер в поле. Что же она будет делать? До сих пор она не беспокоилась о грядущем дне. При малом росте не заглядываешь далеко, нет других опасностей, кроме тех, что прилегают вплотную. Свои страхи ближе к телу. Что бы там ни говорил Куба, Яшенька ее утешает: «Живи сегодняшним днем, предоставь Кубе думать, что будет да как».
А Яков все пугал Яшку: «Что из тебя будет?» А что из него должно быть? Царь Иудейский – что еще?
– У тебя же нет профессии, чем ты будешь семью кормить? Ты должен овладеть ремеслом.
– Греки презирают ремесло.
– Мы не греки, за них все делают рабы, а мы сами себе рабы.
– «Мы не рабы, рабы не мы».
– Кого ты слушаешь? Их вот-вот пересажают. И ты кончишь темницей. Не посмотрят, что ты еще пацан. Это плохо кончится.
– Что – плохо? Что ты знаешь? Дано ли тебе знать, где исход горных потоков? А может, я пророк?
– Пророк из Галилеи? Он делает мне смешно. У тебя в голове такой же ветер, как у твоей мамочки. Я тебе добра желаю.
– Добра? Злейшие враги человеку домашние его.
Бет-Анья – первое селение по дороге на север. Где-то мелькал Яшкин таллит. Но две питы с яйцом и луком, которые она для него берегла, оставались нетронуты. Яшкин таллит, успокоительно маячивший в поле ее зрения, оказался тюком на спине осла, хозяин которого страшно развеселился:
– Что-то новенькое, до сих пор только гои превращались в ослов.
Когда тебе не до шуток, чужие шутки оставляют ссадины.
– Не видали мальчика в полосатенькой рубашечке? На голове шапочка, волосы, ну, такие… худенький, на меня похож… – она кидалась ко всем и, не дожидаясь ответа, бежала дальше.
– Может, он ушел с рыбарями из Капернаума?
Она побежала их догонять.
– Не видали Яшуа из Назарета? Худенький, рубашка в полосочку…
Добрый народ, рыбари ее пожалели, но что они могли ей сказать?
– Нет, женщина, поспрашáй кого другого. Может, кому другому он попался на крючок.
Яков нагнал ее.
– Успокойся. Когда ты его в последний раз видела?
Но она сама сделалась как рыба: рот разевала, а выговорить слова не могла.
– Я не… знаю, когда…
– Ангелов надо поспрашивать, – «посоветовал» Юдька, – что, Машиаха не встречали?
И схлопотал в глаз.
– Маленькая, маленькая, а лупит, как модифицированная катапульта «Вулкан-16», – сказал он, прикладывая к глазу сребреник.
– Ну, че-че-го б-боишься, ме-ме-медведи в го-горах не водя-дя-тся, – сказал Шимик, которого напугал медведь.
Яшка-Ёсий внес свою бесполезную лепту – от скудости своей. Он предложил запечатлеть лик Яшуа и всем показывать: может, кто узнает.
– У меня получится не хуже, чем у греков[12].
– Что с Яшенькой? – спросил реб Ёсл, дремавший в тени ослика. – Куба, где мы?
– В Вифании, тату.
– Уже совсем близко до Иерусалима.
Через час они входили в Овечьи ворота. Знакомая картина: у Бет-Хисды теснились чающие движения воды.
– Разделимся, – сказал Куба, архистратиг этого малого воинства. – А то мы как самаряне ходим всей мишпухой. Ты, Шимик, спускаешься от Маханэ Левит до Эзрат Нашим (от Стана Священников до Женского Подворья). Яшка обходит азару снаружи (Храмовую площадь, обнесенную стеной).
– Как, всю?
– А ты что думал? – сказал Юдька. – Это тебе не дощечки мишками разрисовывать.
– Юдька, – продолжал Куба, – от ворот Никанора идет ему навстречу. А я осмотрю Улам и Кодеш (Залу и Святилище). Мэрим останется с ослом и татой. Встречаемся на этом же месте.
Реб Ёсл никак не мог взять в толк, из-за чего такой сыр-бор.
– Ах, Яшка… – понимающе кивал. Но, быстро расплескав запас понимания, спешил пополнить его снова: – Что за шум, а драки нет?
– Тату, Яшеньку потеряли, – Мэрим давно уже перешла на «тату».
«Больше я его никогда не увижу, – подумала она. – Нет сил терзаться неизвестностью. Где-то же он сейчас есть… Живой, полуживой, бездыханный… Какой уж есть… Какого ни есть вида… Ангелы, выньте мою душу, заверните в нее мои глаза и отнесите на то место. А тело отдайте дяде Захару, пусть возьмет свой жертвенный нож и рассечет этого маленького вола, который выпил ручеек… Козлик, козлик. Что-то же от него осталось, где-то же оно есть? Хоть мертвый. Хоть какой. Согласна потерять живого, но обрести мертвого. Хоть какого».
У Яхуды был антинюх на Яшку. Его гнало в противную сторону и одновременно тянуло лягнуть брата: копыту не прикажешь. Поэтому он отправился на поиски Яшки против своего желания и, разумеется, повстречал его. Яшка принимал участие в семинаре Симеона, мужа праведного, которому было предсказано Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Машиаха. Это был клуб городских сумасшедших. Те собирались в воротах Никанора и под крики лотошников, торговавших выпечкой, толковали дни и ночи напролет Слово Божие – не хуже, чем в школах рабби Тарфона или рабби Элиэзера бен Азарии, величайших в Торе.
Тут была также Анна-Пророчица, дочь Фанýилова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего семь лет, – которая не отходила от Храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Не успел Яшуа рта открыть, она уже стала восклицать «осанна!» и «маран ата!», указывая на него всем прохожим как на Сына Божьего и Избавителя. Многие проходили мимо, но иные останавливались посмотреть.
Яшуа спросил Симеона, мужа праведного:
– Рабби! От любви к Отцу до любви к себе один шаг, а на обратный путь не хватит всей жизни. Научи, как отличить бесстрашие возгордившихся от бесстрашия боголюбивых?
Заплакал Симеон от радости, глядя на Яшуа, и сказал:
– Собрались двое или трое о Господе и спорили: сатана ли искушает бесстрашием, или то Ангел на конце иглы солнечной, чтоб укрепить сынов света в битве с сынами тьмы? И тут они видят детей и спрашивают одного из них, говоря: «Рассуди нас, Дитя Божье, понеже устами твоими глаголет истина. По немощи своей или от избытка сил служит человек Господу?» А младенец им говорит… – Симеон-праведник умолк на полуслове, утирая слезы.
– …А младенец им говорит, – продолжил Яшуа, – если кто подставил и другую щеку ударившему его, что́ это? Если кто воздает добром за злое, что́ это? Если кто дает просящему у него взаймы, не ожидая получить свое назад, что́ это?
– Дурость, – не удержался Яхуда.
Яшуа не обратил головы в его сторону и говорил дальше:
– Как бы ни служил человек Богу, по кротости ли своей или из жестокосердия, но если это по раздельности, то напрасно служение. Муж и жена по раздельности тоже неплоды. Моше рабейну – карающий меч Исхода, а был самым кротким из людей. Но, исполняя Закон, не ведал, что творит. И за это Бог его прощал. С той поры говорится: прости им, Господи, ибо не ведают, что творят.
– Но ты-то ведаешь, что творишь, – перебил его Яхуда. – Врагов своих любишь, а ближних мучаешь. Мы из-за тебя вернулись… Машиах.
И решительно увел Яшуа, подталкивая его в спину.
– Ждите меня, – через плечо крикнул Яшка.
Никто не ожидал, что так быстро удастся отыскать иголку в стоге сена. Страсти поутихли не раньше, чем каждый в сердцах измыслил ему казнь египетскую по своему разумению. Мэрим, исторгнув из своих глаз амфоры драгоценной влаги, покрыла его поцелуями.
– Яшенька! Майн кинд! Что ты сделал с нами? Вот, тата и я с великой скорбью тебя искали.
– Зачем было вам меня искать? Или вы не знаете, что здесь – отчина моя?
– Ничего, Мири, наши внуки отомстят за нас нашим детям, – снисходительно пошутил Куба, но Мэрим не поняла его слов. – Интересно, что ты себе думал? – сказал Куба. – Что вот все уйдут, а ты останешься? Тебе уже тринадцатый год, мог бы быть и поумнее. А если б три дня искали?
– Скажите мне спасибо, – сказал Юдька. – Он всегда там, где я не хочу быть, но куда меня влечет неведомая сила.
К ночи нагнали тех, с кем уходили.
– Ну как, нашли свою заблудшую душу? И где он был?
Всем и каждому приходилось рассказывать, что нашли его, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все слушавшие его дивились разуму и ответам его.
Мэрим было стыдно перед чужими. И неловко было это им показать. Сама же первая бросалась к незнакомым мужчинам, а вернув свое сокровище, неблагодарная, ни с кем не желала делиться своим счастьем.
– И шухеру же ты навел, парень, – сказал один из рыбаков, – мамка твоя тут соляным столбом бегала.
– Как тебя зовут? – спросил Яшуа рыбака. Спросил как ни в чем не бывало, как если б твердой поступью шел по зыбям – такое было у нее чувство.
– А на что тебе… ну, Семен… Семен, сын Ёнин.
– Мы еще встретимся с тобой, Петр.
6
Она многого не понимала, но спрашивала редко. Если обо всем, чего не поняла, спрашивать, тоже в два счета станешь «почемучкой моей золотой». Но сказано же, что «она сохраняла все слова сии в сердце своем». Сколько времени как вернулась, а слова эти не давали ей покоя. Вот и решилась спросить Кубу. Улучила момент, когда никто не слышал.
– А почему нашим детям наши внуки будут мстить? Помнишь, ты тогда сказал?
Нет! Куба не помнит, чтобы он ей что-то подобное говорил.
– Ты сказал, что Яшкин сын будет мстить своему отцу. Ужас какой. Лучше б у него детей не было.
– Я – тебе – это – сказал?! Да тебе приснилось.
– Нет, Куба, не приснилось. Я все сны свои помню. Ты мне это сказал, когда мы Яшеньку нашли: наши внуки отомстят за нас нашим детям.
– Это шутка такая… ну, ты даешь, матерь.
– В этой шутке, Куба, нет ничего смешного. У тебя даже своих детей нет, откуда ты про моих внуков знаешь?
Яков засиделся в женихах. Три года как надел своей нареченной невесте яшмовое колечко на указательный палец: «Через это кольцо будь посвящена мне по Закону Моисея и Израиля». Составили ксиву – свадебный договор, по-еврейски «ктува» – и давай веселиться со всей улицей, праздновавшей Пурим. Было как раз пятнадцатое надара.
И вот только теперь свадьба. На Кубу уже пальцем показывали: хасéй, что ли (так в Галилее называли ессеев)? Он все боялся. А реб Ёсл боялся его – старенький старичок. Мэрим страдает: «Без второго этажа не обойтись, прости-прощай Яшенькина крыша».
Она ошибалась. Во-первых, Куба по примеру своего соименника и праотца Иакова жить будет у жены. Во-вторых, Яшка стал смирным: приходит вовремя, укладывается в доме. Даже в школе отметили: больше не задает вопросов, давиться ответом на которые – единственное, что оставалось учителю. Отошел от подрывной деятельности: если прежде участвовал в кружке по изучению революционного наследия Иуды Гавланита, то с наступлением совершеннолетия ни в чем таком не замечен. В его характеристике говорилось: «Был в повиновении у родителей. Преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у человеков». На языке учительской «преуспеть в возрасте» означало вытянуться, подрасти.
Невеста была из Кфар Каны, с каким-то приданым, старшая дочь в семье. Отец умер. Дядя, весельчак, не проходивший в дверь, был незаменимым чтецом «Мегилы»[13]. Одним духом выпаливал он имена повешенных сыновей Гамана – показывая, что они разом испустили дух. Этот же дядя – по отрадному совпадению его звали Мордке – отвечал за свадебное угощение. Так издревле заведено: угощает сторона невесты.
Говорят: «Дочь своего отца». Почему нельзя сказать о невесте: «Племянница своего дяди» – такая же громадина. «Подумай, Шимик, может, ты ее тогда повстречал, когда шел из Кфар Каны? – спросил Ёська-Яшка. – Только вспомни, и все заиканье назад уйдет».
«Успехами в возрасте» Яшуа обеспечил себе почетное место в свадебной процессии. Больше двух месяцев как ему уже тринадцать: на Хануку впервые вызвали к Торе. У Мэрим, взиравшей на это с хоров, как с небес, по щекам текли реки слез.
Они шли в Кфар Кану с пальмовыми ветками, на головах венки из белых цветов. Кубу ведут под руки – выглядит так, что он уже сдался и не вырывается. Их встречают незамужние подружки невесты с огнями. Прохожие расступаются, давая пройти, кто-то присоединяется.
Реб Ёсл уже не встает, Мэрим при нем. Накануне его доставили на праздничных носилках, увитых лентами – на них будут потом носить невесту.
Приготовления шли полным ходом: стряпали на всю неделю и на всю деревню. Реб Мордке умел погулять. Во чужом пиру бывал председателем, а тут вел собственную калькуляцию: столько-то бяшек, столько-то курей, повозки со свежей рыбой из Геносара, бадейки с медом, мешки орехов и сушеных плодов, мучные сласти, лоснившиеся от масла и плававшие в сиропе. Бесперебойно печется хлеб. Светло-красное саронское вино третьего года хранилось в прохладном месте, позади каменных микв. Но небеса неожиданно для этого времени года оказались скупы на дождь. За столько дней не пролилось ни единой капли, ни одна из шести малых микв не была заполнена водой. Невесте пришлось погружаться в общую микву при источнике, носившем название Кана Галилейская.
Мэрим размечталась. Сперва лелеяла мечту о Яшкиной свадьбе, какой не было у нее – другие женихи, другие нравы. Под фатой у его невесты распущенные волосы. Идут в венцах по улицам во главе большого шествия, сам тетрарх уступает дорогу: «Я каждый день ношу венец, но сегодня их день». Перед ними льют благовония и рассыпают сушеные зерна. Громко читается ксива, Яшенька скрепляет ее собственноручной подписью и передает невесте. Друзья жениха провожают их в занавешенные покои. И – что не укрылось от ее глаз: ему есть чем взрезать горлицу на брачных простынях.
Одна греза сменилась другой: из-под плотно занавешенной хупы выходят Куба с женой. И вдруг кончается вино. Того превосходного светло-красного вина из Лидды, которое так любили пить неразбавленным мудрецы Торы, хватило гостям лишь на первую чашу.
В мерцанье светильников Мэрим видит: на лицах пирующих выражение досады. Что значит! Они не поскупились на подарки! От неожиданности распорядитель пира, возлежавший во главе стола, даже сел. Он вне себя. На реб Мордке больно смотреть: олицетворенное отчаяние. «Как?! Как такое возможно? – говорит его взгляд. – Я же все рассчитал».
Куба со своей Фирой утонули во мраке навсегда. Их позор станет достоянием всей губернии. Слух о нем дойдет до дворца тетрарха.
– А я еще их пропускал, – скажет тот.
Когда подданные презирают своего правителя, правитель платит им той же монетой – отчеканена «в седьмой год Тетрарха Херодоса» из какого-то дрянного металла… «Слышала? – спросит он Иродиаду – жену, племянницу и невестку в одном лице. – В Кане нашей галилейской на свадебном пиру вино кончилось. Анекдот. Войдет в анналы. А каково будет их детям? Хоть в Египет беги».



