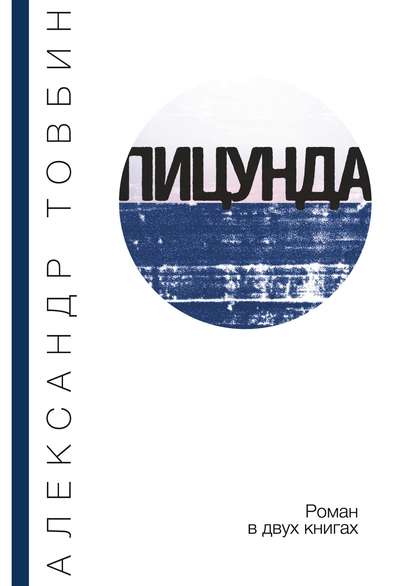Полная версия
Музыка в подтаявшем льду
Подступала тошнота.
После захватывавшей дух невской панорамы, странно было плыть сквозь многоликое месиво! Сгущённый трепет мозаики ли, калейдоскопа… Качались, покачивая плот, дробясь-срастаясь, фронтоны, аттики, нахлобученные на тёплый розовато-серый гранит; на мгновение в зловонном небе, впритык к канализационному стоку вспыхнуло и погасло золото купола, воцарилась сумятица бликов, волнистых линий, отражавшая сомнения водной амальгамы, но разгладил морщины, растянулся, как роспись на полотне, жёлто-белый, с острым углом, ампирный дом. Захватывая всё шире русло, торжественно-мёртвый дом оттеснял плот к противоположному берегу, спихивал в заоблачную пучину, где колыхались мрачноватые, с блёстками стёкол стены… карнизы прочерчивали чугунное литьё ограды. Плот ударило о гранит набережной, плеснули противно брызги. Соснин задрал запоздало голову. Кренился призрачный треножник фонаря на Зелёном мосту – высоко-высоко, в зените. Что-то кричали, свистели оплавленные солнцем силуэты мальчишек, повисших на мостовых перилах, один из силуэтов запустил спичечным коробком; с тех пор память не устаёт проявлять этот снимок контражуром.
Упала и сразу – отстала гулкая темнота.
Выплыли из тёмной, будто затянутой болотной ряской заводи Строгановского особняка, опять заскользили по густой – припорошенной тополиным пухом – листве, взрыхлившей за Красным мостом большеоконную фабрику, сомкнутые фасады – сквозь листву мерцали пилястрочки, сандрики; лепные узоры дрожали, разрывались, заплывали цветистой мутью, волшебно возрождались из слияния красок, резко-резко – кто наводил на фокус? – прорисовываясь напоследок у кромки плота, грубо обрезавшего едва завершённую, совершенную и, спустя мгновение, слизанную картину.
Всадник-император в кокетливом римском шлеме вместе со вздыбленным скакуном кувырнулись покорно в воду, опять тень, Синий мост. И – обрыв зрелища, обморочно-долгий, гибельный; монотонный пещерный мрак, пробное инобытие, пусть с манившим, еле-еле выраставшим впереди сегментом света.
Наконец, зыбкий слепящий блеск заставил зажмуриться… приоткрывал, закрывал глаза… плот скользил – Бызов орудовал доской, как палицей – по руинам Юсуповского дворца, по останкам большого красного трамвая, на этот раз медленно, словно нехотя, сползавшего с Поцелуева моста; Соснин запоздало сообразил: проплывали под балконом деда…доски, ноги в воде… плот тонул?
И уходил в ил Валеркин шест, валились в небо обшарпанные катера, одуванчики, шумные, обминаемые ветром лохматые тополя, и – чудо-арка.
Заманивала посмотреть на неё и сквозь неё с другой стороны, но… кое-как причалили.
Не услышали свистков, ругани матросского патруля.
На них, вымокших, грязных, облепленных тополиным пухом, испытующе глядела из толщи вод Атлантида.
банныетомленияиутехи(каждый раз выбирая между роскошью и уютом)
– Немедленно отправляйся… какая вонь… куда вляпался? Где тебя угораздило? – разорялась мать, – у людей дети как дети…
Поблизости было две бани.
Одна, со скорбной оцепенелой очередью в длинном, с поворотами коридоре, по пятницам и субботам не уступавшей очереди в Мавзолей, считалась чуть ли не роскошной. Каким-то мрачноватым величием подавляли маленького Соснина её гулкие и казавшиеся бескрайними полутёмные мыльные под потными сводами, замазанные грязно-жёлтой масляной краской высокие окна, старые, расколотые трещинами серо-мраморные скамьи на кривых, чёрных, из трубчатого железа, ножках, вокруг которых выбитые красно-коричневые метлахские плитки заменялись бугристыми цементными нашлёпками, – этакой роскошью Соснин невольно наделил и термы Каракаллы, когда услыхал о них на уроке древней истории; баня располагалась на углу Малой Московской и Достоевского в уродливом, грузном доме, неряшливо облицованном снаружи, на первом и втором этажах, – для облегчения опознания? – банным болотным кафелем.
Вторую баню, ту, что в Щербаковом переулке, полагали уютной.
Соснин предпочитал посещать её за компанию с Шанским и Бызовым, которые жили неподалёку; Валерка Бухтин в банных омовениях не нуждался, в отдельной профессорской квартире была ванная с дровяной колонкой.
Какой уют обещала Щербаковская баня?
Хорошенький, слов нет, уют!
Очередь ломалась на узкой лестнице с облупившейся тускло-зелёной панелью – поднималась до третьего этажа; продвигались толчками, многие стояли со своими тазами, вениками. Мимо очереди, протискиваясь, изредка спускались распаренные счастливцы… изредка особым хлопком хлопала дверь с пружиной на вожделенной верхней площадке, насупленный лысоватый банщик в обвислом чёрном халате, расстёгнутом на волосатой груди, хрипло выкрикивал – шестеро! Или – семеро!… Очередь ненадолго воодушевлялась новым толчком, зато банщик с сомнением свешивался за перила, шмыгал носом и сокрушённо покачивал головой, похожей на редьку.
Банщиков этой бани отличал страшноватый вид, их нездоровые, с узкими лбами и плохими зубами физиономии жрецов жестокого культа не могли не отпугивать – помятые, серые, они будто б давно не мылись, хотя заправляли мойдодыровым царством воды и мыла; через часа полтора-два после начала банной эпопеи удавалось проникнуть… найти свободный шкафчик. Соснин быстро раздевался, рядышком, развалясь на полотенцах и добродушно, даже ласково матерясь, голые, разморённые гедонисты с картинно прилипшими к розовым телесам берёзовыми листьями баловались пенившимся пивком – тёплые бутылки «Мартовского» или «Рижского» и перевёрнутые вверх дном гранёные стаканы соблазнительно поблескивали на протёртой клеёнке столика у поста бригадира банщиков, того самого, лысоватого, клыкастого, чьи верховные выкрики медленно, слишком уж медленно, но всё-таки верно подталкивали очередь к цели; с ним расплачивались, добавляя на чай, за пиво.
Из маленькой двери в мыльную, словно из ураганной ночи, вырывались клубы пара, шумы низвергавшихся с небес водопадов.
И железные тазы гремели, клацали – воспроизводили убойные сшибки рыцарского турнира?
Отец с матерью шептались об убийстве Михоэлса, – свежими подробностями огорошил Соркин – а Соснин машинально думал: не возникало ли ощущение уюта при выходе? Под нижним маршем банной лестницы, вплотную к крохотной фанерной кабинке мозольного оператора, приткнулся киоск с полукруглой дыркой в мутном стекле, за дыркой торчала оцинкованная полочка с тарелкой мокрой мелочи и вялым фонтанчиком для ополаскивания большущих кружек – краснолицая нечёсаная толстуха в грязно-белой спецовке, не понятно как помещавшаяся в киоске, сыпала солёными шуточками и бойко торговала пивными дрожжами, клюквенным морсом.
доипослезлободневнойзагадки,шуткирадизагаданнойследователемЛитьевым
Как-то, развалясь на полотенце, распаренный Литьев баловался пивком под грудной вокал Ольги Нестеровой – бригадир банщиков и тот расчувствовался, прибавил громкость, чтобы перешибить поскрипывания шкафных створок и гнусный гул; Литьев благосклонно кивнул Соснину, потянулся к бутылке, расщедрился угостить мальца-соседа, пусть и еврейчика, пенным хмельным напитком, но рука повисла картинно в воздухе, вроде бы детям пиво не… тут ураган вытолкнул из мыльной Олега Доброчестнова. Атлетичный Олег – бело-розовый, рослый и полноватый – стоял в лужице на чёрном рифлёном коврике, аккуратно отряхивал берёзовый веник. Литьев подозвал, налил… Олег был старше, выглядел вполне взрослым; словно приз получил за данный накануне традиционный весенний концерт – спел с матраса про искромсанного китайца, говночиста-американца, приросший к окну Соснин жаждал проливающего свет продолжения, дабы уяснить посягательства на наши земли опозоренного самурая, Святого Микадо, посягательства на то, чем они, самурай и Микадо, и без того владели.
О, май беби… – забасил вытеснивший из эфира Ольгу Нестерову Поль Робсон.
Назавтра после банного кивка у Литьева ожидались гости, он взял отгул и утром в отличном расположении духа занял очередь в уборную.
Теребя льняные кудри, озорно поблескивая выпуклыми стеклянно-голубыми зрачками, Литьев балагурил с норовившими поскорее прошмыгнуть мимо, но подчёркнуто приветливыми соседями, сдавливал плечо Соснина цепкими пальцами и спрашивал, чуть опуская голову, заглядывая в глаза – скажи-ка, Илюшка, в какой футбольной команде сразу три еврея играют в полузащите?
Загадку, конечно, слёту отгадал Толька Шанский… Но не такой простой она была, эта загадка, её ухмылка была адресована знатокам, по тренерским канонам послевоенных лет в полузащиту ставили двоих, только двоих…
Подвижная крикливая толпа на динамовской «Вороньей горе», крутой стоячей трибуне за воротами, громко охала, когда отбивал мяч красной лысиной Борис Левин-Коган, которого завсегдатаи «Вороньей горы» любовно звали дважды евреем Советского Союза… а в паре с «дважды евреем» играл Лазарь Кравец, задастый, неутомимый.
Левин-Коган после навеса Кравеца лысиной сбрасывал мяч назад, на вратаря. Лёха Иванов – в мышином свитере и надвинутой по брови кепке – почему-то плевал на перчатки и стоптанной бутсой мощно выбивал свободный, мяч подцеплял Фрида Марютин, юркий, маленький правый крайний, и кучерявый матершинник Чучелов грозно требовал пас, мазал, и контратаковали Парамонов, Ильин, но под ноги им в потной ожесточённости бросались Пшеничный, Тылло… – пять сухих «Спартаку» вкатили, спасибо Венякову, одарил входными билетами на исторический матч! Отираясь промокшими футболками, грязные счастливые победители долго стояли в окружении болельщиков – продлевали праздник.
Взревел унитаз.
Уборную – гордо, выпятив грудь – покидала Раиса Исааковна. Смутилась, сообразив, что заставила терпеть следователя.
чтоещёслучилосьвечеромтогосамогоотгульногодня
Литьевские гости жестоко подрались.
Соснин посмотрел «Тарзана», отпирал замок. Квартира сперва показалась вымершей, однако в коридоре за далёким тёмным коленом послышались возня и пыхтение, глухие звуки мясистых ударов, грубая ругань. Соснин наощупь подкрадывался вдоль уступчатой стены к своей двери: сейчас пахнёт кондитерскими специями с Дусиной вешалки, потом… но вспыхнул, как если бы специально выделялась кульминация пьесы, свет над суетливо взлетавшими кулаками; Фильшин не испугался включить чужую лампочку, с сузившимися до щёлок глазами, захрипев от злобы, метнулся растаскивать матерившихся буянов. Раздался истерический визг, затрещала порванная материя. Звонко привалившись к висевшему на гвозде цинковому корыту, пьяненькая плосколицая, с мятым жирно-карминным ртом плакальщица в воздушном цветастом платье жаловалась кому-то, тяжело, прерывисто дышавшему из угла, – скоты, скоты… И всхлипывала, громко глотала слёзы – как, как, Витенька, больно? Носовым платком промокала Литьеву разбитую губу, на прогнившие доски капала кровь. С чертыханьями кровавые пятна долго отмывала, подоткнув подол и по-крабьи – бочком, бочком – передвигаясь за полным тёмным тазом помоев на четвереньках, голоногая грузчица Дуся, бедняжке не повезло, Литьевская вечеринка с мордобоем по закону подлости выпала на её очередь мыть полы.
Соснин на цыпочках намеревался незаметно проскользнуть мимо, но побитый растрёпанный Литьев поднял замутнённые пьяной обидой зрачки, икнул. Прежде ангельски-разудалый Литьев, которого с молчаливым почтением побаивалось всё взрослое население квартиры, не выглядел таким жалким; Соснин не пожалел, в приливе злорадства подумал: и поделом ему.
неожиданноевидение
Тем вечером, но ещё по пути в кино, перейдя Стремянную, на Владимирском, Соснин задержался у витрины. За прилавком, заваленным цветистыми рулонами, прохаживалась толстая блондинка в синем халате. А привиделся в глубине тускло освещённого магазина дед – взмахи рук, феерические взлёты материи…
фатальностьпринудительно-добровольныхмук
Натюрмортные драпировки из разных по фактурам тканей одинаково не давались – металлический блеск на жёстких складках тафты предательски замутнялся, бархат, матовый и мягкий, впитывающий свет, хотя при этом сочный, густо-зелёный – выцветал… Промывая кисточку, беспомощно следил за высыханием акварели.
И преподавательница спешила на выручку. Академическая ассистентка Рылова, она знала толк в живописной технике: пригладив пухлой ладошкой седоватые, строго расчёсанные на прямой пробор, сцепленные на затылке большим скруглённым гребнем волосы, одёрнув тёмную свободную блузу, какие носили художники и художницы на рубеже веков, Мария Болеславовна заботливо придавливала ласковой тяжёлой рукой остро торчавшее вверх худое плечо – писал скособочившись, одно плечо выше другого – Илюша, возьми чистый цвет, не смешивай, что попало, вспомни, получается грязь, если смешивать все краски спектра.
Как не смешивать? Он искал цвет, а краски издевались над ним! Закрыв глаза, видел ярким – блещущим ли, матовым, но ярким – предмет, который писал, но на бумаге… Выцветали не только драпировки; изумрудный блеск на шее селезня, даже румянец на щёчках восковых яблок – всё жухло, умирало. Соснин с тоскою, завистью мысленно всматривался в пышную цветоносность букетно-фруктовой марки, словно смаковал алую арбузную сладость: у других художников получалось, не у него.
– Илюшка, не мучайся, – утешал потом, смеясь, Шанский, – ты натюрморт, то бишь мёртвую натуру, творишь, как подлинный реалист не желаешь ничего приукрашивать, лакировать… А что? – пускался во все тяжкие Шанский, – серьёзная живопись, мечтая о вечности, воспринимает текущую действительность в качестве потенциального трупа, это самый дальновидный тип художественного восприятия.
– Теперь вспомним лето! – восклицала Мария Болеславовна, чтобы прекратить затянувшиеся мучения. И хлопала в ладоши, вздрагивали полноватые щёки, – по памяти пишем солнце, воду, деревья! И начиналась новая – какая по счёту? – серия творческих мук: как передать морской блеск, свечение далёкой голубизны? Соснин мечтал превзойти безликого небесного соперника, ведавшего неуловимыми светоцветовыми превращениями горы-хамелеона… Рядом с Сосниным старательно мазал кисточкой по листку плотной альбомной бумаги, изображал берег финского залива Сёмка Файервассер, маленький, тихий, удивлявший, однако, болезненным чувством справедливости и внезапными выплесками беспричинного смеха. И смело смешивала синее с зелёным на глади окружённого лесом озера юная, небесной красы звонкоголосая болтушка с французской фамилией, её прозвали Миледи. У Семёна и Миледи, видел Соснин, тоже ничегошеньки не получалось, акварель высыхала: пейзажи, ярко жившие у них в памяти, на бумаге тускнели, умирали… Но соседи-живописцы ничуть не мучились.
В окне запылала пожарная машина.
Следить буду строго, мне сверху видно всё, ты так и знай – пионеров за стенкой продолжали пичкать славной историей создания «Небесного тихохода».
Из ворот пожарного депо высунулся, бликуя, ещё один алый капот.
– Следующее занятие в зоологическом музее, – объявила Мария Болеславовна… Соснин собирался докончить рисунок пушистенького козлёнка, предвкушал пробежку мимо львов, ланей, жирафов к деревянной лестнице, к витринам под высокими окнами, смотревшими на Неву, – в витринах спали, гордо расправив огромные крылья, тропические пепельно-рыжие, оранжево-жёлтые, лазурно-бирюзовые бабочки.
возвращаясьдомой
Хвост самосвалов тянулся вдоль Военно-Морской Медицинской Академии; один за другим сбрасывали грунт в Введенский канал.
К вокзалу подкатывали такси.
Шёл по Загородному, меланхолично считал встречные и обгонявшие троллейбусы.
Верхушки фасадов ещё освещало солнце.
Решил подняться по чёрной лестнице – Дуся мыла полы, могла обложить, если бы зашлёпал по непросохшим доскам. В прошлый раз разоралась – я вам не артель напрасный труд, совесть имейте, я вам не артель…
Завернул во двор.
К сумеречной арке шаркающей походкой приближался Мирон Изральевич, у него поздно кончался рабочий день… сейчас – высокий, сутулый, в стареньком расстёгнутом пыльнике – поплетётся к угловому гастроному, потом с безвольно болтающейся авоськой – к себе, на Свечной.
однажды(на углу Большой Московской и Свечного)
Вспыхнуло тёплым светом окошко в цокольном этаже, на обоях качнулась знакомая носатая тень.
Мирон Изральевич, встревоженный, на миг прижался к стеклу, словно хотел поймать нескромный взгляд Соснина, растворённого в уличной темноте, но не поймал, торопливо задёрнул штору.
Так ничего интересного и не увидел тогда Соснин.
всёещёводворе
– Ты за луну или за солнце? – прокричал на бегу… Взмывал в небо, достигая солнечных лучей, мяч. После дневных трудов присела полузгать семечки Уля – аккуратно сплёвывала в большой железный совок. Копались в немецком велосипеде «Диамант» два подростка, опасливо озирая Вовку и его шайку, которая хищно роилась вблизи помойки; там же Вила-Виола в байковом халате и тёплом, завязанном на шее платке, выбивала коврик – бедолага не подозревала, что спустя минуту-другую, когда спустится в свою узкую комнатку с цементным полом, вчерашними объедками на кухонном шкафчике и батареей пустых бутылок, её убьёт, ударив по голове обухом топора, пьяный сожитель… Приревновал? За неделю до убийства Вилы-Виолы Соснин заметил в окне её заглублённого притона Шишку на табуретке – отстёгнутая тележка каталась в ногах пьяненькой Вилы, силившейся пододвинуть гостю глубокую тарелку с винегретом. Шишка, этот обрубок, вдруг жадно схватил Вилу сильными коричневыми ручищами за воротник халата, притянул и, круто повернувшись, с дикой свирепостью швырнул на грязно-полосатый, в ржавых пятнах матрац – подскочили расценки утильсырья и железную кровать сдали в металлолом, пропили, кое-как отремонтированный матрац, на котором прежде концертировал по весне Олег, теперь служил ложем в будуаре Вилы-Виолы – так вот, Шишка швырнул на голый матрац Вилу-Виолу, хищно, с обезьяньей ловкостью свалился на неё, оттолкнувшись задом от табуретки, словно свалился на упавшего в рукопашном бою противника, и в напряжённой жаркой торопливости заворочался, как если бы всё его обрубленное тело одолела чесотка, но почесаться никак не мог, нечем – руки были заняты, срывали с барахтавшейся Вилы халат, и Шишка запыхтел, запыхтел, и Вила тоже запыхтела, заколыхалась, вроде бы отбиваясь, хотя одной рукой крепко обхватила насильника за спину, прижимала, а ладонью другой руки шарила по обоям, чтобы погасить свет, наконец, нащупала выключатель; Соснин выбросил мусор, шёл к чёрной лестнице с пустым ведром, из тёмного приоткрытого оконца догоняли отчаянное – бедняга задыхался? – пыхтение Шишки, замирающие Вилины всхлипы; под Шишкой она страдала не так громко, не так жалобно, как Ася, когда её терзал Литьев.
Тёмную ему, тёмную! – командовал Вовка; кого-то будут избивать за поленницами… Соснина тоже накрывали с головой вонючей курткой, колотили, колотили; задыхаясь, отбивался руками и ногами, но поражал пустоту…
Вдруг с улицы позвал условный разбойный свист – в булыжном центре Большой Московской, у круга чугунных тюбингов, кучковалась, как обычно, околорыночная шпана. Вовка протяжно свистнул в ответ, окутывая свист какими-то неземными, пронзительно-дрожавшими обертонами, им могла бы позавидовать сама Има Сумок. И вихрем дворовая стая… на лету сбили с ног управдома; Соснин оглянулся: плеснули складчатые полы пыльника, нелепо зависло тощее тело прежде, чем упасть на растрескавшийся асфальт… Мирон Изральевич поднимался, отряхивался… старательно протирал уцелевшие очки; почему терпеливо сносил издевательства и обиды?
Решётку на окошке кабинета Мирона Изральевича тронула ржавчина, меловые буквы, стрелка на цоколе были свежими.
вернувшисьдомой
– Форменное побоище учинили гости Виктора Всеволодовича, – шёпотом негодовала Раиса Исааковна, – бедняжке Дусеньке второй раз ни за что ни про что отмывать досталось, и мою дверь кровью заляпали, еле отмыла. Серьёзные, ответственные товарищи, но если бы Фильшин Иван Никифорович, спасибо ему, не разнял…
Мать молча закивала, вздохнула.
– Дусенька конфетами угощала, – Раиса Исааковна протянула кулёк, – на этот раз не «Грильяж», слишком уж «Грильяж» твёрдый, зубы поломать можно.
Мать, заглядывая в кулёк, поблагодарила.
– Илюша, ты из рисовального кружка? – искала повод продлить беседу Раиса Исааковна, – где твой кружок, далеко?
– На углу Рузовской и…
– А-а-а, – заулыбалась Раиса Исааковна, – Рузовская, Можайская, Верейская… Разве можно верить пустым словам балерины, да, Риточка?
Мать кивнула, насыпала песку в сахарницу.
Раиса Исааковна продолжала мечтательно улыбаться… на одной из тех улочек, на Верейской, жил в юности её муж, поблизости, на Подольской, было когда-то парфюмерное производство, где…
Раздались истошные крики. Кинулись, толкаясь, к окну: дворничиха Уля выла, рвала на себе волосы – Вилу-Виолу, бездыханную, с проломленным черепом, вытаскивали из подвала… Лягавые, лягавые! – заорал, выбегая из подворотни Вовка, за ним, словно лягавые на улице дожидались убийства, въехала во двор видавшая виды «Эмка» уголовного розыска. Двое вывели по лестничке из подвала, подталкивая в спину, безымянного сожителя Вилы, пьяного в стельку, он, однако, победно объяснял торчавшим из окон головам мотивы расправы: заслужила, старая б… заслужила, старая б…
Когда поняли, что стряслось, Раиса Исааковна сказала: а днём безногого нищего из их компании задавили, предводителя с синей опухшей рожей, на колёсиках, Шишкой звали… Сначала его старушки у Владимирского собора милостыню выпрашивали, потом он с ними и другими своими побирушками перед родильным домом ошивался, напротив рынка, выписки дожидались, чтобы у счастливых отцов облегчить карманы. Попозже шла из обувной мастерской по Кузнечному от Марата, на углу Достоевского, там, где товары к рынку подвозят, из фургона выгружали мясные туши. Шишка хотел проскользнуть под кузовом на тележке, но фургон подал назад…
– Не только Шишка, все в том подвале опухли и посинели, ужас… чуть что, сразу за топор… – брезгливо передёрнулась мать, – безумно волнуюсь, Илюша мимо их подвала с мусорным ведром ходит.
– Как не посинеть?! Денатурат глушат! – со знанием дела вращала тёмно-карими глазищами Раиса Исааковна, – на производстве со своими пьянчугами воюю, под конец года или квартала мозги набекрень, надо план гнать, прогрессивка горит огнём, а они лыка не вяжут… Но наши-то субчики из подвальной оравы – гопники, каких на Лиговке не сыскать, до убийства допились…
– Не орава у них, притон. Форменный притон, – убирала со стола мать, – раньше хоть милиция за ними присматривала…
– Нового участкового никак не назначат – шумно всосала чай Раиса Исааковна; не иначе как её держали в курсе кадровых милицейских передвижений.
– А старый где?
– Не слышали?! Лейтенанта-Вальки не стало! Был исполнительный, расторопный, – скорбела Раиса Исааковна.
– Что за Валька? Кто это?
– Забыли, Риточка? Наш участковый.
– И что с ним?
– Повесился! Молодой, приветливый парень и… Бабушка вернулась из магазина, а он в петле, бабушка – в обморок и не очнулась, когда соседи спохватились…
– Из-за чего повесился? – невежливо перебил Соснин.
– Говорят, несчастная любовь.
Мать быстро подошла к репродуктору, прибавила громкость – Женечкин вальс играют, сжимается сердце.
однажды
(на углу Большой Московской и Малой Московской)
Соснин и не пытался бороться с дурной привычкой, заглядывал в чужие окна – любопытство перешибало чувство неловкости.
Удивительно ли, что тусклым вечерком, незадолго до всех этих смертельных исходов, засмотрелся в подвальное окошко со сдвинутой занавеской, где, как в кинокадре, восседал на собственной железной кровати Шишка? Низко свисала голая загаженная мухами лампочка… хм, восседавшего… устрашающий обрубок на сером байковом одеяле, опухший посинелый обрубок в тельняшке…
Как на кровать взбирался? Кто-нибудь помогал?
Шишку окружали сокровища, – одеяло было завалено смятыми купюрами, серебром, медяками, – Шишка привычно и ловко сортировал дневную добычу, вырастали две бумажных кучки и…
Сбоку, из-за складок марлевой занавески в кадр протянулась рука с початой бутылкой водки; на три четверти наполнился гранёный стакан.
Шишка залпом выпил.
А вот компаньон-помощник целиком, в милицейском кителе!
Участковый Валька деловито рассовал по карманам деньги из причитавшейся ему кучки, попрощался с Шишкой.
пора, пора
– Серёжа, может быть, отвезёшь нас, столько вещей… – приступая к ежевечерней пилке, мать не очень-то надеялась на успех. Собирались в обратную дорогу, а отец оставался: больных детей в санаториях лечили круглогодично. Отец появлялся в Ленинграде всего два-три раза за зиму – мог нагрянуть на конференцию ортопедов, которую под улыбающимся в усы портретом помпезно, с графинами на кумачовом столе президиума, проводил Соркин, или же на Новый год, в короткий, короче школьных каникул, отпуск… Хотя – напомним – мысленно и в отпуске не покидал своих пациентов, подъём сил и бодрость он исключительно обретал во врачебных заботах, когда один оставался в осенне-зимнем Крыму, проводив, наконец, семейство.