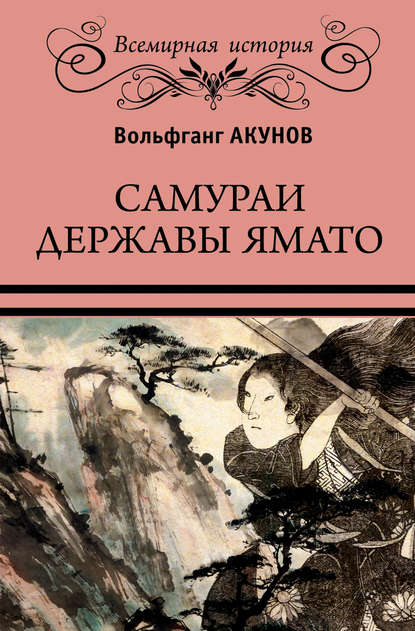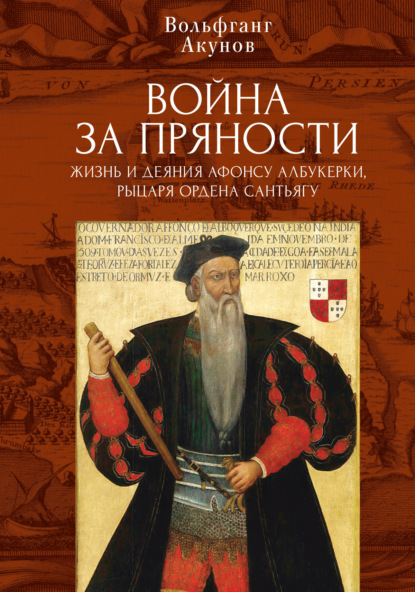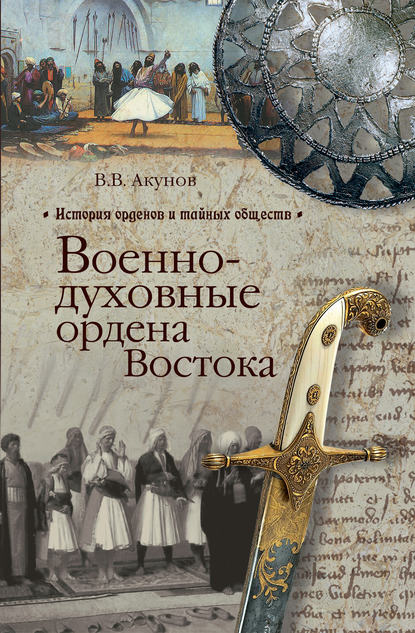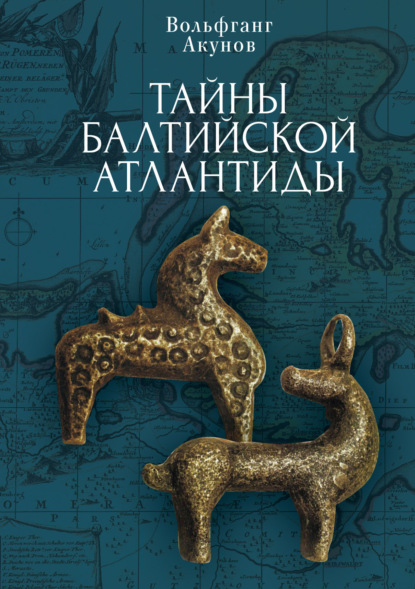
Полная версия
Тайны Балтийской Атлантиды

Вольфганг Акунов
Тайны Балтийской Атлантиды
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© В. В. Акунов, 2022
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022
* * *Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма
Под редакцией действительного члена
Академии военных наук, профессора
Александра Шаравина
Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям.
Константин Ушинский.
«Слепая лошадь»
Раз в сто лет, среди ночи, город Винета во всем своем великолепии восстает из вод морских и ровно час высится над землей.
Сельма Лагерлёф.
«Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями»
У венетов Балтийского моря был свой город Венета, который находился на отмелях, неподалеку от теперешнего города Штеттина – древнего славянского Щетина.
Виктор Шкловский.
«Марко Поло»

Константин Дмитриевич Ушинский
Посвящаю этот скромный труд друзьям детства – моим дорогим одноклассникам

Зачин
Читать я научился четырех лет от роду, и потому мне уже в раннем детстве дарили книги. Одной из самых любимых моих книг был сборник русских литературных сказок под названием «Лукоморье». Из содержавшейся в этом, зачитанном мной буквально до дыр, сборнике, сказки Константина Дмитриевича Ушинского «Слепая лошадь» я впервые узнал о существовании в далеком прошлом на морском берегу славянского торгового города под названием Винета, в котором жил богатый купец по имени Уседом, или Ведом, имевший верного коня по имени Догони Ветер…
А уже в школьном возрасте мы с моими закадычными друзьями-одноклассниками Андреем Баталовым и Александром Шавердяном зачитывались стихотворным «поморским сказанием» графа Алексея Константиновича Толстого «Боривой» о жестоких схватках на море и на суше балтийских славян[1] с воинственными «донями»-данами-датчанами епископа Эрика, Свена – сына Нилса – и викинга Кнута, устремившими бег своих «морских коней»-драккаров «к башням города Волына».

Граф Алексей Константинович Толстой
Впоследствии мой третий закадычный школьный друг Виктор Милитарев подарил мне книгу Виктора Борисовича Шкловского «Земли разведчик» об удивительной жизни великого венецианского землепроходца (и, должно быть – папского и/или тамплиерского шпиона-соглядатая, о чем автор настоящего правдивого повествования, конечно же, тогда и не подозревал) Марко Поло. С самых первых строк этой книги я был буквально заворожен тем, что писал маститый автор о Венете и о ее основателях – таинственных венетах. Писал же он следующее:
«Имя Венеции происходит от имени народа – венетов. Народ этот очень древний.
Когда венеты, заселявшие восточную часть Адриатического побережья, исчезли, растворились в многонациональном населении Римской империи, в Европе оставались еще другие венеты – на берегу Балтики. И уже тогда, больше двух тысяч лет назад, ученые спорили: в родстве ли между собой венеты адриатические и венеты балтийские?
У венетов Балтийского моря был свой город Венета (так у Виктора Шкловского – В. А.), который находился на отмелях, неподалеку от теперешнего города Штеттина – древнего славянского Щетина.
Венеты Балтийского моря были славянами.
Греческий географ Страбон, живший в начале нашей эры, положительно считает венетов севера и венетов Адриатического моря одним и тем же народом.
Вообще венетами, вендами (так же как антами) называли в древности славян их южные и западные соседи[2] (…) Связь балтийских венетов с адриатическими не доказана. С побережья Адриатики венеты исчезли уже в глубокой древности; их культура влилась в культуру Римской империи, их язык поглощен был латынью. Венетская культура первоначально была не слабее римской. Об этом рассказывают гробницы и надписи венетов, обнаруженные при раскопках близ города Эсте. Автор «Истории Рима» Моммзен утверждает, что после поражения римлян при Аллии Капитолий спасли не легендарные гуси, но искусные и храбрые венетские воины. Знаменитый римский историк Тит Ливий происходил из венетского города Падуи. Быт старой Венеции порожден обычаями и бытом венетов».
С тех пор чарующие и загадочные слова «Винета», «Уседом», «Волын» навек запечатлелись в памяти и в сердце автора настоящей книги…
Легенды о Балтийской Атлантиде[3]
Зададимся же теперь вопросом, уважаемый читатель: могла ли существовать на Балтике своя, не упомянутая в знаменитых диалогах Платона «Тимей» и «Критий», северная, Атлантида? Отвечу сразу, без обиняков – да, могла! И не только могла существовать, но и действительно существовала! Подобно водам Атлантического океана, воды Балтийского моря также скрывают в своих глубинах Атлантиду, правда, не прославившуюся в тысячелетиях таким совершенным государственным строем, могуществом, богатством и размерами, но, тем не менее, во многом родственную и разделившей судьбу той, впервые упомянутой еще Платоном, Атлантиды, что якобы потонула в результате чудовищного катаклизма в «Море Мрака», дав ему его позднейшее и сохранившееся вплоть до наших дней название – «Атлантический океан». Судьба же эта представляется во многом поучительной и нам, людям начала XXI столетия, пусть даже обходящимся с деньгами не столь расточительно и пользующимся хлебом для «подчистки» (а попросту говоря – подтирки) собственных детей в редчайших случаях (скорее же всего – не пользующимся им в этих целях никогда):

Гибель Атлантиды (глазами современного художника)
«Говорят, на северном побережье острова Узедом[4] (вот он откуда, Уседом-Вседом из «Слепой лошади» Константина Дмитриевича Ушинского! – В. А.) много, много лет тому назад стоял большой торговый город под названием Винета или же Венедиг (немецкое название «царицы Адриатики» Венеции – В. А.), отличавшийся большим богатством. Рассказчики обычно говорят, что город этот стоял между побережьем моря и горой Штрекельберг, в том месте, где сейчас находится так называемый Винетариф (Винетский риф – В. А.). Говорят, что в пору своего расцвета город Винета был таким богатым и красивым, что не имел себе равных на всем побережье Северного и Балтийского моря. Дома, в которых жили горожане, были подобны маленьким дворцам. Они были построены из мрамора, их крыши – украшены позолоченными зубцами и шпилями. В винетской гавани стояли на якоре сотни кораблей, плававшие до Архангела (русского Архангельска – В. А.) и Константинополя. В городе постоянно находились иноземные купцы, продававшие заморские товары и покупавшие товары местные. Но чем богаче и состоятельнее становились жители Винеты, тем больше проникались они гордыней и надменностью, безбожием и всяческим нечестием. Они питались только самыми изысканными кушаньями, пили дорогие вина только из серебряных и золотых сосудов, затмевавших своей красотой и роскошью церковную утварь. Да и копыта своих лошадей они подковывали не железом, а серебром и даже золотом. Хлеб – этот лучший из Божьих даров – их жены оскверняли самым бесстыдным образом, подчищая им своих маленьких детей. Дети же их во всем подражали взрослым. Шарики, которыми дети играли на улице, были из чистого серебра, при игре в «блинчики»[5] они использовали вместо камешков, прыгающих по поверхности воды, не что иное, как звонкие талеры (серебряные монеты – В. А.). Но подобные спесь и гордыня не могли остаться безнаказанными. Как-то ненастной ноябрьской ночью над нечестивым городом и над его безбожными жителями внезапно свершился грозный суд Божий; обрушившийся на него с моря ужасный потоп, смыл своими волнами город, погребая все дома и всех людей под своими потоками, и ни один из жителей Винеты не избегнул скорой и внезапной гибели. Так всего за несколько часов был уничтожен богатый город со всей его красой и всем его великолепием».

Остров Узедом в первой половине XVII века
Далее Альфред Гааз (или, в современном написании, Хааз), чьи «Померанские (Поморские – В. А.) сказания», вышедшие в 1912 году в Берлине[6], мы цитировали выше, утверждает, что развалины Винеты и очертания столь оживленных в свое время улиц города до сих пор различимы на дне моря (правда, только в ясную погоду). И что раз в год погибший город, в виде расплывчатого силуэта или миража, имеющего неопределенные очертания, даже появляется над поверхностью моря (причем днем, а не среди ночи, как в сказочной повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф о путешествии уменьшенного обиженным им гномом до крошечных размеров мальчугана Нильса Хольгерсона с дикими гусями). «И тогда люди в окрестных селах говорят[7] Винета вафельт! («Винета мерещится!»)» А в полдень Иванова дня – 24 июня – якобы даже можно услышать звон винетских золотых (как и все в этом сказочно богатом городе) колоколов. Слышать их звон, впрочем, далеко не безопасно. «Ибо говорят, что того, кто хоть раз услышал звон колоколов Винеты, будет тянуть в глубины моря с непреодолимой силой, до тех пор, пока он и сам не упокоится навеки на дне морском».
В иных сказаниях сохранились даже описания очевидцев – например, бедного мальчика-пастушка, увидевшего как-то утром на Пасху на берегу рыбацкого поселка Козеров, как богатый город с золотыми маковками (говоря по-нашему, по-русски) выплыл на свет Божий из морской пучины. Храбрый мальчик не побоялся войти в высокие, богато украшенные городские ворота и прошел по улицам с алебастровыми постройками с разноцветными стеклянными окнами и золотыми черепичными крышами до самого городского рынка. На рынке хранящие молчание купцы расстилали на прилавках перед ним блестящие шелка и шитую золотом парчу, их шустрые, но столь же молчаливые приказчики разворачивали рулоны тончайших кружев и пестрых восточных ковров. При виде всей этой сказочной роскоши бедный пастушок мог только беспомощно развести своими пустыми руками, и тогда один из купцов с мрачным выражением лица показал ему медную монету. Пастушок долго шарил попусту в карманах своей бедной одежонки, хоть и знал, что ищет понапрасну – ведь у него не было ни гроша. Все смотрели на него печально и разочарованно. Понурив голову, он пустился в обратный путь по улицам немого города, вышел за ворота, возвращаясь на берег к своим овцам. Когда же он оглянулся назад, то не увидел за собою ничего, кроме озаренного яркими солнечными лучами моря. Что же до древнего, сказочно-красивого города, с его роскошью и блеском, то он, опять ушел на дно морское – так же бесшумно и беззвучно, как незадолго перед тем вынырнул из балтийских вод.
Старшие поведали пастушку, рассказавшему им о случившемся с ним, почему молчаливые винетские купцы были так огорчены отсутствием у него «презренного металла». Будь у мальчугана хоть грош, чтобы предложить его в уплату за предложенный товар, греховный град Винета был бы им избавлен от тяготевшего над ним древнего проклятия, выйдя, со своими обитателями, снова из поглотившей его морской пучины на свет Божий. Очень поэтичное сказание и в то же время – поучительная притча, характеризующая реалии померанской археологии в далеком прошлом…
Наряду с упомянутой выше опасностью быть утянутыми на дно морское звоном колоколов зачарованного города, всех энтузиастов, пожелавших разгадать загадку этой «Атлантиды Балтики», подстерегают и опасности иного рода. Сказание о Винете – произведение фольклора, народного творчества, изначально – устного, и лишь впоследствии записанного на пергамене или бумаге, а, следовательно, не точное и детальное отражение реальности, но лишь слабый отблеск обстоятельств и событий имевших (или не имевших) место в действительности. Вопреки всем утверждениям энтузиастов-дилетантов охотно ссылающихся на пример такого же энтузиаста-дилетанта Генриха Шлимана, умудрившегося, вопреки насмешкам скептиков, откопать руины легендарной Трои лишь благодаря своей слепой вере в точность и подлинность всего, описанного Гомером в «Илиаде», подобные легендарные источники не следует принимать безоговорочно на веру. Гомеровская (а не реальная) Троя, платоновская Атлантида, как и золотые маковки Винеты, не были (и вряд ли будут) найдены в том виде, в каком они дошли до нас в сказаниях. Являющихся свидетельствами фантастического мироощущения наших пращуров, их представлений о мире, но ни в коей мере не совершенно надежными путевыми указателями, и уж тем более – не достоверными источниками исторических знаний. Хотя это ни в коей мере не исключает наличия в них «зернышка исторической правды», добраться до которого всегда хочется попытаться, снимая наслоения времен, очищая его от налипшей за столетия, если не дольше, «шелухи».

Затонувшая Винета (глазами современного художника)
Так, вероятнее всего, упоминание Венедига-Венеции в приведенной нами выше редакции легенды о Винете, связано не только и не столько со склонностью ее рассказчика (или, вернее, пересказчика) к романтике, сколько со знанием им исторических процессов. Ведь, как известно, в свое время часть территории, простирающейся между областями расселения германцев и славян, была заселена племенами, принадлежащими (вопреки мнению Виктора Борисовича Шкловского – человека весьма необычной судьбы, богатой разного рода драматическими событиями, и причудливой, словно полет летучей мыши, одного из любимых писателей нашего детства – и современных ему ученых, на которых он ссылается) к иллирийской[8] языковой семье – так называемыми венетами. Названия областей или городов вроде Венетия или Венеция суть часть языкового наследия этих иллирийских племен (фигурирующих в сочинениях Страбона, Тита Ливия и других античных авторов), название которых было лишь впоследствии, после переселения венетов из Прибалтики на юг, к теплому Внутреннему морю (именуемому нами Средиземным), перенесено германцами на своих славянских соседей, занявших области, освободившиеся после ухода венетов. Память о характерном этнониме – «венеты» – оказалась, таким образом, сохраненной в старонемецком названии «винды» или «венды», данном немцами поморским и полабским (то есть жившим на реке Лабе, или по-немецки – Эльбе) славянским племенам, а также южным славянам – словенцам[9]. И потому не удивительно, что, по созвучию названий, венетов стали считать основателями Винеты. Так, скажем, зарабатывавший пером себе на хлеб при дворе герцога Померании-Вольгаста[10] канцелярист Томас Канцов (или Кантцов), писал в XVI веке (как, впрочем, многие другие до и после него):
«И в ту пору оные венеды построили город Винету в Померании, о котором так много пишут, и чьи фундамент и развалины зданий сохранились по сей день, именуемые местными крестьянами «малой Венедией», о чем я дальше расскажу подробней».
Пышность и блеск мраморных дворцов Винеты послужил поводом к сочинению множества песен, опер, сказок, стихотворений, рассказов и киносценариев, вдохновляя таких первоклассных мастеров изящной словесности, как скажем, Гердер или Гейне. В сказочной повести Сельмы Лагерлёф крошка Нильс Хольгерсон (возрастом не старше пастушка, сумевшего, волей судеб, проникнуть ненадолго в затонувший город) пролетает над ними на старом аисте Эрменрихе (носящем, по странной прихоти писательницы, имя грозного некогда царя могущественных готов, переселившихся некогда из Скандинавии в Прибалтику, чтобы мигрировать оттуда все дальше на Юг и Восток, и почитаемых шведами в числе своих предков).
Как ученые мужи, так и болтливые шарлатаны всех мастей в равной степени ощущали на себе притяжение этого таинственного «города в лоне вод», описанного немецким поэтом-романтиком Вильгельмом Мюллером в стихотворении (положенном на музыку куда более известным за пределами Германии Иоганнесом Брамсом) остававшееся долгое время неудовлетворенным, а частично – все еще остающееся таковым стремление к ней, погрузившейся в лоно вод, чьи развалины остались под водой, чьи крыши отбрасывают золотые блики на зеркало морской глади, так что рыбак, увидевший это волшебное мерцание, хотя бы раз, в светлых лучах вечерней зари, снова и снова приплывает на это зачарованное место, хотя ему угрожают опасные скалы…
Аналогичным образом, кстати говоря, обстояло дело и с автором настоящей книги, сталкивавшимся чаще с опасными скалами, чем с прекрасными вечерними зорями. Хотя автору не впервой пускаться в литературное плавание, в поисках Винеты ему приходилось не раз сбиваться с курса, оказываясь слишком доверчивым к содержанию того или иного источника. В одном из них, опубликованном в свое время в старинном немецком университетском городе Йене, в котором довелось учиться автору этих строк, к примеру, утверждается, что «Бурислаф», то есть – согласно «История Оркад, Дании и Йомсбурга», изданной на немецком языке в 1924 году[11] – польский король Болеслав Храбрый[12] —, поручил разбойничавшему дотоле (и весьма успешно!) на Британских островах – в Уэльсе, Шотландии и Ирландии, лихому викингу-норманну[13] Пальнатоки, воевавшему с англосаксами и кельтами[14], построить ему на «Вендском побережье» крепость. Эта удивительная история входит в цикл сказаний, сложившихся вокруг легенды о Винете, ибо указанная крепость – Йомсборг (или, по-немецки, Йомсбург) – согласно многим скандинавским сагам, располагалась в окрестностях легендарной Винеты:

Варяг на коне (художник О. Федоров, консультант С. Каинов)
«Конунг (король – В. А.) решил послать людей, чтобы те нашли Пальнатоки и пригласили его к нему и сказали, что конунг будет ему другом. Конунг добавил к приглашению, что предлагает ему землю под названием Йом в его стране и обеспечит его поселение там, а за это Пальнатоки будет защищать свою округу и всю страну. Пальнатоки принял предложение и поселился там со своими людьми. Вскоре там был построен большой, хорошо укрепленный град. Часть города находилась на мысу и окружена была морем. Там была гавань, где могло разместиться триста шестьдесят длинных ладей (военных «длинных кораблей» – «лангскипов», или «драккаров», о которых будет еще подробнее сказано на дальнейших страницах нашего правдивого повествования – В. А.), да так, что все они находились бы под прикрытием городских укреплений (то есть крепостные стены Йомсборга опоясывали гавань наподобие кольца, напоминая этим порт Посейдониса-Посейдониды, столицы платоновской Атлантиды – В. А.). Все там было устроено так хитро, что вход в гавань перекрывала большая каменная арка. На входе в бухту были установлены железные ворота, которые запирались изнутри. На вершине арки стояла башня, в которой были установлены камнеметы (метательные машины-катапульты, или «аппараты», как их называли древние греки – В. А.). Город звался Йомсборг». («История Оркад, Дании и Йомсбурга». Туле. Древние нордические сказания и поэмы. Серия 2, том 19. Йена, 1924 год).

Главная гавань Атлантиды (по Платону)
Согласно «Истории Оркад…», Болеслав Храбрый, привлекший на свою службу и шведского короля Эрика, отдав ему, если верить церковному историку Адаму Бременскому (о котором у нас еще пойдет речь далее), в жены свою дочь или сестру, правил с 992 по 1025 год. В этот период меченосцы-славяне Болеслава и меченосцы-германцы Эрика объединенными силами воевали с германцами-датчанами, и призвание германцев-викингов лихого Пальнатоки славянским, польским князем Болеславом, описанное выше, вероятно, произошло именно в ходе этих событий. Правда, согласно «Саге о йомсвикингах» (датируемой рубежом XII–XIII столетий), Бурицлейв («Бурислаф» упомянутой выше немецкой «Хроники Оркад…») сделал это из страха перед воинственным Пальнатоки: «В то время конунгом Вендланда («Страны вендов» – В. А.) был Бурицлейв. Он слышал о Пальнатоки и был обеспокоен его набегами, а Пальнатоки неизменно побеждал, и считалось, что он никому не уступит», но вряд ли стоит слишком доверять подобным апологетическим произведениям художественной прозы. Во-первых, саги записывались, чаще всего, по прошествии очень долгого времени после описанных в них, имеющих значение для нашего правдивого повествования, событий, в Скандинавии или в Исландии. Во-вторых, их вполне реалистичный «второй план» нередко совершенно затмевается выдвинутым на «первый план» совершенно необходимым с точки зрения тогдашнего общества, стремлением прославить нордических князей и королей, с целью обоснования их претензий на власть.
В отличие от процитированной нами выше немецкой «Истории Оркад, Дании и Йомсбурга», в примечании к русскому переводу «Саги о йомсвикингах» (йомсвикингами именовались члены основанного в Йомсборге военно-пиратского братства вроде позднейшей Запорожской Сечи с аналогичными порядками – вплоть до запрета на проживание женщин) призвавший к себе на службу викинга-головореза Пальнатоки «Бурицлейв» отождествляется не с польским государем Болеславом I Храбрым, а с совсем другим историческим деятелем: «Имеется в виду один из князей поморских славян «вендов». На дочери славянского князя Мстивоя Тове был женат Харальд Синезубый (король Дании и Норвегии – В. А.). Возможно, Мстивой и Бурицлейв (Бурислав?) происходили из одного княжеского рода. Во время конфликта с сыном Свейном (Свеном – В. А.) Харальд Синезубый скрывался в земле вендов.».
Кроме того, Йомсборг упоминается, под названием Гьюмсбург или Хьюмсбург (Hyumsburgh), хронистом Свеном Аггесоном (около 1185 года). В «Круге земном» («Хеймскрингле») средневекового исландского политика, историка и скальда Снорри Стурлусона (около 1220 года) упоминается область «Йом». В «Фагрискиннасаге» (около 1230 года) и в «Книтлингасаге» (около 1260 года) упоминается крепость или замок, получившие свое название от этой области.

Викинги в морском походе

Берег Волина в наши дни
Впоследствии не раз высказывалось предположение, что не встречающееся в немецких сказаниях и древних хрониках название «Йомсбург» или «Йомсборг» могло быть скандинавским названием портового города Юмны или Юмнеты, вокруг которого со временем сложилось сказание о затонувшей балтийской Винете (чья печальная судьба, возможно, ожидает и ее адриатическую «почти тезку» Венецию). Что представляется автору этих строк вполне возможным. Не случайно в примечании к русскому переводу «Саги о йомс-викингах» в данной связи говорится следующее: «Йомсборг – судя по саге – (не столько исторически реальный, сколько легендарно В. А.) идеальный город викингов, однако, возможно, прототипом этого легендарного локуса[15] является город Волин, упоминаемый в хрониках как Юмне (Юмнета). Исторический Волин (вот он – град «Волын» из столь любимого нами с Андреем Баталовым и Александром Шавердяном в школьные годы «поморского сказания» графа Алексея Константиновича Толстого! – В. А.), по данным археологии, представлял собой крупное торгово-ремесленное поселение («вик»), населенное славянами, скандинавами и балтами. Первые укрепления сооружены в IX в., в середине X в. возводятся новые укрепления, к этому же времени относится и крупный могильник».
Аналогичным образом средневековый немецкий Штеттин (поморский Щетин, современный польский Щецин) в скандинавских хрониках именовался на «нордический» (северогерманский) лад «Бурстаборг», Каммин (современный польский Камень-Поморский) – «Стейнборг» и т. д. Далее уважаемый читатель сможет убедиться в том, что высказанное автором настоящей книги «смелое» предположение очень недалеко от истины. Пока же автор осмеливается обратить его внимание на три неоднократно высказывавшиеся возражения против попыток отождествления «Йомсборга» и «Юмне». Во-первых: Юмне-Юмнета была, вне всякого сомнения, славянским поселением, не находившимся под полной властью викингов-норманнов (или, по-нашему, по-русски, говоря – варягов). Во-вторых: как мог Йомсборг, многократно описанный в сагах, как пристанище пиратов, одновременно быть оживленным морским торговым портом? И, наконец, в-третьих: Юмне-Юмнета, судя по всему, располагалась на значительном удалении от берега, что опять-таки противоречит широко распространенным представлениям о ней, как о гнезде морских разбойников, высматривавших себе, так сказать, плавучую добычу, обозревая с его башен ширь балтийских вод…