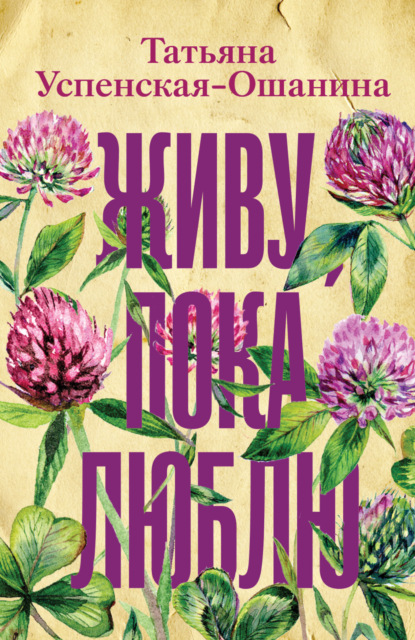
Полная версия
Живу, пока люблю
Ровно тридцать лет назад кончилась жизнь его души. Он продолжал жить механически, как живёт робот. Жил, не останавливаясь на привалах. Спал, чтобы сбросить усталость, чтобы восстановить силы для следующей рабочей ночи. Спал без сновидений и воспоминаний, без ощущений. Срабатывал наркоз, словно его душа оказалась замороженной.
Впервые за тридцать лет – остановка, привал, койка безделья. Кончился бег, кончилась гонка за деньгами.
Авария сломала механизм, и нет запасных частей.
А может быть, авария задала урок – не хотел сам остановиться в своём беге, вот тебе – остановись, задумайся, загляни в Прошлое: что ты сделал не так, почему твоя жизнь покатилась от тебя прочь?
Авария нейтрализовала наркоз, растопила заморозку, порушила запруду, и первой – разведчиком Прошлого – хлынула боль. Плеснула огнём в мозг – лица, голоса.
Защититься! Он попытался приподнять руки – растереть грудь, растереть голову, укрыть глаза. Но руки, пудовые, чужие, лежали неподвижно поверх одеяла, и он не владел ими.
Он не хочет «задуматься». Он не хочет никакого урока, он не хочет остановки. Не надо Прошлого! Собрал всю свою волю – сейчас он возведёт щит, закроет от себя Прошлое, запретит картинкам мелькать перед ним, остановит летящие на него события! Но Прошлое, уже неподвластное ему, шарахнуло его в центр себя: смотри, это твоя жизнь, это твой путь, твои люди – плоть твоя, кровь твоя. Твой выбор.
Он плывёт всё дальше от берега. Солнце только встаёт. И он плывёт к нему по его, солнечной, дорожке. Разлетаются по воздуху лучи, слепят. И глаза Елены слепят ему навстречу. Вот сейчас, сейчас он подплывёт к Елене.
Сестра подносила судно, делала уколы, протирала лицо… он не спал и не бодрствовал, он встретился с самим собой – шестнадцати-девятнадцатилетним и с теми, кто был с ним в то время.
Из-за полиомиелита ходить ему всегда было трудно, но ребята внимания не обращали на то, что он хромает, он – равный им! Круг определился сразу – Илька, Мишка, Елена, Зоя. Илька, знакомясь, сказал: «Имя – Илья, родители зовут “Илька”, назвали так, потому что, когда я родился, у них дома жил илька – пушной зверёк, родственный кунице». Илька и есть пушной зверёк.
Я
Мы учились в девятом классе. Как-то поздней осенью на пустыре, на котором играли в футбол, шпана зарезала мальчишку. Его нашли утром. И мы решили: всё, со шпаной надо драться. А я бегать не мог. Зато руки у меня были сильные – одним ударом мог сбить человека с ног.
Вот мы и дрались отчаянно. И Мишка с Илькой всегда были рядом со мной.
Что за учителя у нас были?
Петрович создал эту нашу школу, физико-математическую, с литературным уклоном. Пригласил в школу блестящих преподавателей. Не все они изначально были учителями. Якобсон – переводчик, историк, поэт… Рудольф Карлович Бега (в просторечии – Рудик) – талантливый инженер, пришёл к нам из лаборатории научно-исследовательского института. Объясняя новый материал, умел так подвести нас к нему, найти такие слова и детали, что мы ощущали, будто сами открываем новый закон… Наши учителя прямо в профессию, в науку нас вводили.
Круковская преподавала химию. Петрович не смог избавиться от неё, как избавился от других не подходивших новой школе учителей, случайно попавших к детям. Круковская ненавидела всех, кто выделялся из общей массы. Кроме того, она была ярой антисемиткой. Учились у нас Ганзбург и Гинзбург, так на каждом уроке она доводила их. Любила ставить им двойки. Ильку ненавидела за его жажду спорить обо всём, что вызывало в нём сомнение, и поставила ему двойку в выпускном классе – очень хотела, чтобы он не поступил в институт и загремел в армию.
Ещё до Илькиной двойки отправились мы как-то к Петровичу и спросили его: «Александр Петрович, почему Круковская в школе? Давайте по-простому: мы считаем, что она – сволочь и полный подлец». Он ответил: «Так уж устроена жизнь, часто приходится соприкасаться с разными людьми, и надо учиться общаться со всеми».
В туалетах Берлина, Парижа, самых разных городов Америки, на здании ООН писали наши выпускники: «Крука – сука».
Круковская вместе с Макеевым сильно способствовали разгрому школы – писали доносы!
При чём тут Круковская? При чём тут мальчик, которого убила шпана?
Он не знает.
Но его Прошлое – тут, самые больные моменты его.
Опять снежная вьюга…
Опять он несёт Елену на руках.
«Ну что, ну что? – растерянно спрашивает он потустороннюю силу. – Что ты хочешь от меня? Зачем бросаешь в пургу? Не надо!»
Хорошо, не надо пурги. Вот тебе твоя Елена до пурги. Тебе предоставляется возможность увидеть ту её жизнь, в которой ты не участвовал.
У Елены – единственная подруга.
Зоя в походы не ходит, на гитаре не играет. Она увлекается математикой и целые дни сидит над своими задачами и формулами.
Вместе с Еленой они учились с первого класса. Сначала в обычной школе. А потом перешли в их Вторую – физико-математическую, с литературным уклоном. Жили в соседних домах. А потому всегда общий путь на уроки и домой. Общая парта, а в старших классах – один стол на двоих. После занятий не расставались: шли в Третьяковку, в Пушкинский музей. Вместе в Ленинград ездили к Товстоногову в театр, походить по Эрмитажу. За одиннадцать лет не надоели друг другу.
А когда окончили школу и поступили в разные институты, в первые дни искали друг друга глазами на лекциях и в перерывах.
Зоя отличалась одним свойством – было очень трудно оторвать её от того, что она делала в данную минуту. В школьные годы Елена вытягивала её из задач, чтобы начать читать, из книг, чтобы пойти погулять… Как пластинки, меняла Зоины занятия.
Оставшись без Елены, Зоя буквально с головой рухнула в математику. Забыв о еде, не обращая внимания на сосущий, требующий к себе внимания желудок, после лекций сидела в библиотеке. У неё дома была прекрасная комната, приготовленная мамой еда, но до дома нужно доехать, а совершить этот переход из одного физического состояния в другое для неё проблема. Однажды с ней случился голодный обморок, прямо в библиотеке. Решая задачу, она потеряла сознание – головой ткнулась в учебник. Это длилось, может быть, секунду. Пришла в себя и продолжала решать задачу.
Прекратила это Зоино издевательство над собой та же Елена. Однажды она наконец разыскала Зою в библиотеке и устроила ей скандал: «Твоя мать позвонила мне и плачет. Ты не ешь сутками, назад приносишь в сумке бутерброды и яблоки, едва доползаешь до постели в двенадцать ночи, утром не можешь подняться. Назначаю тебе свидание каждый день в шестнадцать ноль-ноль у тебя дома. Мы обедаем, а потом занимаемся. Но в удобных условиях обитания. Но… после еды!»
Елена тоже занималась много, но она легко тасовала занятия, и, казалось, всё ей даётся без напряжения.
К парням, ожидавшим её перед университетом и провожавшим до Зоиного дома, Елена была равнодушна. Но поговорить с ними, умными, образованными людьми, любила: о книжке, купленной у букиниста, о спектакле на Таганке, о Высоцком, плёнки с песнями которого передавались из рук в руки, о новой выставке. Кто во что горазд, каждый спешил обратить Еленино внимание на что-то для него интересное. Но как толпой доведут её до Зои ребята, так толпой и двинутся к метро, чтобы ехать по домам. Ждать Елену нечего, она иной раз и заночует у Зои. Дома родители ссорятся, младший брат не выключает до ночи телевизор, а у Зои своя, большая, тихая комната. Остаётся Елена ночевать порой и потому, что к Зое может зайти Тарас.
Тарас учился с ними в одном классе. Дружил лишь с Петром, светловолосым, высоким, молчаливым парнем. Сидел с ним на последней парте. На всех уроках Тарас громко комментировал сказанное ребятами или учителем. Его низкий, чуть насмешливый голос – камертон урока. Без него нет острого вкуса урока, приправы к уроку, изюминки урока. Как стихи Бродского или песни Высоцкого, дразнившие властителей мира сего, нарушавшие их покой, так и этот голос стал и для учителей, и для ребят той раздражающей силой, которой хочешь овладеть, к которой притягиваешься, как к магниту.
Елена не смотрела на него осоловевшим взглядом и не ждала приглашения на танец, наоборот, завидев, что он, чуть вразвалочку, идёт к их парте или к ним с Зоей на вечере, бежала прочь.
Тарас садился рядом с Зоей на Еленино место, и начинался тихий разговор, не вязавшийся никак с самой сутью громогласного Тараса. О чём они с Зоей говорили? Издалека, украдкой Елена всматривалась в их лица, но оба сидели, склонив головы или повернувшись друг к другу, и что-то прочитать было невозможно.
Издалека, украдкой… А ночью, лишь только она закрывала глаза, Тарас приходил к ней в гости, садился к ней на постель. Смотрел на неё насмешливо. И плескалась голубая вода в ручье её детства, в которой она болтала ногами.
Тарас любит воду. Вместе с Петром и двумя соседями по даче два года строили яхту. И, как только сошёл снег в прошлую весну и растаял лёд на Московском море, они поплыли. Трепетал парус, Тарас, раскинув руки, смотрел на слепящую воду, а в распахнутую куртку забивался ветер раннего мая и обжигал грудь.
Тарас никогда не застёгивал куртку, ни зимой, ни летом. В любой мороз нараспашку. Может быть, из-за этого всегда чуть похрипывал, как Высоцкий.
О том, первом дне на воде Тарас рассказывал в классе, по обыкновению громогласно и насмешливо, словно издеваясь над самим собой, над своей слабостью и сентиментальностью. «Ветер надул парус, яхта плывёт, брызги жгут, солнце светит, – говорил он простыми словами, – и к чёрту век, уроки». Он не сказал: «Это – жизнь, её главный смысл», ежу понятно: всё остальное – мура!
Теперь ей, под сопение брата в соседней комнате, повторяет Тарас: «Ветер надул парус, яхта плывёт, брызги жгут, солнце светит». Ей одной – его лицо, его слова. «Трусишь или пойдёшь со мной в море?»
И она оказывается с ним на палубе. Его светлые волосы треплет ветер. Куртка распахнута. Глаза – брызги неба, брызги воды.
Так и засыпает рядом с Тарасом – в солнце и в брызгах, под его голос: «Ветер надул парус, яхта плывёт…»
Он приходит к Зое между девятью и десятью.
Поступил Тарас в физтех. Ездить ему туда приходится далеко, через всю Москву, да ещё на электричке. После занятий библиотека. Тарас привык быть отличником. Грызёт гранит науки.
Зоя спешит на его звонок. И тишина затыкает уши. Елена мотает головой – выбросить пробки её. Но все звуки исчезают в тот миг, когда Тарас видит Зою. Мгновение останавливается. Даже холодильник выключается в паузу. Даже электрический счётчик перестаёт отсчитывать растраты энергии.
Тихий, входит Тарас следом за Зоей в Зоину комнату. Но вот он видит Елену. Мгновение, и тут же ехидная улыбочка, и насмешливый голос: «Биологам от физиков – физкульт-привет». Не успевает она ухватить, углядеть, поймать то выражение лица, которое он нёс на лице следом за Зоей. «Все виды животных открыла? Не подкинуть тебе новый? Водится в лесопарке института…»
– Стоп, – тихая Зоина просьба, и Тарас обрывает фразу на бегу и беспомощно смотрит на Зою.
– Ну, я пошёл готовиться к семинару и спать, – говорит он скучным голосом. – В шесть утра надо собрать части и выволочь их на просторы нашей Родины, в ледяные улицы и в подземное царство.
Зоя никогда не говорит с ней о Тарасе. Табу.
И она никогда не говорит с Зоей о Тарасе.
И, в общем, зря она застревает у Зои до десяти, зря остаётся ночевать. Надо уматывать отсюда в восемь. Торчит на виду, как флагшток без флага посреди пространства.
Зойка-то не попросит слинять.
Вот завтра… точка… в девять ноль-ноль.
Но «завтра» в восемь ноль-ноль Елена вытягивает ухо к двери – с этой отметины, с восьми ноль-ноль, может раздаться звонок – и усаживается прочнее.
Это ей, ей – беспомощность в его лице. Ей.
«Разве я вредная? – спрашивает себя сердито Елена. – Я ведь не вредная». И она встаёт и идёт к двери. Может, встретит его по дороге к метро?
Но в этот день и в следующий по дороге к метро она не встречает Тараса. Приходил он к Зое или не приходил?
5Теперь и Евгению нужно было решать своё будущее. Он подал документы в университет. Сдал экзамены хорошо.
Я
Не приняли в университет на мехмат, хотя получил проходной балл, потому что с полиомиелитом на мехмат нельзя, а я скрыл, что у меня полиомиелит, принёс поддельную справку. Родители Ильки оба физики, отец – всемирно известный, оба ходили выяснять ситуацию, ругались, требовали сделать исключение – предоставить мне возможность учиться. Начальство осталось непреклонным. Попробовал сунуться в физтех, туда, где Зоин Тарас. Там тоже быстро выяснили, что справка (форма 286) – поддельна, что я – невоеннообязанный, с военной кафедрой создались проблемы, и в физтех меня тоже не приняли.
Экзамены я сдавал легко, любые. Шёл и совершенно спокойно получал свои пятёрки и проходной балл, причём часто плохо понимал, о чём идёт речь, главное – знать словарь предмета. Но, успешно сдав экзамены в два лучших вуза Москвы и не поступив, я уже не мог успеть поступить в третий на дневной. А мама очень хотела диплома, мне было перед ней неудобно, и я, чтобы не терять год, отправился на вечерний факультет Энергетического института, на теплофизику. И там проучился два семестра.
Одновременно стал работать в Министерстве обороны, где тогда всё ещё работал мой отец.
Это было хорошее время.
Много времени я проводил в тире (тайком от отца) – стрелял из пистолета. Научился стрелять лёжа, сидя, не глядя, через зеркало, освоил все трюки, которые можно придумать.
А ещё я читал философские книги (там была хорошая библиотека).
Как-то попалась мне работа Владимира Соловьёва об Антихристе. Помню, прочёл её за ночь, принёс Мишке. Очень долго с Мишкой обсуждали её.
С Мишкой здорово разговаривать. Он в основном любит слушать, сидит молчит. Лишь иногда что-то спрашивает. А если уж скажет что-нибудь, то такое, над чем будешь думать. Читал он немного, а на все вопросы жизни у него было своё, оригинальное, мнение.
Так вот, Соловьёва я всего прочёл за тот год в министерстве. Очень он меня взбудоражил. Например, «Оправдание добра».
Но пришло лето, и мама стала требовать, чтобы я поступал на дневной факультет. А я не хотел. Из-за этого мы с мамой спорили. Для того чтобы избежать споров, я стал много времени проводить у Мишки. Его мать кормила нас очень вкусными огурцами и помидорами, я их в жизни не забуду.
Как и в школе, в тот год мы часто ходили в походы – с Илькой и с Мишкой. Уходили в пятницу. Иногда застревали до понедельника, и на работу я часто попадал во вторник.
В конце июня мама опять стала просить: «Иди нормально учиться, на дневной». Мама так жалобно на меня смотрела, что я наконец сдался.
Сначала по дурости снова сунулся в физтех, правда, на другой факультет. Но меня там быстро вычислили. А тут Мишка и предложил: «Иди к нам». Он уже год отучился в авиационном. И я решил: «Пойду туда, маме нужен диплом, а там Мишка». Я и сдал экзамены. В авиационном я был отличником, мне платили повышенную стипендию. Правда, только на первом курсе.
Появились новые приятели. Лёха Свиридов, например. Друг Мишки. Хороший человек. Страшно мне нравился. С Лёхой всё время спорили. Читал он много. И хорошо умел думать. Имел свой взгляд на жизнь. Если вспомнить, о чём мы спорили, аж страшно. О добре и зле. Можно ли говорить о морали, нравственности, о добре во время войны? Что считать добром? Предать, донести – нравственно или безнравственно? Ведь для всего можно придумать вполне хорошее оправдание. Например: «Не убий». Почему же во время войны можно убить?
Вообще-то, если честно, мы вовсе не для того спорили, чтобы что-то умное сказать, все наши разговоры сводились к тому, чтобы найти себя.
Очень многие тогда увлекались Хемингуэем.
Мне ближе был Ремарк, чем Хемингуэй. То, что Хемингуэй писал, мне нравилось или не нравилось, а вот тип человека, который за этим стоял, совсем не нравился. Показного уйма, а это коробит. Конечно, грань трудно определить, но мне тогда казалось: многое Хемингуэй делает не потому, что хочет это делать, а потому, что хочет показать, что он делает. Причём сам себе он часто противоречит в той теории, которая у него получилась в «Прощай, оружие!» – в разное время, в зависимости от ситуации, его герой, один и тот же, высказывает разные идеи. Может быть, я был дурак. Но мне даже перечитывать Хемингуэя почему-то никогда не хотелось, вот так с восемнадцати-девятнадцати лет я и не перечитывал его.
Мишка не любил читать, а тогда влюбился в Грина, мною же философия жизни Грина воспринималась как наивная.
Если послушать те наши споры сейчас, станет ясно: ничего умного в них не было, несли ахинею, я-то точно нёс полную чушь. Теперь даже трудно представить себе, о чём можно было орать до хрипоты, бродя по лесу двое, трое суток, с тяжёлыми рюкзаками. Особенно часто спорили с Илькой. Он возбуждался, и, казалось, вся его судьба зависит от того, чьё будет последнее слово, кто победит.
Гораздо позже я понял: когда начинается спор, невозможно дойти ни до какой истины, и взял себе за правило не спорить. Понял: есть споры, а есть беседы. Беседа – другое дело. Когда люди делятся тем, что они прочитали, что продумали – это интересно. А спор: ты – дурак, нет, ты – дурак, это полный идиотизм.
– Ты получше себя чувствуешь?
Как попала Тамиша в лес, почему она рядом с Лёхой Свиридовым, Мишей и Илькой? У неё тоже рюкзак.
– Ты где? Ты слышишь меня? Мы сейчас едем делать тебе тест. Ты не волнуйся, больно не будет. Нам нужно исследовать тебя всего – по сегментам. Мне кое-что не нравится.
Голос Тамиши плывёт облаками, звенит ветром, проскваживает сквозняком, гасит лампочки Прошлого. А с ними тает и острая боль.
– Я тебе принесла из дома индюшку, вернёмся, поешь. И вот сок принесла.
Он не хочет есть. Он не хочет сока. Ему восемнадцать-девятнадцать. Он только что шёл по стерне поля и орал песни вместе с ребятами. Он только что сдавал сессию – листал потрёпанный толстый учебник.
Его везут куда-то под ливень Тамишиных слов: о сыновьях-близнятах, о сломанном велосипеде, из-за которого они дерутся, о футболе и бассейне… Его засовывают в трубу, и голос Тамишин вползает следом, чуть приглушённый:
– Дыши спокойно, ни о чём не думай, сейчас мы быстро…
Он и не думает ни о чём, он пытается понять, почему явилось к нему его Прошлое. Ни с кем, кроме Елены, никогда не говорил о нём. И столько лет не думал ни о нём, ни о себе. Табу.
Может быть, он и жил когда-то. Но тридцать лет не чувствовал того, что жил когда-то.
Фильм смотрел. Заморозили мужика. А через несколько десятилетий тот случайно оттаял. Он пытается найти своих родственников и друзей, бродит по старым адресам, ни адресов таких, ни родственников нет. Пытается найти клинику, в которой его заморозили. Не может. Точно помнит, что родился здесь, в этом городе, но город не знаком ему, и не знает мужик, что делать. Профессия его (он был переписчиком) никому не нужна, и его каллиграфический почерк никому не нужен, а больше он делать ничего не умеет. Как заработать на жизнь? Где ночевать? Что надеть на себя?
Евгений, как тот парень из фильма, бредёт по полю и даже орёт то, что орал более тридцати лет назад, а его не слышат, и забыты слова тех песен, которые он орёт, и нет у него профессии, и нет места, где ему расположиться, чтобы отдохнуть.
– Ну вот, молодец. – Тамиша гладит его по голове, как ребёнка, от макушки ко лбу, когда не шевелюра, а чубчик. – Поешь и спи. Конечно, неприятная процедура, но ведь она позади, да? Я сама хотела быть там с тобой, всё углядеть, ничего не пропустить. Съешь хоть один кусочек.
Он покорно жуёт. А проглотить не может. И выплёвывает в салфетку. Во рту сухо и холодно. Он пьёт воду, поднесённую Тамишей, и смотрит в её коровьи, карие, текущие добром глаза. Тамиша – толстая и мягкая, укрывает его волнами своего тепла, как одеялом, и он засыпает.
Но и в сон приходит Прошлое. Снова перед ним Елена.
6Учиться Елене легко. Багаж школы тащится за ней изо дня в день и по университету. Общие предметы. Лишь «Беспозвоночные» – нужный для будущей профессии.
Елена любит узнавать новое. Вчера и слыхом не слыхивала, а сегодня пожалуйста тебе – протоплазма… Теперь без этого слова, этого понятия никуда.
Она продолжала много читать. Самиздат, как и в школе, приносил ей он, что называется – с доставкой на дом. Приходил вместе с ребятами, раз в месяц, беседы не получалось, спорил с ней до крика – у них на всё были разные точки зрения. И уходил вместе с ребятами до следующего месяца.
Ребята в их спорах не участвовали, Илька набрасывался на него, едва выходили из Елениной квартиры.
В тот год июнь и часть июля Елена провела в Звенигороде на практике, а когда вернулась, на столе нашла Зоину записку: «Еду отдыхать».
Вот тут и явился к ней он. Один, без Михаила и Ильки.
Евгений не ходил за Еленой в стаде вздыхателей, не встречал после университета, не провожал к Зое. В то лето жил так, как до поступления во Вторую, – сидел дома: читал, играл на гитаре. Он любил свою небольшую светлую комнату с книгами и альбомами. Художников и героев книг знал, как своих родственников. Изолированность от мира, от сверстников выработала чувство независимости. Он не хочет быть одним из… он лучше будет просто один.
Он не ходил за Еленой по пятам, он сочинял ей баллады, поэмы, стансы и «клал» на музыку, то есть на гитару. Часами он общался с Еленой в своей комнате: пел и пел, закрыв глаза и держа Еленино лицо перед собой.
В тот летний день он принял душ, тщательно побрился – срезал всю свою рыжую, распустившуюся за каникулярное время щетину, тщательно расчесал свою буйную, с трудом дающуюся щётке шевелюру и, чуть припадая на одну ногу, отправился к Елене.
Ждать пришлось недолго. Словно какие-то высшие силы были в тот час за него.
– Привет, Жень! – улыбнулась ему Елена. – Ты что тут делаешь? Один и без книг?
– На тебя смотрю, – сердито пробормотал он.
Он злился на себя – почему вспотел, почему слова даются с трудом?
– Пойдём в поход, – сказал он.
– В поход? Вдвоём?
– В поход. Вдвоём. В Звенигород.
– Я только что оттуда.
– Вот и хорошо. Там красивые места. Ты-то сидела небось на одном месте, правда же?
– Правда, – согласилась Елена.
Он видит, она сама не понимает, почему согласилась идти с ним. Согласилась потому, что он для неё – младший брат и с ним она может быть самой собой, а её родной брат ещё очень мал? В этом возрасте разница в шесть лет – пропасть. А тут всего полгода.
Он шёл впереди. Он хорошо знал дорогу. Сначала десять километров – поля и небольшие сельца, под горку, потом десять километров через лес, а там и Москва-река. В одном сельце – хрупкая церковь. Так и кажется: вот-вот распадётся на золотистые купола и чуть валящееся в сторону золотистое тельце, а стоит двести лет. И внутри золотистый полумрак от ликов святых и лёгкого света, идущего сверху.
Прежде чем позвать Елену с собой, он прошёл этот путь сам. Познакомился с бабой Клавдей, с её коровой Дунькой и собакой Тявкой, с весёлой, вышитой избой. Вышиты занавески, скатерть, покрывало на кровати, наволочки и даже ковровая дорожка. Белый фон, а цветы, петухи, яблоки, собаки – яркие: красные, жёлтые, зелёные. Чего только на этих вышивках ни живёт! Пахнет в избе сеном и клубникой. Половицы жёлто-светло-коричневые, от них разлетаются лучи.
Елене понравится в бабы-Клавдиной избе.
Ломоть чёрного хлеба, стакан парного молока – что ещё нужно человеку посередине пути?
А подойдут к Москве-реке, поставят палатку.
Евгений выбрал место, богом забытое, далеко от жилья, от лагерей, от Биостанции. Берег – заросший, пляжа не устроишь, дома не поставишь. А для двоих – простор, полянка общей площадью шесть на семь метров, крутой спуск к воде, за спиной же и с боков – лес с кустарником.
Палатку он взял у Ильки. Своей ещё не обзавёлся, а эта, Илькина, как своя, сколько ночей в ней проспали с Михаилом и Илькой, не сосчитать! С первого дня Второй школы расстояниями измеряли воскресенья.
Елена идёт неслышно сзади. Она земли не касается, парит. Лишь бы не обернуться и не раскинуть руки навстречу.
Но её не удержишь даже его сильными руками – выскользнет.
Мальчишкой ненавидел кровать, к которой был прикован тяжёлыми неподвижными ногами, и, когда мать уходила в магазин, бросал руки на пол и на них шёл от кровати прочь, пока ноги не спадали на ковёр. А потом на четырёхугольнике пола из угла в угол по диагонали тащил на руках своё тело. Руки поначалу были слабые, но каким-то непостижимым образом удерживали его тело. Ходил он на руках, пока они не немели. Тогда припадал к ковру, раскидывал руки в стороны – отдыхал. Снова шёл из угла в угол по диагонали на руках, словно знал: руки даны ему – жить, управлять не слушающимся телом. Тяжелее всего было возвращаться на кровать. Нужно подтянуться, а простыни съезжают, и руки онемели от усталости. Тогда он чуть отодвигал матрас и хватался за железку кровати. Долго подтягивался и, хоть и с трудом, сантиметр за сантиметром, но сам втаскивал тело на кровать. К возвращению матери лежал беспомощный в веере раскиданных тетрадей и учебников – учил уроки.


