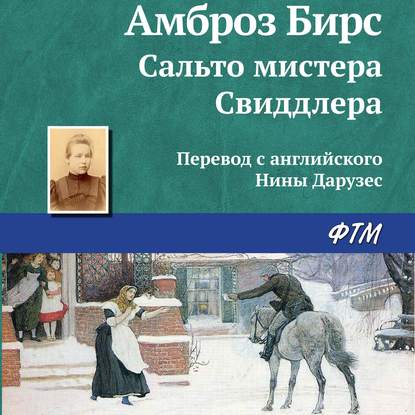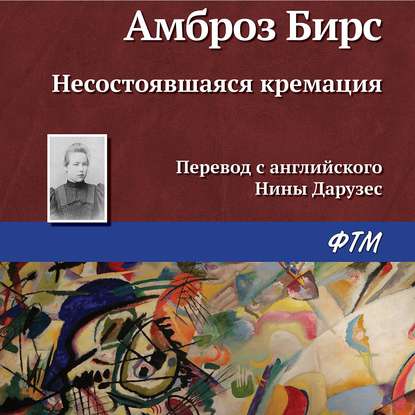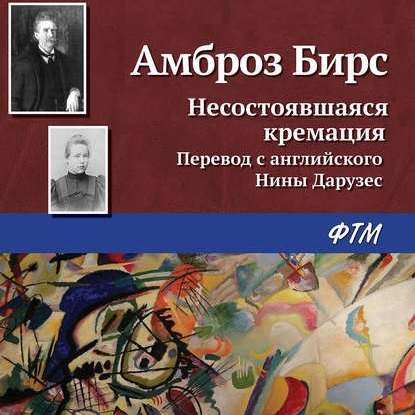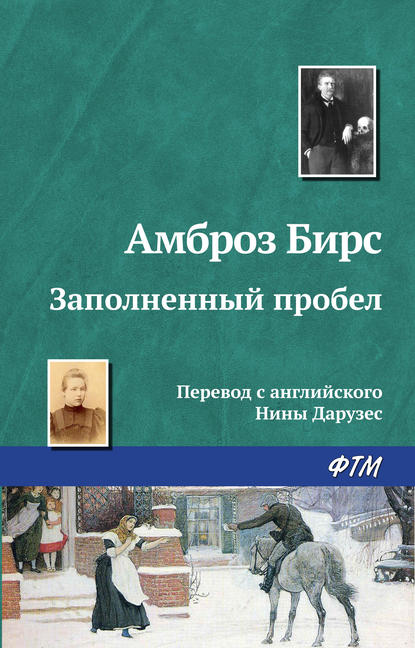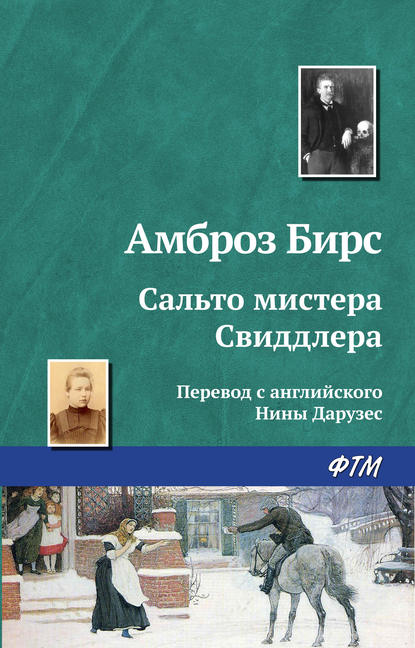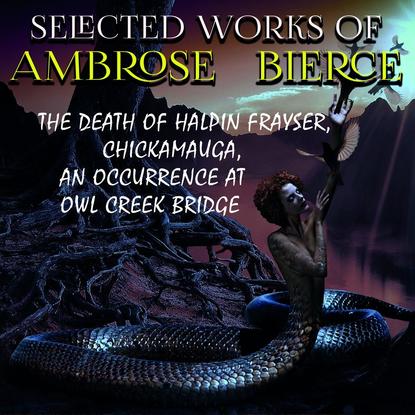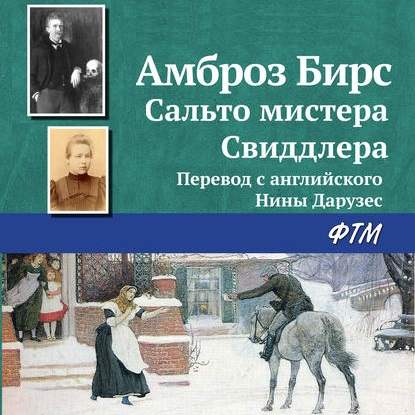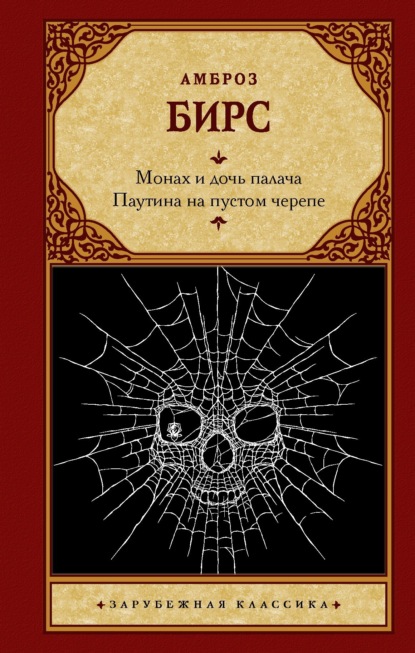
Полная версия
Монах и дочь палача. Паутина на пустом черепе
– Эй! Кто со мной? Я собираюсь привести ту, которая мне нужна…
Его партнерша, взбешенная оскорблением, стояла молча, глядя на него. Лицо ее исказила страшная гримаса, черные глаза горели зловещим огнем. Но ее замешательство не укрылось от пьяной компании и было отмечено громким издевательским хохотом.
Рохус между тем схватил пылающий факел и, высоко подняв его над головой, закричал снова:
– Ну, кто со мной? – и, не дожидаясь ответа, повернулся и быстро пошел в лес. Остальные, похватав факелы, пустились вдогонку за своим вожаком. Вскоре они растворились в темноте, но голоса их звонко разносились в ночи.
Я стоял, глядя туда, куда они отправились, когда ко мне шагнула оскорбленная девушка и что-то прошептала мне на ухо. Я чувствовал ее горячее дыхание на щеке.
– Если вам жаль дочь палача, – сказала она, – тогда бегите и спасите ее от этого пьяного чудовища. Ни одна женщина не сможет сопротивляться ему.
Господи! Как испугали меня страшные слова этой женщины! Я не сомневался в их правдивости.
– Но что я могу сделать? – спросил я. – Как мне спасти ее?
– Беги и предупреди ее, монах, – ответила женщина. – Она послушается тебя.
– Но они доберутся быстрее, чем я.
– Они пьяны и не будут слишком торопиться. К тому же я знаю одну тропу к хижине палача. Этот путь короче.
– Тогда показывай ее! И скорее! – вскричал я.
Она двинулась вперед, побуждая меня последовать ее примеру. Скоро мы уже были в лесу. Такая тьма окружала нас, что я едва различал фигуру женщины, она же ступала так быстро и уверенно, словно при свете дня. Вскоре где-то далеко внизу по склону мы увидели огни факелов. Стало ясно, что они идут длинным путем. Я слышал их дикие крики и содрогался при мысли о бедной девушке. Некоторое время мы шли молча. Наши недруги остались позади. И тут я услышал, как молодая женщина вдруг заговорила сама с собой. Поначалу я ничего не мог разобрать, но вскоре стал различать каждое ее слово.
– …Он не получит ее! К дьяволу его вместе с этим отродьем палача! Каждый презирает ее… а ему – как это на него похоже – наплевать, что думают и говорят люди. Он и любит, потому что все ненавидят… Да, конечно, мордашка у нее симпатичная… Я сделаю ее еще краше! Она еще умоется кровью!.. Даже если бы она была дочерью самого дьявола, он все равно не успокоится, пока не получит ее… Ну так нет! Не получишь!
Она воздела руки к небу и засмеялась, засмеялась так дико, что я содрогнулся, услышав ее хохот. Я подумал о тех мрачных, таинственных силах, что обитают в человеке… Как мало я знал об этом!.. И слава Богу!
Вскоре мы пришли. Несколько шагов отделяло нас теперь от двери в хижину.
– Здесь она живет, – сказала моя спутница, указывая на небольшое строение, сквозь окна которого пробивался желтый тусклый свет свечи. – Иди, предупреди ее. Палач – ее отец – болен и не сможет защитить дочь, даже если и осмелится сделать это. Лучше всего будет, если ты уведешь ее отсюда. Веди ее туда, – она показала направление, – в дом моего отца. Они не станут ее там искать.
С этими словами она покинула меня и растворилась в темноте.
XIII
Заглянув в окно хижины, я увидел палача. Он сидел на стуле. Рядом с ним стояла его дочь, положив руки на его плечи. Я слышал его кашель и тяжелое, надсадное дыхание и знал, что она жалеет его и, утешая, пытается уменьшить боль, измучившую его. Все ее лицо, казалось, – сама любовь и печаль – и не было в то мгновение ничего прекраснее на свете.
Я перевел взгляд на убранство комнаты и мне сразу бросилось в глаза, как все чисто и аккуратно. Жилище было убого, но казалось таким умиротворенным, что, верно, и его не минула Божья благодать. А эти ничтожные люди презирают и ненавидят их, как смертельных грешников! Возрадовалась моя душа и тогда, когда я увидел на противоположной от окна стене светлый образ Святой Девы. Лик Ее был украшен полевыми цветами и прекрасными эдельвейсами.
Я постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, произнес:
– Не бойтесь меня. Это я – брат Амброзий.
Мне показалось, что, неожиданно услышав мой голос, лицо Бенедикты на мгновение озарилось светом радости… Но, может быть, я ошибся, и то было просто удивление (да уберегут меня святые ангелы от греха гордыни). Она подошла к окну и распахнула его.
– Бенедикта, – произнес я, ответив на ее приветствие, – я пришел предупредить тебя, что сюда идут… мерзкие, пьяные… С ними Рохус, он сказал, что хочет танцевать с тобой. Внизу праздник, ты знаешь. Я успел раньше, чем они, я хочу помочь тебе… Беги, Бенедикта!..
При имени Рохуса я увидел, как зарделись ее щеки и все лицо залило румянцем. Увы, вероятно, права была моя ревнивая спутница – ни одна женщина не может устоять перед ним, даже она, Бенедикта – чистое и набожное дитя. Когда ее отец уразумел смысл моих слов, он встал и развел свои руки в стороны, будто хотел защитить ее. Велика была сила его духа, но бессильно, как знал я, больное тело.
– Разреши мне увести ее, – сказал я ему. – Парни пьяны и не соображают, что делают. Твое заступничество может разозлить их, и тогда достанется и ей, и тебе. Ох!.. Смотрите! Видите огни? Это их факелы… Слышите? Это их голоса! Умоляю, Бенедикта, торопись, торопись!
Отец ее зарыдал. Она бросилась к нему и стала его успокаивать. Затем метнулась из комнаты и, осыпав руки мои поцелуями, побежала вниз к лесу, чем я был немало удивлен. Вскоре она исчезла из виду. Я ждал, что она вот-вот вернется, но минуло несколько минут – она не появилась. Я вошел в хижину. Мне казалось, я должен защитить отца ее от пьяной компании, которая с минуты на минуту будет здесь.
Но они не пришли. В смятении размышлял и ждал я. И через какое-то непродолжительное время до нас донеслись радостные крики и возгласы – они заставили меня содрогнуться и воззвать к милости Святой Девы. Но вскоре звуки растаяли вдали, и я понял, что они повернули обратно – туда, где продолжался праздник. Несчастный больной старик и я возблагодарили Бога за чудесное избавление. Затем, попрощавшись с ним, я вновь ступил на тропу, которой пришел сюда.
Когда я наконец добрался до поляны, до меня долетели звуки радости и веселья, и мне показалось, что они стали громче, чем прежде. Я подошел ближе и сквозь листву деревьев увидел поляну, залитую светом костра, вокруг которого танцевали юноши и девушки – они были без головных уборов, и волосы свободно струились по их плечам, одежда в беспорядке, а движения неистовы. Они неистовствовали у костра, и его свет отбрасывал на их лица красные и черные тени… Жутким представилось мне это зрелище – словно не люди то были, но демоны преисподней собрались на свой зловещий шабаш. И… О, Боже! Среди этого безумства, в самом его центре, казалось, далекие от всего происходящего, танцевали Рохус и Бенедикта!
XIV
О, Матерь Божья! Что может быть горше зрелища падшего ангела? Я увидел и понял, что Бенедикта, расставшись со мной и отцом своим, бросилась в объятья того, от кого я пытался ее спасти!
– Эта отвратная девка сама сиганула в руки Рохуса! – прошипел некто совсем рядом со мной. Оглянувшись, я узнал ту самую высокую кареглазую девушку, что была моим проводником. Лицо ее исказилось ненавистью. – Как я жалею, что не убила ее. Ничтожный, глупый монах, как же ты допустил, что так случилось?
Я оттолкнул ее в сторону и побежал к танцующим, совершенно не соображая, что делаю. Да и что я мог сделать? Но не успел я приблизиться, пьяная компания, может быть, чтобы помешать мне, а может быть, даже и не замечая меня, взялась за руки и образовала хоровод – живой круг вокруг Рохуса и Бенедикты, шумом и выкриками выражая восхищение ими.
Сказать по правде, вид танцующей пары радовал взгляд. Он – высокий, стройный, излучающий жизненную силу, являл собой образ легендарных древних греков, а Бенедикта, воистину, была феей из сказки. Близился рассвет, на луг уже ложился туман, и ее трогательная фигурка, покачиваясь, как бы плыла, окруженная магической дымкой, а одежда ее казалась сотканной из пурпурных и золотых нитей волшебной паутины. Ее глаза скромно были опущены долу, лицо светилось внутренним вдохновенным светом, и, казалось, вся ее душа, без остатка, растворилась в танце. Бедное, чистое дитя! Ее безграничная наивность заставляла рыдать меня, но я прощаю ее. Жизнь ее была столь скудна и безрадостна! Что ж в том такого, что она так любит танцевать? Да благословят ее небеса! Но Рохус!.. Боже, помилуй и его!..
Пока я смотрел на них и думал о том, что я должен предпринять, моя ревнивая спутница – звали ее Амалия – стояла рядом со мной, изрыгая проклятия и богохульствуя. Все смотрели на танцующих, и когда восхищенные зрители зааплодировали им, злоба, охватившая Амалию, словно выплеснулась наружу, и женщина, протянув руки вперед, рванулась к сопернице, стремясь задушить ее, но я преградил ей путь и предостерегающе крикнул: «Бенедикта!»
Она оглянулась на звук моего голоса и легким наклоном головы подала знак, что слышит, но танец не прервала. Амалия, остановленная мной на мгновение, уже не в состоянии далее обуздать свою ярость, бросилась вперед с диким воплем… Но ей не суждено было добраться до танцующих – пьяные друзья Рохуса помешали ей сделать это. Они глумились над ней, и она, все более теряя рассудок, пыталась добраться до своей жертвы. Парни отталкивали ее прочь, смеялись и издевались над ней. О, святой Франциск! Когда я видел глаза Амалии, горящие ненавистью, ледяная дрожь охватывала мое тело. Господи, не оставь нас своей заботой! Я уверен, что она способна убить бедное дитя и возгордиться содеянным!
Уже давно я должен был вернуться в монастырь, но не мог уйти. Я думал о том, что может произойти, когда танцы закончатся. Мне говорили, что обычно после праздника молодые люди провожают своих подружек домой, и я ужасался при мысли, что Рохус и Бенедикта останутся вдвоем. Ночью, в лесной глуши…
Вообразите мое удивление, когда вдруг Бенедикта, будто очнувшись, подняла голову и прервала танец. Она мягко взглянула на Рохуса и сказала своим ясным, свежим голосом, в котором мне почудился перезвон серебряных колокольчиков:
– Благодарю вас, господин, – произнесла она, – что вы выбрали для танца меня и сделали это так по-рыцарски…
Затем она повернулась к нему спиной и, скользнув между зрителями, в мгновение ока исчезла в темной громаде леса. Рохус поначалу, казалось, остолбенел от удивления, но вскоре он осознал, что Бенедикта покинула его. Когда до его разумения дошло это, страшно стало смотреть на него – он взбесился, как сумасшедший. Он заорал: «Бенедикта!» Он звал ее и другими именами, в которых звучала его любовь, но без толку – она исчезла. Затем он было схватил факел и хотел отправиться за ней в лес, но друзья удержали его. Тут он увидел, что я здесь, и с проклятьями бросился ко мне. Я подумал, что, если у него хватит смелости, он сейчас ударит меня.
– Ну я еще тебе задам! – закричал он. – Ты у меня еще ответишь за это! Ты – ничтожный монашек!
Но я не испугался его. Во имя Господа! Бенедикта безгрешна и ни в чем не виновата. Я относился к ней так же, как и прежде. Но в ужасе содрогался я, думая о том, сколь много опасностей подстерегает ее. Она беззащитна, как перед ненавистью Амалии, так и перед вожделением Рохуса. Ах, если бы я мог быть всегда рядом с ней и защитить ее! Но я вручаю судьбу ее Тебе, о, Господи! – ибо знаю я, что ты не оставишь несчастное, осиротевшее дитя в небрежении.
XV
Увы! Несчастная моя судьба! Вновь быть подвергнутым наказанию и не чувствовать своей вины.
Похоже на то, что Амалия не стала скрывать происшедшего, а напротив, стала болтать о Бенедикте и Рохусе. Негодная девица ходила по домам и рассказывала, что они «вытворяли» – Рохус и Бенедикта. Не только это она сочинила, но еще и то, как бесстыдно вела себя Бенедикта с пьяными парнями. Когда же люди обращались ко мне, зная, что я был там, я рассказывал то, что видел, и говорил правду.
Вот это-то, как оказалось, и оскорбило нашего отца-настоятеля. Он призвал меня и обвинил в том, что я защищаю нечестивую дочь палача, свидетельствуя против рассказа доброй прихожанки и истинной христианки. В ответ на обвинение я смиренно спросил, следует ли мне понимать Его Преосвященство таким образом, что должен я допустить, чтобы невинное и беззащитное дитя было оклеветано?
– Ответь мне тогда, – произнес он, – что движет тобой? Почему ты защищаешь дочь палача, закрывая глаза на очевидные факты? Более того, ты не можешь отрицать, что ее никто не понуждал присоединиться к пьяной компании. Она это сделала сама.
– Она вышла к ним, – отвечал я, – движимая одной лишь любовью к своему отцу. Потому что, если бы эти безумные молодые люди не обнаружили ее, они могли покалечить его. Она же любит его, а он болен и беспомощен. Так это было, и я свидетель тому.
Однако Его Преосвященство был непреклонен в своей уверенности в том, что я ошибаюсь, и я был сурово наказан. С радостью принял я тяжкую епитимью: пострадать за бедное дитя – это благо. Я не роптал на суровость отца-настоятеля, потому что он – мой пастырь, и первая – и святая – обязанность моя – повиноваться ему, а бунтовать, даже в мыслях, есть тяжкий грех.
Лишь одно тревожит меня – я волновался за Бенедикту. Не будь я заключен в своей келье, я бы отправился к ее хижине и, возможно, смог бы увидеться с ней. Я горевал, думая о ней, горевал так, словно она – моя сестра.
Душой и телом своим я принадлежу Господу Богу нашему, и нет у меня права любить кого-нибудь помимо Него – Он умер на кресте за наши грехи, потому любая иная любовь – это зло. О, Господи! А что, если это чувство, воспринятое мною как знак свыше, наставляющий спасти душу Бенедикты – есть любовь земная? Тогда – о, горе мне! – я иду по дороге, ведущей в ад! Но этого не может быть! Просвети и укрепи меня, святой Франциск, в надежде моей, что иду верным путем!
XVI
Я стоял подле окна моей кельи. Солнце село, и сумерки все выше карабкались по склонам гор из ущелья. В ущелье клубился туман, и был он таким густым и темным, что, казалось, подо мной разверзлась не пропасть, а мрачные воды огромного озера. Я думал, как могла Бенедикта выбраться из этих мрачных глубин, чтобы принести мне эдельвейсы, и мне чудилось, что я слышу, как срываются в пропасть камешки, случайно сдвинутые ее чудесной изящной ножкой. Но одна ночь сменяла другую, та – третью… Я вслушивался в звуки ветра, воющего в соснах: я внимал потокам воды, несущейся глубоко внизу, по дну ущелья; я слышал отдаленную песнь соловья, – только ее голоса я не слышал.
Каждый вечер туман поднимался из ущелья. Постепенно он густел и образовывал плотное, непроницаемое для взора облако. Оно покрывало горы, утесы и долину, что расстилалась далеко внизу, высокие сосны и снежные вершины горных пиков. Оно поглощало последние отблески солнца в вышине, и наступала ночь. Увы! И в душе моей царила та же ночь – черная, беззвездная, беспросветная, безнадежная…
Наступило воскресенье. Бенедикты не было в церкви на службе – ее «темный угол» остался пустым. Я так и не смог сосредоточиться на молитве, – мысли уносили меня к Бенедикте, – грех этот я искупил, добровольно подвергнув себя еще одному наказанию.
Я увидел Амалию. Она была среди женщин, но Рохуса, как ни пытался, я обнаружить не смог.
Служба подошла к концу. Клир и младшая братия с послушниками медленной процессией покинули храм, пройдя через ризницу, в то время как все остальные вышли через главный вход. Из ризницы мы должны были пройти длинной крытой галереей, откуда открывалась широкая панорама центральной площади города. Когда мы, младшая братия, шедшие за старшими, проходили по галерее, что-то случилось на площади. Привлеченные происходящим, мы остановились. То, что случилось дальше, я буду помнить и в день своей смерти – как могли допустить Небеса такое и с какой целью? Старшая братия, похоже, знала, что произойдет, и умышленно замешкалась, чтобы дать нам возможность увидеть случившееся на площади.
Сначала я услышал шум голосов. Он приближался, нарастал, подобно дьявольскому гулу преисподней. Поскольку я стоял в дальнем конце галереи, где не было окон, и не мог увидеть площадь, я обратился к брату, стоявшему у ближайшего от меня окна:
– Что там такое?
– Какую-то женщину ведут к позорному столбу, – ответил он.
– Кто она?
– Молодая девушка.
– Что она совершила?
– Ты задаешь глупые вопросы, брат мой. Кого могут вести к позорному столбу, кроме падшей женщины?
Я протиснулся к окну и наконец смог увидеть, что там происходит: распаленная, улюлюкающая толпа втягивалась на площадь. Тон задавала молодежь: они кричали, размахивали руками и распевали песню, судя по доносившимся словам, неприличного содержания. Казалось, они все охвачены безумием – так они неистовствовали и радовались позору и страданиям своей жертвы. Не лучше вели себя и женщины.
– Позор! Позор! Позор тебе, гадкая! – кричали они. – Смотрите, что бывает грешницам! И благодари Бога, что мы милосердны…
И вот в самой гуще беснующихся мужчин, женщин, подростков… О, Господи! Как писать об этом? Как передать ужас всего увиденного? В самой гуще – она, прекрасная, чистая, невинная Бенедикта!
О, Небеса! Как я сумел, увидев все это, остаться в живых? Теперь я знаю, что тело и душа моя балансировали на грани жизни и смерти. Галерея, площадь, люди – все закружилось вокруг меня в сумасшедшем вихре; земля плыла под моими ногами, и хотя глаза мои были открыты, все вокруг было темно. Но, верно, это длилось недолго, я пришел в себя и снова увидел площадь, снова увидел ее.
Они обрядили ее в серый, длинный, бесформенный балахон, перетянув его на талии грубой веревкой. Голову венчал венок, сплетенный из соломы, а на груди, на бечевке, переброшенной через шею, болталась черная табличка, на которой мелом крупно было написано одно слово – «шлюха».
Ее вели на веревке. Один конец охватывал ее талию, другой находился в руках мужчины. Я вгляделся в него пристальнее и… – о, Боже! – понял, что это был палач – отец Бенедикты! Они заставили несчастного старика исполнить в очередной раз обязанность палача – вести к позорному столбу собственную дочь! Позднее я узнал, что он на коленях умолял отца-настоятеля избавить его от этого, но тщетно.
Память о том, что я увидел, никогда не оставит меня. Палач все никак не мог оторвать глаз от лица дочери, а она все кивала ему в ответ и… улыбалась. Господи! Она – улыбалась!
Толпа бесновалась, оскорбляла, проклинала ее, плевала ей под ноги. Мало того, видя, что она не замечает бесчинств толпы, люди стали бросать в нее комья земли. Этого отец уже не смог выдержать и со стоном повалился без чувств на землю.
Ничтожные! Они захотели поднять его, чтобы заставить довести дело до конца, но Бенедикта, выбросив руку вперед в повелительном жесте, остановила их с выражением такой непередаваемой чистоты и нежности на лице, что даже эти озверевшие люди, ощутив исходящую от нее невидимую силу, расступились перед ней, оставив ее отца на земле. Она встала на колени и, обняв голову отца, наклонилась к нему, шепча что-то, успокаивая и ободряя его. Она ворошила его седые волосы и целовала в побелевшие уста до тех пор, пока он не пришел в себя и не открыл глаза. Бенедикта! Трижды благословенная Бенедикта! Воистину ты рождена святой, поскольку деяния твои являют поистине божественное смирение, подобное тому, с которым Христос нес свой крест и все грехи наши!
Она помогла отцу подняться и улыбнулась ему ободряюще, когда он утвердился на ногах. Она отряхнула пыль с его одежд и, все так же улыбаясь и шепча ему слова утешения, вручила ему конец веревки. Бесновалась толпа, неистовствовали юноши, кричали женщины, а несчастный старик вел свое невинное дитя к позорному столбу.
XVII
Когда я вернулся в свою келью, я пал ниц на каменные плиты и воззвал к Господу о жестокой несправедливости, свидетелем которой я был, и о еще большей жестокости, картина которой виделась моему мысленному взору. Я представил, как отец привязывает свое дитя к позорному столбу. Я видел, как ничтожные люди жестоко глумятся над несчастной. Я видел, как порочная Амалия плюет в невинное лицо. Я молился за бедное дитя, чтобы она нашла силы выстоять и пережить это великое горе.
Затем я поднялся и стал ждать. Я ждал захода солнца. Я знал, что несчастных освобождают с последними его лучами. Минуты казались часами, часы – вечностью. Солнце не двигалось. День позора отвергал ночь.
Напрасно я пытался осознать происходящее: я был ошеломлен и оглушен. Почему Рохус позволил, чтобы Бенедикта была опозорена? Неужели он думал, что, чем сильнее будет ее позор, тем легче будет ему заполучить ее? Не знаю, но я не мог найти для него иной причины. О, Господи! Помоги мне! Всем существом своим я ощущал, впитывал ее горе, ее позор. И вот тогда – о, Господи! – страшная догадка пронзила сознание твоего ничтожного слуги! Оно снизошло на меня как откровение небес: мое чувство к Бенедикте иного свойства, нежели я думал. Это земная любовь – любовь мужчины к женщине. Когда открытие это проникло в мой разум, у меня перехватило дыхание, сердце мое забилось тяжело и быстро, мне показалось, что я задыхаюсь. Но несправедливость и жестокость, допущенная Небесами в отношении той, которую я обожал, была столь велика, что я не мог раскаяться полностью. Пораженный своим открытием, я ослеп: я не мог ясно представить степень своего грехопадения.
Даже сейчас я, уверовавший в данное мне свыше поручение спасти душу Бенедикты и подготовить ее к жизни в святости, не был убежден в том, что полностью ошибался. Это другое человеческое существо – разве оно не исходит тоже от Господа нашего? И разве оно не во благо? И что может быть лучше спасения души? Святая жизнь на земле и вечное счастье на Небе как награда. Убежден я, что божественная и плотская любовь не так уж и противоположны друг другу, как учили меня думать прежде, поскольку они суть выражение одной и той же воли. О, Святой Франциск! Великий груз этого открытия обрушился на меня… Направь мои стопы!.. Укажи моему ослепленному взору путь во благо Бенедикте!
Наконец солнце скрылось за горным хребтом. Облака собрались над горизонтом, из ущелья пополз туман, багровые отблески запылали на снежных склонах гор, отражая последние лучи солнца на вершинах.
О, Господи! Благодарю Тебя!
Она свободна!
XVIII
Я был очень болен, но, благодаря неустанной заботе братьев, наконец оправился достаточно, чтобы покинуть больничную койку. Верно, была на то Божья воля, чтобы я выжил и продолжал служить Ему, хотя и не сделал ничего, чтобы быть достойным милости Небес. В душе я ощущал сильное желание посвятить ничтожную жизнь свою Господу и служению Ему. Быть достойным Его и проникнуться уверенностью в Его любви – вот та единственная страсть, что руководила мной. Если действительно на челе моем печать Божья, этим чаяньям и надеждам суждено сбыться, – освобожденный от своей земной страсти к Бенедикте, я вознесусь к новой, более благочестивой жизни. И если произойдет это, я смогу оберегать и защищать ее лучше, чем я могу это делать сейчас, не боясь оскорбить Небеса и подвергнуть опасности свою душу.
Я был очень слаб. Мои ноги, подобно ногам маленького ребенка, отказывались нести мое тело. Братья свели меня в сад. С каким благоговением вновь смотрел я в синеву неба! Как восторженно я впивался взглядом в заснеженные вершины и темные леса на их склонах. Каждая травинка занимала меня, и я радовался каждой бабочке, каждому жуку, каждому насекомому, словно то были мои старинные приятели.
Глаза мои устремились на юг – туда, где была хижина палача, и я с грустью вспомнил о его прекрасной дочери. Что с ней сейчас? Смогла ли она пережить жестокость всего того, что случилось на площади? О, если бы у меня достало сил дойти до ее обители! Но мне не дозволялось покидать стены монастыря, а те немногие, с кем я отваживался заговорить о ее судьбе, ничего о ней не знали. Странно вели себя братья мои, странно они смотрели на меня и обращались со мной – так, словно я уже не был одним из них и более не принадлежал к братству. Что произошло? Я любил их и желал жить с ними в гармонии. Они были вежливы и почтительны со мной, но, казалось, избегали меня. Что бы все это значило?
XIX
Я находился в покоях Его Преосвященства нашего настоятеля, отца Андрея.
– Твое исцеление воистину удивительно, – произнес он. – Я хочу, чтобы ты извлек урок из того, что случилось, и подготовил душу свою для той благодати, что ожидает тебя. Сын мой, – продолжал он, – я повелеваю тебе оставить обитель и нас, братьев твоих, на несколько месяцев. Ты будешь жить в одиночестве в горах. Там ты укрепишь дух свой и силы; это будет суровый экзамен, но ты сможешь выдержать его, и тогда тебе станет ясна глубокая пагубность твоих заблуждений. Молись, чтобы Божественный свет осветил твою тропу, и ты пошел верным путем службы Господу нашему – настоящим пастырем, которому никакие козни сатаны не страшны и чужды земные страсти.