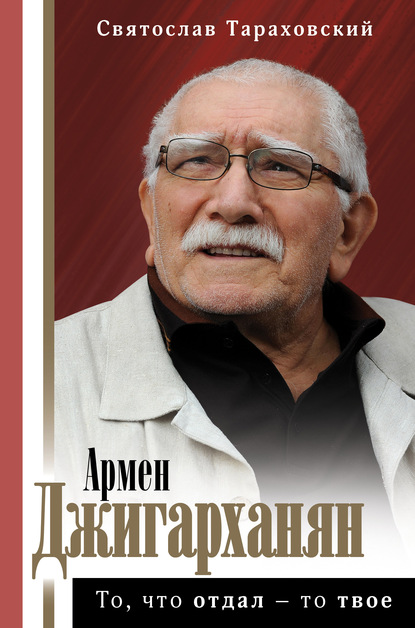Полная версия
Немое кино без тапера
Подумал так и спохватился: каков же он негодяй! Латентный расист, фашист и тупица – три в одном флаконе. Где твое планетарное сознание, профессор?!
«Федька, – опомнился он, – я приму тебя любого. Черного, белого, с рогами или в нимбе – запомни, любого. Тебя еще нет, но я тебя уже люблю. Когда ты появишься и чуть подрастешь, чтоб меня понимать, я посажу тебя на колени и расскажу… нет, только не сказку. Рассказывать детям сказки – преступление взрослых. Все эти скатерти-самобранки, Кощеи Бессмертные и Царевны-лягушки сызмальства приучают человека к идиотской мысли о том, что в жизни существуют чудо и чудеса. Мы с тобой, Федя, оставим сказки прошлому, избе, лучине и невежеству. Малыш, скажу я тебе, мир, в который ты пришел, плох, но не безнадежен, и ты можешь сделать его лучше. Засучи рукава и принимайся за дело. Поклоняйся разуму, пестуй свой ум и чти людей ученых. Помни, что компьютер, пожалуй, важнее всех, вместе взятых, Священных Писаний. Мысль – вот единственное чудо человека. Не ищи и не полагайся на другие чудеса, Федя, из-за таких бесплодных поисков гибнет Россия».
По коридору затопали шаги к прихожей, раздались смех, довольно громкие шутки и не менее громкий шепот Дарьи. «Тихо вы, отец спит!» Гости расходились.
Торкнулась в дверь Ольга: «Петенька, ты как там?»
Ладыгин храпанул, не сильно, но вполне достоверно, чтобы Ольгу успокоить и отпугнуть одновременно. «Он всегда так, когда выпьет», донесся и, переместившись в прихожую, затух противный Ольгин голос.
«Открытие, – удивился Ладыгин. – Не люблю жену. Обижен на дочь. Люблю свою коллекцию, своего будущего внука Федю. Значит, больше всего люблю самого себя».
Донеслись чмокание поцелуев и россыпь благодарностей: «Спасибо»; «Было круто»; «Вовку довезите»; «Ага, до ближайшего кювета»; «Целую»; «Маргоша, завтра позвони»; «Супер»; «Дашка, дай я тебя еще раз в губешки»; «Пошел, пошел!»; «Все, все, пока».
Ладыгин добил бутылку. Удивление не проходило.
«Россия. Интеллигенты. Гниль. Всем ученым миром ищут национальную идею – чего ее искать, она на поверхности… Вот вам всем великая идея на много лет – выживание! Вы-жи-ва-ние! Спасайте Россию, дураки! Не танками, не ракетами и подлодками – оружие требуется другое. Генитальками, говорю я всем и тебе, Дарья, генитальками, только ими, родимыми. Подряд. Много раз. Без остановки. Сами или даже с помощью близ…»
Полупьяное размышление на полуслове внезапно прервалось, перебитое, как просверком молнии, простой и ясной мыслью. Она была так проста, так ясна, так безусловна и так важна для него, что Ладыгин даже повел по сторонам головой, опасаясь, как бы такую ценную его мысль никто не подслушал. «Мать моя!.. – прошептал Ладыгин. – Как же я раньше-то не дошел? Где был? Почему медлил?»
Алкоголь испарился. Сон сгинул.
Спокойствие, спокойствие, теперь не следует торопиться. Теперь нужна холодная голова и отсутствие суеты. Любая идея и все, что, как на фундаменте, выстраивалось на ней, должно быть зафиксировано обстоятельно и без спешки. Так требовали его научные, наработанные годами правила, так будет и на сей раз. Черные, красные, желтые круги в глазах пролетели и исчезли. Ладыгин сумел себя поднять и бесшумно переместить к столу.
Замысел, заговор, тайна! Его заговор, его тайна!
Ни компьютеру не доверит он свой секрет, ни, тем более, диктофону или другой электронной технике, доступной постороннему глазу и уху. Только ручке и листу бумаги, что можно носить на сердце и, при необходимости, уничтожить.
«Наверное, я старый болван и не имею на это никакого права, – подумал Ладыгин. – Но я поверну эту жизнь так, как хочется мне. Пусть они все меня проклянут и не простят – теперь я точно знаю, что должен делать. День рождения зря не прошел».
Рука едва поспевала за мыслью. План на ближайшую жизнь был вчерне набросан и одобрен. Возможно, план был неверен изначально, но это был его план. Он понял, что должен действовать. Понял, что когда стоишь на месте, бездарно умираешь.
6
«Дай чуда!» – кричат глаза и рты. «Чуда хотим!» – топочут ноги и тянутся руки. «Богатства хотим, здоровья, радости, счастья – дай волшебства и чуда!»
А настоящего чуда, того, что рядом, люди не замечают.
В двухтысячном с лишком году в России родился пес, абсолютно понимающий русскую речь. Не только мат, с которого, как с волшебной азбуки, началось его обучение, но весь великий язык вообще. Это ли не чудо? Хотя, если вдуматься, не такое уж это чудо – какой же другой язык понимать собаке, родившейся на одной седьмой части мира?
Это был довольно крупный молодой кобель с красивой мордой, неглупыми глазами и черной спиной, постепенно переходившей в серое брюхо и такие же серые лапы. Дворник, узбек Омар, первоначально обучавший его мату и позволявший иногда харчиться на домовой помойке, называл его Шайтаном, что значило «черт», но пес охотно отзывался; он мог бы отозваться и на любую другую кличку, если на русском она звучала по-человечески.
Он родился весной в залесенном овраге, за гаражами, в асбоцементной трубе, сваленной туда когда-то широкими на чужое добро строителями коммунизма. За долгое послесоветское время в этой ставшей логовом трубе родилось не одно поколение закаленных бродячих псов. Матери-суки, готовясь к родам, натаскали туда тряпья и палок, так что интерьер роддома, в котором собаки появлялись на свет, был вполне себе ничего и даже уютным. Зимой, если в трубу не задувал ветер и если выводок сбивался в кучу, в ней было чуточку теплее, чем на улице, зато летом – чуть прохладней, чем под открытым солнцем, и все-таки не так донимали дожди. Вместе с ним на свет появились семь его сестер и братьев; половина умерла от недокорма, из оставшихся четверых он вырос самым сильным и умным. Сука-мать вылизывала и лелеяла его прилежней остальных; вероятно, потому, что он более других был похож на своего отца, с которым в тот памятный для нее осенний день она сошлась за помойкой не просто так, а по взаимной любви. Ее избранник был могучим и продвинутым представителем породы немецких овчарок; он покорил ее сердце тем, что в драке, как настоящий мужчина, разогнал всех других, настырных и беспородных, сбежавшихся со всей округи претендентов на ее цветущую плоть. Правда потом, отозванный разоравшимся хозяином, он, совсем как у людей, бросил ее вместе с зародившейся в ней жизнью, и больше она никогда его не видела, но похожесть на него мальчишки щенка согревала ей сердце.
Когда Шайтан повзрослел, стало очевидно, что в его предках не только немецкие овчарки, что дали ему ум и стать, но по материнской линии и охотники-легаши, от которых он унаследовал тонкий нюх и слух, а также наверняка терьеры, что проявилось в его характере, независимом, боевом и дерзком. Взятые вместе, эти превосходные качества позволили ему именоваться среди жильцов дома номер семь, во двор которого он, возмужав, определился, не просто дворняжкой, но именно двортерьером. Когда он впервые услышал про себя такое серьезное определение из уст молоденькой, дымившей тонкой сигаретой хозяйки благородной шелти, с которой очень хотел познакомиться, он слегка загордился. Потому что уже усвоил, какое большое значение люди придают породам, как своим, человечьим, так и собачьим. Он часто слышал во дворе, что русский, например, лучше хохла, таджика или еврея или что, например, ротвейлер лучше пуделя, таксы или болонки, но почему и чем одни существа лучше других, он никак не мог понять. Разве «больше, сильнее и даже красивей» означает «лучше»? Лично его все собаки, как и люди, интересовали одинаково, за исключением только тех, что были бездушными и тупыми.
Вообще-то он многому научился за полтора года своей собачьей жизни. Например, переходить улицу. Раньше бегал как полный дурак туда-сюда между машинами и совсем не слушал осторожную мать; до тех пор, пока весенним днем под колесами не погиб братишка, такой же отвязанный и бесшабашный, как он сам. Красные дымящиеся кишки выскочили из брата, как из лопнувшего арбуза и как хорошее наглядное пособие сразу и навсегда просветили мозги. С того дня Шайтан поумнел и старался пересекать улицу только вместе с людьми, когда они стайкой летели на зеленый свет.
Научился различать запахи: простой запах дешевых столовых, где, как ни странно, могли его накормить, и аромат дорогих ресторанов, где, как правило, не подавали вовсе. Научился греться зимой на теплых крышках шахт канализации; крышек было немного, на всю стаю не хватало, но Шайтан, как мудрый и порядочный вожак, погревшись сам, всегда уступал другим соплеменникам. Научился рано вставать и, помогая в службе Омару, вместе с ним обходил и приводил в порядок всю немаленькую территорию дома номер семь. Однажды лаем и натиском Шайтан отогнал от Омара двух бомжей, за что окончательно заслужил от дворника расположение и покровительство. Иногда ему казалось, что он научился отличать хороших людей от плохих, но до конца понять людей он за полтора года так и не сумел. Странные они, эти люди, думал пес. Говорят, что где-то чему-то учатся, а ездят на железных коробках, так противно пахнущих резиной и нефтью, и всякие вкусности зачем-то выбрасывают на помойку в полиэтиленовых пакетах, которые поди-ка быстро разорви, когда очень хочется есть. Странные они, эти двулапые существа! Два раза в день, утром и вечером, Шайтан наблюдал их большое перемещение. Утром, озабоченные и хмурые, они выходили с детьми из подъездов и, хлопая дверцами, залезали в свои железные коробки или неслись гурьбой к главной улице, к очень большой железной коробке с щупальцами-усиками на спине. Вечером все повторялось с ними в обратном направлении, люди вели детей к дому и несли сумки с едой; неизменным в них, что утром, что вечером, оставалось только одно: озабоченность и хмурость на лицах. И зачем они тогда перемещаются туда-сюда, не понимал Шайтан, если за день ничего в них не меняется? Ради чего? В то время как есть восход солнца, согревающее мех тепло и летний дождь, чтоб сполоснуться. Есть мягкая сочная трава, по которой можно так здорово носиться в одиночку или стаей и которую можно пожевать, чтоб излечиться от поноса. Есть простая еда от помоек, столовых и добрых бабушек, еда, которой надо не так уж много, чтобы жить, хотя жрать хочется всегда. А еще есть лень, созерцание жизни вокруг и симпатия к какой-нибудь шелти или таксе и, наконец, есть удовольствие – блохи, которых так сладко выкусывать где-нибудь в уютном уголке за киоском «Вимм-Билль-Данна». Изо всех людей ближе всего ему были дети, с ними можно было, по крайней мере, поиграть, а потом дать себя погладить, пока не подбежит какая-нибудь глупая мамаша или бабка и не оттянет ребенка с нежным, похожим на лай криком: «Не трогай эту гадость, у него обязательно глисты!» Обвинение в глистах больно задевало Шайтана своей несправедливостью – мать давно научила его выкапывать и поедать коренья и дикий чеснок, так что глистов у него в принципе быть не могло.
А все-таки тянуло его к людям. С тех пор, как он стал понимать их язык, ему стали интересны эти двулапые, жившие совсем рядом, любопытно было узнать, как устроена их жизнь. Шайтан понимал, что и город, и дома, и вкусные помойки созданы ими, людьми, он отдавал им первенство, он готов был им подчиниться и даже служить, но хотелось простого: подчиниться и служить человеку достойному.
В тот сырой мглистый зимний день, ближе к вечеру, он занял позицию неподалеку от остановки большой железной коробки, рассчитывая на то, что, возвращаясь домой, кто-нибудь из людей что-нибудь подкинет ему на зуб. Еда с помоек иногда смертельно надоедала и до чертиков, особенно зимой, хотелось чего-нибудь свеженького и питательного, например куска колбасы. Шайтан надеялся на удачу, которой вполне могло и не случиться; два пиковых часа он дрожал на остановке и, переминаясь с лапы на лапу, вглядывался в глаза людей, желая вызвать в них взаимопонимание. Все было напрасно, никто из торопливых пешеходов не обращал на него внимания. «Не повезло с добычей сегодня, повезет завтра», – вспомнил Шайтан материнский наказ и, не особо расстроившись, уже собрался было потрусить к ближайшей помойке, когда к тротуару подъехал тот самый белый автомобиль. Крупный пожилой человек, ступивший на асфальт с кейсом в левой руке, был ему вроде бы знаком по родному дому номер семь. Да, конечно, это был он, глаза и нос собаку не обманули. Пикнув брелоком автоблокировки, мужчина вздохнул и привычно направился к дому, такой же озабоченный, хмурый и странный, как все остальные люди вокруг. От мужчины не пахло ничем интересным и уж тем более съестным, он не сказал Шайтану ни слова, не обратил на него никакого внимания, но пес почему-то оставил свое место и последовал за человеком с кейсом. Почему и зачем он, молодой, крепкий пес, последовал именно за этим человеком, Шайтан так никогда и не смог толком понять и внятно себе объяснить, скорее всего, им двигала природная любознательность. Много позже, когда Шайтан поделился этой историей с другом, облезлым, одноглазым спаниелем Тофом, выгнанным на старости лет из дома, тот мудро заметил, что в жизни каждого пса наступает момент, когда он ищет себе хозяина и что тот поступок Шайтана объяснялся именно этим. «Тоф, конечно, умен, – подумал Шайтан, – но почему я потащился именно за этим мужчиной, когда вокруг были десятки других? Значит, уже тогда я почувствовал в нем что-то, что меня за ним повлекло, значит, в нем было призвание мое и моя судьба?» Возможно, так оно и было, возможно, все было совершенно наоборот, но в тот момент, когда Шайтан пошел за человеком с кейсом, он ничего такого глубокомысленного не сознавал. Шел – и все, стараясь не отставать от больших мужских шагов по мокрому снегу и не забегать вперед. На повороте во двор мужчина его заметил. «Привет, собака. Будем дружить?» – спросил он, но, кроме долгого взгляда умных черных глаз, ничего в ответ не получил. Взгляд, однако, был так проникновенен, что мужчина от неожиданности хмыкнул и ничего более не сказал. Шайтан проводил его до третьего углового подъезда, дождался, пока мужчина наберет код, откроет дверь и снова обернется к нему: «Идешь, собака?» Вместо ответа Шайтан снова заглянул ему в глаза. Понятно, он был готов идти за ним и дальше, но страх оказаться в запертом подъезде и лишиться свободы его остановил. Мужчина, что было здорово, все понял. «Боишься, – сказал он. – А жрать наверняка хочешь». Пес снова промолчал, потому что это была правда, сознаваться в которой именно сейчас ему не позволяла гордость. «Ну, будь здоров», – сказал мужчина и исчез за дверью, с треском притянутой магнитами.
Все было кончено. «Снова пойти к остановке? На помойку? Или к столовой?» – решал для себя Шайтан, но от подъезда номер три почему-то не отходил. Почему? Не знал он ответа на этот вопрос, не его собачьего ума было такое дело, но что-то внутри организма необъяснимо приказывало Шайтану задержаться у железной двери. В нее входили, из нее выходили люди, кто-то, наткнувшись на пса, отшатывался в испуге и даже хватался за сердце, кто-то с собачкой сюсюкал, но большинство не обращало на него внимания. Шайтан приткнулся к углу, прилег на холодный камень крыльца и грустно подумал о том, что из-за мужчины с кейсом он, скорее всего, останется сегодня голодным. Он клял себя за собственную глупость, за то, что подчинился интуицией неясно кому, непонятно как и зачем, и что сейчас уж точно бы следовало встать и куда-нибудь двинуться потому, что впереди ночь. Пора подумать о ночлеге, понимал Шайтан, но продолжал лежать у двери.
Через четверть часа она открылась, и на пороге возник его новый знакомый в накинутом на плечи пледе; в руках он держал сверток с изумительными мясными и сырными вкусностями, аромат которых мгновенно растревожил собачий нос. Шайтан вскочил и благодарно завилял хвостом, глаза его горели. «Ешь, животное, – сказал мужчина и придвинул к нему сверток. – Я почему-то знал, что ты не уйдешь».
Шайтан заглатывал куски и думал о том, как благородны иногда бывают люди. А также о том, что он, взрослый уже пес, ничего не понимает ни в них, ни в жизни. Почему мужчина не забыл его и вынес для него такую вкусную еду? Почему он, Шайтан, не покинул крыльцо и дождался благодетеля? На эти загадки его собачьи мозги ответа не давали.
«Все прекрасное всегда необъяснимо», – подумал Шайтан и добавил про себя, что было бы неплохо, если бы оно, прекрасное, заимело продолжение.
7
Откуда-то сбоку вплывает и занимает все изображение лицо полковника Шерстюкова, серое, недосыпное, квадратное, героическое, изрезанное складками отеческой заботы о солдатах и непроходимой глупостью. Он вздергивает набухшие веки и, рассчитывая на единодушный, благодарный, с криками «ура» ответ, прославляющий его стратегическую мудрость, размыкает губы. «Как воевали, сыночки?» – спрашивает полковник, по сути, равнодушно, но широко улыбаясь тридцатью двумя имплантами, сработанными для него по военной скидке в московской клинике, и исчезает засвеченный и пересиленный солнцем.
Тяжелое дневное солнце.
Алексей касается бурой брони, тотчас, ожегшись, отдергивает руку, дует на пальцы и, крепко матюгнувшись, сплевывает под скаты. Ребятишки смеются. Он расстегивает верхние пуговицы х/б, потная грудь с наслаждением ловит хоть какой-то, хоть слабый ветерок, возникающий при движении бронетранспортера.
Бабочка. Откуда в горах заурядная белая капустница? Залетела из Подмосковья? Она то садится на броню, то, вычерчивая неадекватные кривые, вьется над его кирзачами. Обгоняет БТР и снова возвращается к его сапогам. Что они ей дались? Что-что? Аромат его портянок? Балдеж от гуталина? Ребятишки снова смеются.
На броне их трое. Он – с подствольником, Витек и Серый – с «акашами». Лепешка Витькиных часов стреляет зайчиками, слепит и смешит Серегу. Неторопливой гусеницей вползает колонна с равнины в подъем, в ущелье, заросшее щетиной «зеленки».
Вся колонна – пять единиц, он видит ее словно взглядом сверху, словно с винтокрылой «вертушки». Впереди, придавливая пыль, катит БМП с пушчонкой, за нею их БТР и два УАЗа со взводом мотострелков; замыкает колонну еще одна БМП, где водилой Олег Терентьев.
Витек всматривается в дорогу, курит глубокими, до задышки затяжками, отстреливает окурок щелчком.
– Блядь, – говорит он. – Колонна. Ни головного дозора, ни боевого охранения. Чистый голяк.
– Не виляет, – определяет Серый. – Шерсть – стратег, дело знает.
– Говно он. Сюда бы его жопу. В том месяце такую же колонну подставил – забыл? Нормальный ход?
– Прорвемся, мужики, – отвечает Серый. – Что главное в танке? Не бздеть.
«Главное, – думает про себя Алексей, – вернуться живым. Я – козел. Мечтал о войне и победах. А войны нет, есть грязь, вонь и сплошная тупость. Впрочем, наверное, это и есть нормальная война; когда собираешься на войну, надо знать, что она такая, другой не бывает».
Слева – гора, справа – обрыв, дорога проложена по неширокой полке. Грузные, лобастые камни, проволока плотных кустов цепляется за броню.
Солнце припекает, гнет к земле. Красные, оранжевые, зеленые круги блуждают под веками. Он вдруг видит Дашку, ее серые глаза и легкую светлую челку над ними. «Ладыгина, это ты?» – «Я, Ребров, я». Ему нравится быть ее мужчиной. Он качается в «качалке», дерется на ринге и бьет кого-то в челюсть, он прыгает с парашютом, ныряет в ледяную прорубь, стреляет и преследует бородатых – ради нее; пусть знает, что ее мужчина самый смелый, самый сильный на свете, ему нравится соответствовать ее идеалу, ловить в обращенном на него взгляде синий огонек восхищения. Расшвыривая желтую листву, «хонда» несется на рассвете по Воробьевым горам. Дашкины руки сцеплены в надежный замок у него на груди. Спиной он чувствует ее тепло, ровный, неиссякаемый жар. Ее губы касаются его затылка, и дрожь пробивает его током до самых оконечностей. Мотоцикл влетает в пустынный парк. Кожаная куртка-косуха летит на землю. И вот девчонка уже пластается на ней, голая снизу, с остренькой вершиной пупка, с дымящимся, гудящим, зовущим в себя меховым треугольником, и он тянется к нему рукой, всем существом своим, всей своей ничтожной человеческой жизнью, которая может продлиться только в нем.
Он открывает глаза; несгибаемое его естество распирает ширинку, ласкает мозги теплом и надеждой на встречу, которая обязательно состоится и будет такой, какой только что нарисовалась в мечте. Он улыбается – солнцу, броне, дороге, лесу, ребятишкам, жизни, которая так хороша.
Молния и гром бьют одновременно; крики, свист, вой, мат; треск пулеметов, аханье пушек, разрывы гранат. Стреляют все, кто может, и куда попало. Он видит: из передней БМП выпрыгивает и тотчас, срезанный очередью, валится под гусеницы старлей Подавалов. Алексей успевает приметить, что кровь такая густая, что стоит темной лужей и не впитывается пылью дороги.
– Слева, за камнем! – кричит Серега. – Хуячь!
Он наводит свой подствольник на камень, но выстрелить не успевает. Кусок встречного огненного железа отсекает ему два пальца, чиркает по черепу и начисто отрывает ухо. «Бабочка не балдела от портянок, – проносится в уме, – она предупреждала».
Он видит склонившееся над ним лицо с седой бородой, ухмылку. «Пидор православный, оклемался?» И – крик: «Хасан, тут еще один христосик не сдох! Вяжите его и – к Омару». Пушчонка БМП жалко свесилась набок, на ней болтается чья-то каска, Подавалова, что ли? Он кашляет, он задыхается от дыма, но его заставляют встать и пинают ногами, чтоб стоял. Тычками и ударами гонят к лесу, и он подчиняется. Витька и Серега разорваны в клочья, ему приходится через них перешагнуть, и часы на Витькиной руке моргают ему в глаз ослепительным бликом прощания.
Он трогает себя за ухо, вернее, за то место, где оно обязательно должно у человека быть. Он шарит по голове, ищет ухо и не находит его. Пальцы в крови, ему больно, он кричит.
И просыпается.
Он смотрит на зеленые цифры часов и рывком садится на кровати. Ему душно. Он утирает взмокший лоб, закуривает то, что нашаривает на столе, и наливает себе водки. Механически отмечает, что водка на исходе и надо бы купить еще, потому что водка – она как хлеб, без нее не проживешь. Полковник Шерстюков. Почему он снится так часто? Лешка Ребров пришел воевать за Россию, но из-за мудака Шерстюкова в первом же бою был изувечен и попал в плен. Шерсть во всем виноват. Лешка поклялся, что, если когда-нибудь, где-нибудь он встретит Шерсть, он с ним поговорит. В жизни все так, но за каким эта сука Шерсть пролез в сны?
Долбаные сны войны. Он давно заметил их подлое свойство: они являются тогда, когда он с вечера не добирает дозу. Если доза достаточна, он спит спокойно и его посещают другие сновидения. Снится море, гладкие волны, спокойный и могучий Лондон, белый корабль и красивый дом с бассейном, в котором он когда-нибудь будет жить. Полковник и Дашка не снились ему давно. Почему они вдруг возникли, зачем? Не хочет он ничего вспоминать, память собственную не любит, можно было б вырубить ее, как звук в телевизоре, вырубил бы с охотой. Слава богу, что помнить отчетливо и взаправду почти ничего не осталось, многое уже забылось, перепуталось, слилось и срослось с другими событиями, лицами, датами, провалилось в колодец неверной памяти, в озеро крепких напитков. Тогда зачем этот сон, к чему бы? Точно недопил, решает он, и дает себе слово укрупнить дозу, чтобы больше такое не повторилось. Он начинает собираться. На часах начало четвертого, к четырем придут с ночи рыбаки, и, значит, он снова должен ждать их в секрете на верхнем шоссе. Он заедает водку колбасой и черной подсохшей горбушкой, быстро пьет то горьковатое и теплое, что называет кофе, влезает в камуфляж, ступает в корявые, трущие по лодыжкам сапоги, прихватывает пушку и выходит в темноту, в ночной холод. «Гольф» заводится с полоборота, он снова закуривает, откашливается, включает фары, сидюшник – что-то на английском, непонятное, зато забойное, разгоняющее сон и сомнения, и выкатывается на большую дорогу к морю.
Он не хочет ничего вспоминать. Он себе запретил. Все, что было, было не с ним. С ним произойдет совсем другое.
8
Между тем объявился, наконец, Марик, и отслеживающая ситуацию Ольга решила не терять попусту время.
Миня, отец Марика, был ее стариннейшим приятелем, можно сказать, дружком. В юности между ними облаком проплыло увлечение, сильно похожее на любовь, поисками которой, как принято, по молодости страдали оба. Романтичная Ольга, окончив балетное училище, была принята в труппу Большого, а пылкий и легковозбудимый Миня посещал все ее спектакли, даже если она танцевала тридцать второго, едва видимого из-за кулис, лебедя. Клакеры приметили и быстренько включили в свой боевой состав парня, который по команде хлопал, кричал «браво» и «бис» и делал это особенно громко, когда на сцене появлялась Ольга. После представления он встречал ее у театрального подъезда с розами – если удавалось достать, и провожал до дома, где Оленьку поджидали родители и где однажды, в преступное отсутствие оных, между молодыми людьми случился непредвиденный и высокий секс на поролоновой румынской тахте. Отношения тотчас гармонизировались, приняли серьезный оборот, и дело, по-видимому, наметилось к свадьбе.