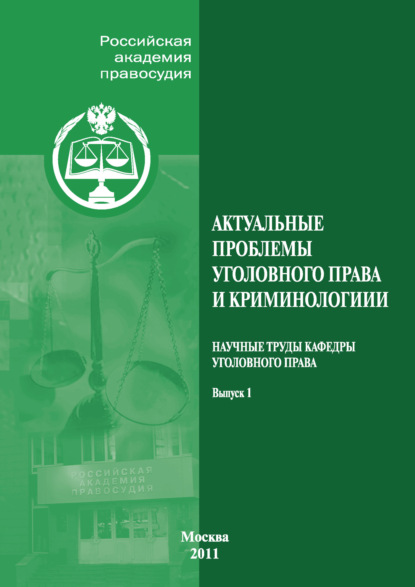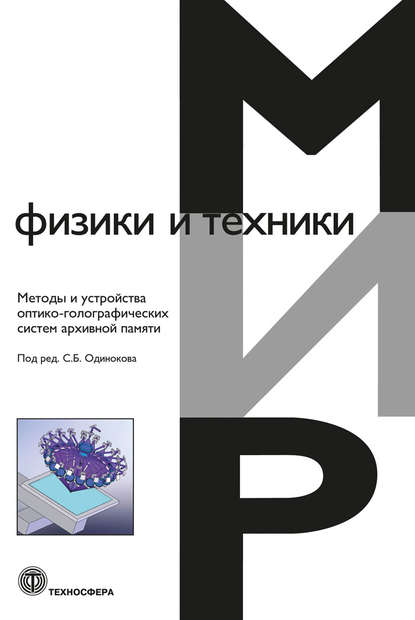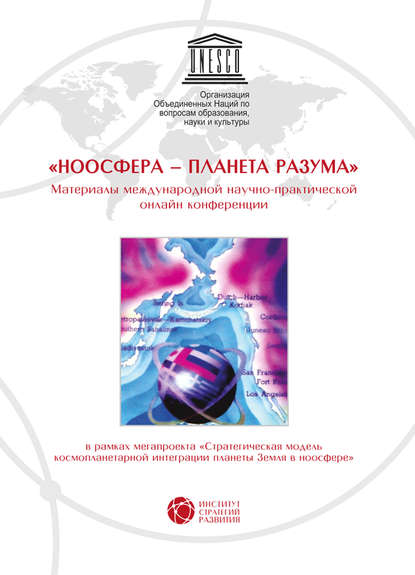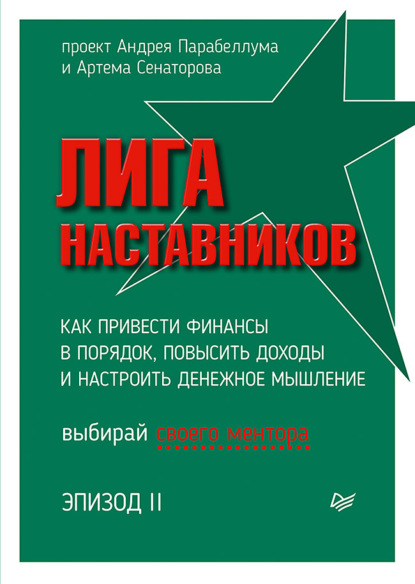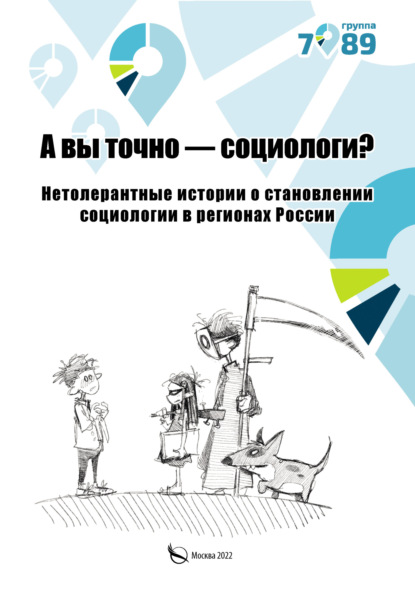
Полная версия
А вы точно – социологи? Нетолерантные истории о становлении социологии в регионах России

А вы точно – социологи?
Нетолерантные истории о становлении социологии в регионах России
Редактор-составитель Романович А. Л.
© Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89», 2022
© Авторы, 2022
© Акульшин М. В., иллюстрации, 2022
Рецензенты:
кафедра истории, культуры и социологии Волгоградского государственного технического университета (заведующая кафедрой доктор педагогических наук, профессор Петрунева Р. М.), г. Волгоград;
А. А. Ослон, кандидат технических наук, Президент Фонда «Общественное мнение», г. Москва;
М. В. Певная, доктор социологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Социология и технологии ГМУ» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург.
Редколлегия:
A. Л. Романович, исполнительный директор ИОМ «Квалитас», г. Воронеж (редактор-составитель);
B. В. Токарев, кандидат технических наук, доцент, директор ООО «Южный исследовательский центр», г. Волгоград;
Н. В. Дулина, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии и политологии Волгоградского государственного университета, г. Волгоград;
М. В. Акульшин, генеральный директор ООО «Системы информации и связи», г. Санкт-Петербург (отв. за оформление);
Е. Д. Куриленок, г. Воронеж (литературный редактор).
* * *Члены Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89» посвящают эту книгу памяти своего товарища и коллеги, советского и российского социолога Анатолия Валентиновича Стожарова, создателя одной из самых первых и одной из самых северных исследовательских компаний в России.
Анатолий Стожаров – один из основателей Ассоциации «Группа 7/89».
Светлая память нашему другу, замечательному человеку и талантливому ученому!
Благодарности
Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» выражает искреннюю признательность компаниям, оказавшим финансовую и организационную помощь в подготовке и издании этой книги.
В финансировании проекта, помимо самой Ассоциации «Группа 7/89», приняли участие 16 компаний, разбросанных по всей России – от Владивостока до Калининграда. Именно в этом порядке (с востока на запад, по движению Солнца) они перечислены ниже:
ООО «Дальневосточный Маркетинговый Центр “Мониторинг”», г. Владивосток;
ООО «ОМ-К», г. Красноярск;
МИГ «Маркис» (ООО «Золотая середина Барнаул»), г. Барнаул;
ООО «Центр маркетинговых исследований “Инфоскан”», г. Новосибирск;
ООО «Агентство исследований и разработок», г. Казань;
Лаборатория С.М.И.Т. (ООО «Смит»), г. Ижевск;
«Крепкий колхоз» (Фонд «Общественное мнение – Татарстан», г. Казань;
ООО «Олимп, г. Пенза;
ООО «ПСЦИ “Перспектива”», г. Ульяновск);
ООО «Южный исследовательский центр», г. Волгоград;
ООО «Центр социологических и маркетинговых исследований “Аналитик”», г. Волгоград;
Агентство маркетинговых коммуникаций «Регион-СК» (ИП Кузьмина О. А.), г. Ставрополь;
ООО «Институт общественного мнения Квалитас», г. Воронеж;
Фонд «Общественное мнение», г. Москва;
Маркетинговое агентство Zalessky (ИП Залесская М. В.), г. Москва;
ООО «Калининградский Социологический Центр», г. Калининград.
Огромное спасибо, дорогие друзья и коллеги! Без вашей помощи и поддержки завершение этой большой (и, на наш взгляд, важной) работы было бы невозможно.
К читателю
Эта книга – результат многомесячного и мучительного (но все равно – радостного) труда многих хороших и разных людей. Автором идеи и основной движущей силой проекта стал А. Л. Романович. Организационную и финансовую поддержку изданию оказали профессиональные ассоциации и отдельные исследовательские компании (все они перечислены на с. 5). Истории из своей жизни предоставили (кто-то по доброй воле, кто-то в результате «давления на глаза» со стороны организаторов проекта) руководители и сотрудники компаний, входящих в Ассоциацию «Группа 7/89». Не так-то просто все было.
В процессе работы над книгой, нам пришлось решать огромное число задач. Как содержательных, так и технических. Что можно писать, а что – нет? Кого следует упоминать, а кого не стоит? Какие термины нужно объяснять, а какие – и так всем понятны? Ну вот, в тексте истории упоминается, допустим, метод PAPI или проект R-TGI. Для любого, кто «в рынке», никаких комментариев не требуется – каждому понятно, что PAPI – это когда опрашивают с бумажной анкетой и ручкой, а R-TGI – это «Российский индекс целевых групп», проект, который много лет «выматывал кишки» десяткам, если не сотням региональных исследователей (он упоминается, например, в историях 4.16 и 5.12, см. с. 161 и c. 195).
Но мы же пишем не только для себя. Есть молодежь, которая этого PAPI в глаза не видела и думает, что ничего кроме Google-форм и онлайн-панелей в природе не существует. Есть наши жены-мужья-подруги-дети, которым наша жизнь интересна, но тонкости технологии они знать не обязаны. Есть студенты, которые думают, что социология – это только Макс Вебер и Георг Зиммель (а также, возможно, Александр Филиппов и Григорий Юдин), но ни в коем случае не Валерий Федоров и Александр Ослон (и уж, безусловно, не Владимир Звоновский и Анна Булгакова).
Наверное, для этих людей мы пишем тоже. Поэтому так и будем писать – по возможности подробно, комментируя то, что может быть непонятно или ложно понято.
Нам кажется, что издание этой книги – это не конец. Это начало. «Социология социологии» – это тоже социология. Социология профессии, теория среднего уровня. Такая же, например, как «астросоциология» или «социология образования». И мы в этом поле работаем. Как можем.
«Никто пути пройденного у нас не отберет». Что сделано, то сделано. С Богом!
От составителя
Как родилась сумасбродная идея этого сборника? Что натолкнуло меня на мысль собрать воедино столь разноплановые истории столь разных авторов?
Извольте, объясню.
Ноги (или что там?) этой идеи выросли из включенных наблюдений. Мы-то с вами, братья-социологи, знаем, что стоит собраться хотя бы трем представителям исследовательской индустрии – и не важно, где: в курилке, в бане или на природе под шашлычок, – как мощный поток забавных историй становится невозможно остановить.
Только если хорошим тостом – и то на время.
А уж если вам посчастливилось оказаться после мероприятия Ассоциации «Группа 7/89» на каком-нибудь «афтерпати» – скажем, в гостиничном номере, куда набилось несколько десятков друзей и коллег – то надо обладать недюжинным голосом и напором, чтобы вклиниться в разговор, перекричав все эти: «А вот у меня был случай», «Дайте, дайте я расскажу одну историю!» и взрывы неконтролируемого хохота.
Вот мне и подумалось: какое богатство забавных историй, неожиданных сюжетов, нетривиальных ходов просто пропадет и забудется, если не зафиксировать их на бумаге!
Когда-то в журнале «Крокодил» была сверхпопулярная рубрика «Нарочно не придумаешь». В свое время она пользовалась неизменным успехом у читателей. Так вот: считайте эту книгу профессионально ориентированной реинкарнацией той рубрики.
По счастью, идея была с восторгом принята коллегами, членами нашей Ассоциации.
Как это все воплощалось – отдельная песня, которую я вам пропою ближе к концу этого сборника.
Ну, а что получилось – судить тебе, дорогой читатель.
Александр Романович, ИОМ «Квалитас» (Воронеж)От одного из авторов
Когда нам «нарезали задач», связанных с подготовкой историй для публикации «Сборника историй», они (задачи то есть) показались мне (ТВВ), в общем, элементарными, легкими, немудрящими. А чего там? Работаем давно, историй всяких происходило множество. Отчего бы их не записать?
Но затем, в процессе размышления о том, что и как писать (и попыток это сделать), стали возникать разные проблемы. Ну вот, скажем, некоторые из них:
1. Во многих случаях истории неотделимы от их персонажей. Ну, невозможно рассказать историю, в которой участвовал, допустим, Сергей Проценко, не упоминая Сергея Проценко. А как его упоминать, когда вопрос с ним не согласован? А без него история разваливается. Как можно пересказать «Танец с саблями» Михаила Веллера[1], не упоминая Сальвадора Дали и Арама Хачатуряна? Я бы не смог. Однако одно дело – рассказать какую-то байку с участием, допустим, Алексея Макарова или Михаила Тарусина за столом, в кругу друзей, и совсем другое – вытащить ее напоказ «неограниченному кругу лиц». Хотелось бы избежать возможных обид и иных последствий.
2. То же самое и с проектами-клиентами. Конкретные байки «встроены» в проекты, проекты принадлежат клиентам. В очень многих случаях клиентов и их проекты мы разглашать не имеем права. Как рассказать байку про проект по тестированию подгузников «Памперс», не упоминая ни «Памперс», ни подгузники? У меня такое не очень получается.
3. Сам я уже довольно давно в поля не хожу и наблюдаю за ними несколько со стороны. Мои собственные истории – как минимум десятилетней давности. А барышни наши, с которыми сейчас эти истории происходят, записывать их не очень хотят. Хотя рассказать под хорошее настроение готовы. Я попытался записать их истории (рассказанные ими), – получается плохо. Нужно ситуацию чувствовать изнутри, а не просто о ней знать / слышать. Иначе получается пресно, скучно и вообще неправда.
В общем, писать абсолютно не хочется, писать лень, писать почти невозможно, да и, с моей точки зрения, – незачем.
Однако без баек нас не отпустят. Поэтому что-то делать нужно. Нужно писать. Что получится – то и получится.
Но прежде, чем начать излагать собственно байки – несколько дисклеймеров:
1. Абсолютное большинство приведенных ниже историй произошло много лет назад. В первое поле я вышел, по-моему, году в 1993-м, с первой для себя исследовательской организацией познакомился в 1998-м. Вот после этого, в общем, все и началось.
2. Практически все истории связаны с «традиционным полем» (PAPI[2]). Конечно, всякие Big Data[3] и CAWI[4] – это прекрасно с точки зрения технологий. Но с точки зрения «плотности ткани жизни» едва ли они сравнятся с опытом маршрутного опроса в астраханском селе Икряное в пору, когда еще в Волге оставалась «рыба»[5], а в ней (в «рыбе», то есть) была икра. Джеймс Хэрриотт[6] писал о работе ветеринара: «…наша профессия во многом утратила ее <увлекательность> с появлением множества новых медикаментов и способов лечения. В ветеринарной практике всегда отыщется что-нибудь забавное, потому что животные непредсказуемы и нередко ставят своих врачей в дурацкое положение, но все же не так, как в былые дни черной магии, редкостных и в основном бесполезных снадобий, от которых попахивало знахарством. Они канули в вечность, и хотя я радуюсь их исчезновению как ветеринар, как писатель я его оплакиваю». Примерно так же и с нашей профессией.
3. Хотя все истории «основаны на реальных событиях», считать их «документальными» – большая натяжка. Это не протоколы наблюдений, а воспоминания, зачастую записанные через много лет после того, как события произошли. И в реальном-то времени участники событий «врут как очевидцы», а уж через 10 лет – тем более.
4. Во всех случаях, когда история «инвариантна к участникам» (имена участников роли не играют), мы будем эти имена скрывать. В тех случаях, когда личность героя играет роль, мы будем вынуждены указать ее «как есть». Во-первых, потому что без этого история развалится. А во-вторых, потому что страна и профессиональное сообщество должны знать своих героев.
Ну, вперед!
Вассилий Токарев, «Южный исследовательский центр» / ЦСМИ «Аналитик» (Волгоград)От литературного редактора
Вы спросите, а почему байки-то «нетолерантные»? Немодно это и опасно по нынешним временам… Но перед нами не стояло задачи угодить конъюнктуре книжного рынка и выпустить книжку, приятную во всех отношениях.
Перед нами стояла задача зафиксировать процесс становления социологии как полевой науки на территории постперестроечной России. Становления, роста и превращения в одну из самых наукоемких, профессиональных, человеко-ориентированных и честных наук.
В нашем контексте «нетолерантные» – значит живые, честные, без ханжества и желания кому бы то ни было угодить. А понравится это стороннему читателю или нет – дело второе.
История не терпит подтасовок.
Евгения Куриленок, литературный редактор (Воронеж)Раздел 1. В начале было…
Так получилось, что значительная часть авторов этих новелл попала в профессиональную прикладную социологию почти случайно. Среди нас есть инженеры (самые разные – от электромехаников до экологов), физики (даже двое), экономисты, педагоги, врачи, военные, много кто еще. Хотя есть, конечно, и маркетологи, и преподаватели социологии.
Кто-то из нас стал социологом по второму-третьему-четвертому образованию, кто-то защитил кандидатскую или докторскую, а кто-то так и остался, с академической точки зрения, «рядовым необученным».
Но все мы, так или иначе, правдами или неправдами оказались «в одно время в одном месте», в общей для нас профессиональной среде. Оказались по разным и, подчас, весьма экстравагантным причинам.
В первом разделе мы приводим несколько историй о том, «откуда есть пошла»… ну… не «российская социология», конечно, но, по крайней мере, откуда пошел современный региональный рынок социологических и маркетинговых исследований.
1.1. Как я стала социологом
Нелли Романович, ИОМ «Квалитас» (Воронеж)

Моя дорога в социологию началась с того, что я влюбилась в философию, будучи студенткой инженерно-технического вуза. Сам предмет в сочетании с талантливым преподавателем произвел впечатление неизгладимое. Помню фамилию преподавателя – Королев. Его лекции собирали всех: здесь мы встречали студентов нашего факультета, которых не видели на прочих лекциях; сюда приходили студенты других факультетов. Походы на лекции по философии были неизмеримо интереснее, чем походы в кино, в театр или на концерт. На занятиях возникало ощущение счастья и эстетического наслаждения от красоты и глубины человеческой мысли, формировалось твердое желание быть к этому предмету причастной. С изумлением открыла для себя, что есть такая специальность – философ.
Инженерная пневмонияТогда мы с подругой, которая была со мной солидарна, решили забрать документы из института и пойти искать по свету, где могут научить такой специальности. Подошли к преподавателю философии – спросить, куда пойти учиться. Оказывается, он закончил философский факультет МГУ. Он стоял в коридоре института и орал так, что студенты оборачивались: «Дуры! Какие вы дуры! Зачем бросать институт?! Доведите до конца, закончите хотя бы одно образование! Потом, если захотите, можно будет получить второе». Советский закон тогда еще позволял получить второе образование бесплатно. Его эмоциональный напор поколебал наши намерения, мы забрали из ректората заявления, в которых просили вернуть нам документы, и продолжили учебу.
На самом деле, интуиция тогда нас не обманула. Мы нащупали свою дорогу. Не только я, но и подруга, спустя многие годы, тоже сменила свою специальность. Она стала доктором философских наук, в настоящее время является проректором Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (бывшего ВИСИ, Воронежского инженерно-строительного института). Но путь к заветной цели у каждой из нас был долгим и не простым.
После окончания Воронежского инженерно-строительного института (ВИСИ) мы (я и подруга) устроились работать по специальности. Это не была наша заслуга, это не наше желание, это была просто разнарядка. Каждый специалист после окончания вуза обязан был «оттрубить» два года на предприятии соответствующего профиля. Такие были законы в то время. Поэтому проблем с трудоустройством молодых специалистов просто не возникало. Я закончила вуз (ВИСИ) в 1982 году, получила диплом по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция» и пошла работать инженером-проектировщиком в Научно-исследовательский институт «Кузмаш». Чем я занималась? С утра до вечера делала чертежи вентиляционных и отопительных систем (газовых – не доводилось).
Помню ощущение ожидания звонка окончания работы в НИИ «Кузмаш» (там начинали и заканчивали работать по звонку), когда я за чертежами то и дело смотрела на часы – сколько еще осталось до конца работы. Нелюбовь к своей работе человека разлагает, сначала чувствуешь, что что-то не в порядке в душе, а потом этот непорядок отражается и в теле. Меня мучило ощущение потери смысла жизни, как будто я заблудилась и не знаю, куда идти. И я заболела просто, без всяких видимых причин, двусторонним воспалением легких. Странно, но антибиотики на меня не действовали даже тогда, когда в больнице на мне перепробовали весь современный арсенал. И тогда я себе дала обещание, что сделаю все, чтобы как-то связать свою жизнь с философией и поменять работу. На следующий день после трех недель горячки у меня была впервые нормальная температура. Задача найти любимую работу для меня стала делом жизни и смерти.
После выздоровления я принялась осуществлять задуманное. Как-то взяла отгул, поехала в МГУ, пришла на факультет философии, чтобы узнать, что нужно для поступления туда. Мне сказали, что нужно разрешение от райкома комсомола, горкома партии (партия тогда была одна – коммунистическая) и направление от предприятия. Это только, чтобы подать документы на философский факультет. А потом ждали экзамены, но для меня это было уже проще – все философские работы в местной библиотеке были зачитаны-перечитаны. В комитете комсомола со мной провели собеседование, и выдали требуемое разрешение. Труднее было получить разрешение от горкома партии – там устроили настоящий экзамен по ленинским работам, но, в конце концов, я и от них получила разрешение.
С непреодолимыми трудностями я столкнулась, когда дошла очередь до направления с предприятия. Когда я пришла с этим вопросом к директору НИИ «Кузмаш», он чуть не поперхнулся.
– Ну представьте себе, – говорил он мне, – вот я вам выдам справку, что мне в отдел вентиляции и теплоснабжения нужны философы! Да надо мною будут смеяться все мои коллеги! Мне потом проходу не дадут… Вы хотите, чтобы надо мной все издевались?!
Я, конечно, этого не хотела. Вернее, я хотела совсем не этого. Поэтому я уволилась из НИИ «Кузмаш» и пошла работать инженером Государственного проектного института «Проектпромвентиляция» в надежде, что у нового директора окажется меньше ехидных коллег.
Как ни странно, переход в «Проектпромвентиляцию» в итоге предопределил мою социологическую стезю, где я нашла любимую работу. Хотя все произошло вовсе не так, как я изначально планировала. Вообще, я думаю, что на земле нет такой цели, достижение которой было бы для человека невозможным. И не потому, что человек всемогущ. А потому, что, когда у человека есть цель и есть решимость ее достичь, мир вокруг него меняется, как бы подстраивается под него. Как только человек начинает делать первые шаги в сторону осуществления этой цели, судьба расстилает ему зеленую ковровую дорожку под ноги. Лишь бы была цель и была решимость. Это необходимое и достаточное условие. Собственно, наличие цели есть необходимое условие для жизни человека вообще. Без цели человек рассыпается, разлагается…
Между философией и психологиейПриближало меня к цели стечение, казалось бы, случайных обстоятельств. Не прошло и полугода после моего перехода в «Проектпромвентиляцию», как нас (троих сотрудников, включая меня) отправили в командировку в Новороссийск. Там, набегавшись по пыльным и душным цехам за день, мы после работы стремились на пляж, благо наша гостиница была у самого Черного моря, а на улице пылала июльская жара. Молодые люди на пляже частенько останавливались, пытаясь завязать со мной знакомство, но вскоре уходили ввиду бесперспективности своих попыток. И когда на край соседнего лежака присел молодой человек, ситуация не предвещала ничего неожиданного. После того, как он сказал, что тоже приехал в Новороссийск из Воронежа, я поинтересовалась, кем он работает. «Философом», – ответил он без всякого энтузиазма. Меня приподняло на лежаке: «Кем?!» «Преподаю философию в воронежском вузе, – он с удивлением развел руками, видя явную перемену в моих глазах, – Вот уж не думал, что это может зацепить девушку». Мы разговорились, и я ему рассказала, что хотела бы сменить работу. Он посерьезнел:
– А вот, кстати, перед моим отъездом к нам на кафедру звонил преподаватель из сельскохозяйственного университета, он искал желающих пойти к нему в социологическую лабораторию. Его фамилия – Хайкин. А вот у меня даже в записной книжке есть его телефон. Сергей Романович – так его зовут.
– А что такое социология? – спросила я.
– Ну, это что-то среднее между философией и психологией, – ответил он, немного поразмыслив.
Это объяснение меня устроило. Так у меня оказался заветный телефон Сергея Романовича Хайкина, которому я тут же позвонила, как только вернулась из командировки. Шансов попасть к нему на работу у меня не было, поскольку не было соответствующего образования. Я это понимала, поэтому подготовилась основательно: исписала всю «общую» тетрадку (так назывались тетрадки размером в 40 страниц в советское время) текстом со своими размышлениями на тему советского строя и образа жизни, вдохновленная известной статьей Александра Ципко[7], которая как раз накануне вышла. Шел 1988 год.
Проба пераСергей Романович неохотно согласился на встречу со мной и, скептически пролистав «общую» тетрадь, назвал это бредом. На работу он меня не взял, но сбрасывать со счетов тоже не стал, а предложил мне поучаствовать в социологических исследованиях в качестве интервьюера (как раз тогда комитет комсомола проводил опросы рабочих Воронежского авиационного завода). Исследование называлось «Основные направления и факторы повышения эффективности работы комсомольской организации ВАПО». Альтернативы ответов из каждой анкеты я выписывала в тетрадку, а потом вручную считала «среднее». Эта тетрадка у меня сохранилась, любопытно сейчас читать ответы на открытые вопросы рабочих из разных цехов: «Каждому рабочему – ЭВМ», «Сократить ненужные бюрократические штаты, а остальным повысить зарплату», «Соблюдать нормы загазованности, освещенности и шума на деле», «Больше гласности в распределении премий и профсоюзных благ», «Ликвидировать сельхозработы и использование людей на посторонних работах, не соответствующих профессии и квалификации», «Уменьшить физический труд, повысить уровень механизации, организовать производство на научной основе», «Заинтересовать каждого в конечном результате, быстрее сделал – быстрее ушел», «Больше производственной эстетики», «Избавиться от формализма и показухи в подведении итогов», «Соцсоревнование не оправдало себя, это фикция», «Заменить так называемые соцсоревнования хоздоговором и конкуренцией», «Не зажимать талантливую молодежь, больше доверять молодежи, давать ей дорогу» и т. п. А инженеры просили: «Обеспечить исправность кульманов, наличие элементарных приспособлений и устройств: хорошие готовальни, резинки, рапидографы», «Заменить деревянные карандаши на цанговые» и тоже: «Не отвлекать людей на посторонние работы в колхозах, на базах, комбинатах общественного питания, в больницах».
Тогда такие ответы казались естественными, а сегодня многим будет непонятно, с какой стати инженера сорвали с работы и послали в колхоз собирать картошку или на овощную базу перебирать гнилую капусту. Из этого следует, что свобода работников была ограничена. Но ограничена она была все же делами, направленными на общее благо. Да, они были недовольны этим, но считали, что в принципе это допустимо, потому что чувствовали себя одним обществом, одной страной, где каждый работает на всех. Замена этой установки на противоположную: «каждый работает только на себя» – произойдет чуть позже.
С удивлением обнаруживаю, читая записи ответов советских респондентов, что работа общественных лекторов в рабочей среде была востребована. Рабочие высказывают свои пожелания: «проводить больше интересных лекций», «больше выступать с лекциями и докладами самой администрации», «повысить профессионализм лекторов», «искать новые формы обучения с применением видеотехники», «как можно чаще проводить комсомольские собрания», «проводить политинформации»… Одновременно звучала и критика: «сделать агитацию не навязчивой», «идейно-воспитательные работы должны проводить идейно-воспитанные люди», «повысить требовательность к тематике и формам проведения идейно-воспитательных работ», «больше правды, меньше воды», «вернуться к ленинским принципам»… Конечно, кто-то выступал против: «идейно-воспитательная работа не нужна», «у меня нет на эту работу ни времени, ни желания», – но противников было вовсе не 100 % и даже не 50 %, а где-то меньше 10 %. Это был один из первых социологических опросов в Воронеже, в глазах респондентов читалась благодарность, что их мнением интересуются, они не уходили от ответов, отвечали откровенно – это было видно.