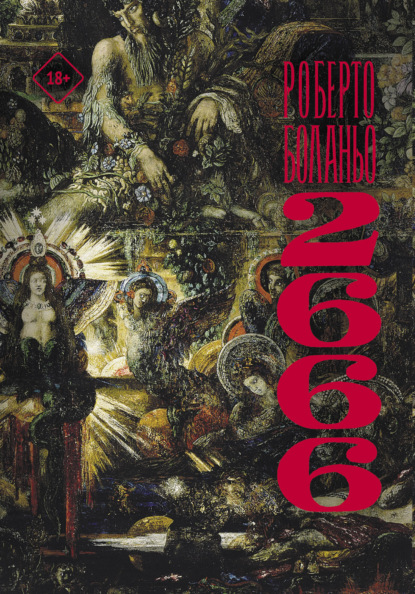
Полная версия
2666
Однако нас интересует именно сорок шестой номер, потому что именно там стало очевидным разделение исследователей на две противостоящие друг другу группы: Пеллетье, Морини и Эспиноса против Шварца, Борчмайера и Поля; а кроме того, именно в этом номере опубликовали статью Лиз Нортон: блестящую – с точки зрения Пеллетье, хорошо аргументированную – с точки зрения Эспиносы, любопытную – с точки зрения Морини; а еще автор публикации (хотя об этом ее никто не просил) присоединилась к тезисам француза, испанца и итальянца, которых она свободно цитировала, показывая тем самым, что прекрасно знакома с их работами и монографиями, опубликованными в специальных журналах или малыми издательствами.
Пеллетье подумывал написать ей письмо, но в итоге так и не написал. Эспиноса позвонил Пеллетье и спросил, не стоит ли им связаться с ней. Оба пребывали в нерешительности и оттого пришли к соглашению: надо спросить у Морини. Морини вовсе ничего им не ответил. О Лиз Нортон они с уверенностью могли сказать следующее: она преподает немецкую литературу в одном из лондонских университетов. Да и она, в отличие от них, не профессор.
Конференция по вопросам немецкой литературы в Бремене прошла не без сюрпризов и выдалась весьма шумной. Никто из немецких филологов, занимавшихся Арчимбольди, не ожидал, что Пеллетье с верными его делу Морини и Эспиносой перейдут в наступление подобно Наполеону под Йеной – и вот враг, вставший под знамена Поля, Шварца и Борчмайера, побежит и рассредоточится по кафе и барам Бремена. Молодые немецкие преподаватели, также присутствовавшие на конференции, приняли сторону – с определенными оговорками, конечно, – Пеллетье и компании. Публика, бóльшую часть которой составляли студенты и преподаватели университета, приехавшие из Геттингена на поезде или микроавтобусах, также высказалась – причем безо всяких оговорок – в пользу зажигательных и лапидарных формулировок Пеллетье и с энтузиазмом восприняла дионисийское, праздничное видение текстов Арчимбольди, интерпретирующее его прозу как отражение последнего карнавала (или, если угодно, предпоследнего карнавала), – словом, тоже встала на сторону Пеллетье и Эспиносы. Два дня спустя Шварц со своими подпевалами контратаковали. Фигуре Арчимбольди они противопоставили другую – Генриха Бёлля. И заговорили об ответственности. Противопоставили фигуре Арчимбольди еще и Уве Йонсона. И заговорили о страдании. Противопоставили фигуре Арчимбольди – Гюнтера Грасса! И заговорили о гражданском согласии. Борчмайер дошел до того, что противопоставил фигуре Арчимбольди Фридриха Дюрренматта и заговорил о юморе! Подобное бесстыдство вывело из себя даже Морини. И тут, словно по воле Провидения, появилась Лиз Нортон и отбила контратаку подобно Дезе и Ланну в битве при Маренго: эта белокурая амазонка на совершенном (пусть и слишком быстром) немецком методично растерла оппонентов в пыль, помянув Гриммельсгаузена, Грифиуса и многих других, включая даже Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, более известного под именем Парацельс.
Тем же вечером они все вместе отужинали в каком-то заведении, тесном и длинном одновременно, расположенном на темной улице рядом с рекой и зажатым с обеих сторон старинными, ганзейских еще времен, домами, походившими на здания, покинутые нацистской администрацией.
Им пришлось спускаться к этой жутковатой едальне по мокрым от измороси ступеням, и Лиз Нортон сначала расстроилась, но вечер выдался не только длинным, но и весьма приятным, а Пеллетье, Морини и Эспиноса оказались людьми, чуждыми всякому высокомерию, так что Нортон быстро освоилась за столом. Естественно, она знала и читала бóльшую часть их работ, однако для нее оказалось сюрпризом (и, надо сказать, приятным сюрпризом), что они также знали некоторые ее статьи. Разговор вертелся вокруг четырех тем: сначала они смеялись, вспоминая взбучку, которую Нортон устроила Борчмайеру, и как тот испугался и боялся все больше и больше, пока Нортон безжалостно его теснила; затем они поговорили о будущих встречах, в особенности об одной весьма странной: ее проводил Университет Миннесоты, и на конференцию должны были прибыть более пятисот преподавателей, переводчиков и специалистов по немецкой литературе, и все это было слишком прекрасно, так что Морини весьма обоснованно подозревал, что речь идет о какой-то утке; затем разговор зашел о Бенно фон Арчимбольди и о его жизни, о которой никто ничего толком не знал: все, начиная с Пеллетье и заканчивая Морини, который против обыкновения тем вечером не молчал, а был весьма многословен, обменивались историями и слухами, в очередной раз сополагая скудные факты и расплывчатые сведения, пытаясь, подобно тому, кто раз за разом возвращается к любимому фильму, отыскать хоть какую-то зацепку относительно того, где и как мог бы жить великий писатель; и, наконец, гуляя по мокрым и освещенным (правда, не без перебоев в освещении, и тут Бремен походил на устройство, питаемое короткими, но весьма сильными разрядами тока) улицам, они говорили о себе.
Оказалось, что они, все четверо, не связаны брачными узами, и это показалось им неким ободряющим знаком. Все четверо жили одни, хотя Лиз Нортон время от времени делила свою лондонскую квартиру с братом – искателем приключений, который работал на неправительственную организацию и лишь время от времени наведывался в Англию. Все четверо посвятили себя работе, хотя Пеллетье, Эспиноса и Морини были уже докторами наук, а первый и второй, ко всему прочему, руководили кафедрами, а Нортон только начала писать докторскую и не думала, что когда-либо сможет занять кресло руководителя кафедры германской филологии в своем университете.
Поздним вечером, уже засыпая, Пеллетье вспоминал не перепалки на конференции, а то, как он гулял по прибрежным улицам, а Лиз Нортон шла рядом, Эспиноса катил инвалидную коляску Морини и как они все вчетвером смеялись над бременскими музыкантами, которые наблюдали за ними или за их тенями на асфальте, выстроившись друг у друга на спинах в милую, сужающуюся кверху башенку.
С этого дня и с этого вечера они где-то раз в неделю звонили друг другу, все четверо, не обращая внимания на телефонные счета и зачастую поздней ночью.
Иногда Лиз Нортон звонила Эспиносе и справлялась о здоровье Морини, с которым она говорила вчера и нашла его в подавленном расположении духа. В тот же день Эспиноса звонил Пеллетье и сообщал тому, что Нортон звонила и – вот, здоровье Морини опять пошатнулось, а Пеллетье сразу же бросался звонить Морини, без обиняков спрашивая, как тот себя чувствует, посмеиваясь вместе с ним (Морини, кстати, всячески избегал серьезных разговоров на эту тему), потом они перекидывались парой слов о всяких рабочих перипетиях. А потом он набирал англичанке чуть ли не в полночь, заодно сервировав себе обильный и изысканный ужин – почему бы не соединить два удовольствия, от разговора и от еды, в одно. Он уверял Нортон, что состояние Морини (учитывая всегдашнюю хрупкость его здоровья) хорошее, обычное и стабильное, а то, что Нортон сочла подавленностью, вовсе не подавленность, а обычное состояние духа итальянца, чувствительного к переменам погоды (видимо, в Турине плохая погода, а может, Морини просто приснился непонятно какой кошмар), завершая таким образом цикл, которому на следующий день или через два дня предстояло повториться: Морини звонил Эспиносе, просто так, не по делу, чтобы спросить, как дела, перекинуться парой слов, и разговор неизбежно сползал ко всяким пустякам, беседам о погоде (словно бы Морини и даже Эспиноса усвоили британские обычаи ведения светской беседы), мнениям о просмотренных фильмах, равнодушным комментариям к недавно читанным книгам – словом, это был обычный скучный телефонный разговор, который Эспиноса часто вел без особой охоты, но тем не менее выслушивал собеседника – редко когда с энтузиазмом, все больше с деланым энтузиазмом или с участием, во всяком случае, всегда оставаясь в рамках цивилизованной вежливости, – а вот Морини вкладывал в разговор всю душу, словно бы не было у него занятия важнее; за этим разговором следовал через два или три дня или через несколько часов другой, похожий, только Эспиноса звонил Нортон, а та звонила Пеллетье, а тот набирал номер Морини, и через несколько дней цикл начинался заново, трансмутируя в тайный, доступный лишь специалистам код, чьи означаемое и означающее исходили и возвращались к Арчимбольди, к его тексту, подтексту и паратексту, реконкисте вербального и телесного на финальных страницах «Битциуса», что для данного случая было эквивалентно разговорам о кино, или проблемах кафедры немецкого, или тучах, которые неустанно, днем и ночью, проплывали над их родными городами.
Они снова встретились на коллоквиуме по послевоенной европейской литературе – тот проходил в Авиньоне в конце 1994 года. Нортон с Морини приехали в качестве слушателей, впрочем, поездку на конференцию им оплатил университет, а Пеллетье и Эспиноса выступили с докладами о важности творчества Арчимбольди для современной культуры. Француз сосредоточился на характерной для писателя изолированности, на столь очевидном и украшающем все книги Арчимбольди разрыве с немецкой традицией – чего нельзя сказать о традиции европейской. Доклад испанца – кстати, одна из самых занимательных его работ – был посвящен тайне, окутывающей фигуру Арчимбольди: о нем никто – даже его издатель – не знал ничего, его книги выходили без фотографии автора на клапане суперобложки или на задней стороне обложки, биографические данные практически отсутствовали (немецкий писатель, родился в Пруссии в 1920 году), где он живет – тоже неизвестно, впрочем, однажды издатель, давая интервью «Шпигелю», проговорился, что получил одну из рукописей с Сицилии; никто из все еще живущих коллег никогда его не видел, ни одной биографии на немецком не издавалось, и это несмотря на то, что книги его продавались все лучше и лучше не только в Германии, но и в остальной Европе и даже в Соединенных Штатах, где публике нравятся писатели-невидимки (пропавшие без вести или миллионеры) или легенды о таковых и где его творчество пользовалось успехом и набирало популярность не только на кафедрах немецкой филологии университетов, но и в их кампусах и даже за пределами кампусов – в огромных городах, где больше любили устную или визуальную литературу.
По вечерам Пеллетье, Морини, Эспиноса и Нортон отправлялись вместе ужинать; иногда к ним присоединялись один или несколько филологов-германистов, с которыми они уже несколько лет как были знакомы, но те или уходили пораньше спать в свои гостиницы, или оставались до конца вечера, но скромно держались на вторых ролях, словно бы понимали: вот эта четырехугольная фигура, которую составляли арчимбольдисты – она не примет внутрь никого более, а кроме того, в этот поздний час эти четверо вполне могут напасть на незадачливого собеседника, пытающегося разрушить сложившийся статус-кво. В конце концов они оставались одни и вчетвером бродили по авиньонским улицам – беззаботные и счастливые, как тогда, когда гуляли по темным и застроенным чиновничьими зданиями улицам Бремена, и как будут бродить по самым разным улицам, которые уже приготовило для них будущее: коляску Морини катила Нортон, Пеллетье шел слева, а Эспиноса справа, или коляску катил Пеллетье, Эспиноса шел слева, а Нортон перед ними, пятясь лицом к ним и хохоча, как хохочут в двадцать шесть, когда вся жизнь впереди, и на этот заразительный смех сложно было не ответить таким же смехом, хотя они бы с бо`льшим удовольствием не смеялись, а смотрели и смотрели на нее; или же они выстраивались бок о бок перед невысокой оградой, за которой текла легендарная река, уже укрощенная, а не дикая, и болтали о немецкой одержимости порядком, не перебивая друг друга, наслаждаясь интеллектуальной игрой, своей и собеседников, и вдруг замолкая, надолго, и это молчание не мог прервать даже дождь.
Когда Пеллетье вернулся в конце 1994 года из Авиньона, вошел в свою парижскую квартиру, бросил чемодан на пол и закрыл дверь, когда налил себе стакан виски, раздвинул занавески, за которыми обнаруживался все тот же привычный пейзаж – часть площади Бретей и в глубине здание ЮНЕСКО, – когда снял пиджак, оставил стакан на кухне и прослушал сообщения на автоответчике, когда понял, что хочет спать, и веки отяжелели, но не лег и не уснул, а вместо этого разделся и принял душ, включил компьютер и уселся перед ним в белом халате, доходившем ему почти до щиколоток, – только тогда он понял, что скучает по Лиз Нортон и отдал бы все, чтобы оказаться рядом с ней, и не ради разговора, а в постели, чтобы сказать: я тебя люблю, и из ее уст услышать: да, я тоже люблю тебя.
Что-то подобное испытывал и Эспиноса, но с Пеллетье у него не совпадали два момента. Во-первых, он почувствовал необходимость оказаться рядом с Лиз Нортон еще до того, как вернулся в свою мадридскую квартиру. Уже в самолете он понял: это его идеальная женщина – та, кого он всю жизнь искал, – и начал страдать. Во-вторых, в мыслях об англичанке, которые проносились у него в голове со сверхзвуковой быстротой (все это случилось, пока он летел в самолете со скоростью 700 километров в час курсом на Испанию), – так вот, в этих его мыслях сексуальных сцен было побольше: не слишком много, но определенно больше, чем у Пеллетье.
Напротив, Морини, ехавший в поезде Авиньон – Турин, провел время путешествия за чтением культурного приложения «Иль Манифесто», а потом уснул и открыл глаза, лишь когда кондукторы (они потом помогли ему спустить коляску на перрон) сообщили, что он приехал.
А вот про мысли, которые проносились в голове у Нортон, лучше вообще не говорить.
Тем не менее арчимбольдисты продолжили оставаться друзьями как ни в чем не бывало, ибо дружбой их повелевало предназначение большее, чем личные желания каждого, – а судьбе надобно повиноваться.
В 1995 году они встретились на конференции «Диалог о современной литературе» в Амстердаме, где их, естественно, интересовала секция немецкой литературы; одновременно в том же здании (хоть и в разных аудиториях) шли заседания секций французской, английской и итальянской литературы.
Излишним будет сказать, что бóльшая часть присутствующих на столь занимательных заседаниях направилась в зал, где шла дискуссия о проблемах современной английской литературы, причем в соседнем зале заседала секция литературы немецкой, а разделяла их стена, как очевидно, вовсе не из камня, как в старые добрые времена, а из покрытых штукатуркой хрупких кирпичиков, так что вопли и завывания, и в особенности аплодисменты, которые срывала литература английская, слышались в аудитории литературы немецкой так же хорошо, как если бы заседания обеих секций проходили в одном и том же помещении или англичане над ними смеялись, а может, даже бойкотировали, не говоря уж о публике, которая прямо-таки рвалась на секцию английской (или англо-индийской) литературы и превосходила числом редких и мрачных слушателей, которые приходили на дискуссию о немцах. Что, в конечном счете, оказалось весьма полезным, ибо всем известно, что разговор, в котором участвуют немногие и где все внимательно выслушивают друг друга, размышляют над сказанным и никто не кричит, – обычно более продуктивный и в самом худшем случае – более раскрепощенный, чем диалог в толпе, который постоянно грозит переродиться в митинг или, поскольку времени у выступающих в обрез, в сплошные лозунги, что появляются и тут же бесследно исчезают.
Но прежде чем мы перейдем к главному вопросу повестки дня, в смысле диалога, нужно уточнить кое-что совсем не банальное касательно результатов конференции. Организаторы – те самые, которые оставили без внимания современную испанскую (польскую и, скажем, шведскую) литературу в связи с отсутствием средств или, скажем, времени, – на манер предпоследнего каприза взяли и ухнули бóльшую часть денег на то, чтобы пригласить (и как пригласить – со всей прилагающейся роскошью!) звезд английской литературы, а на оставшиеся деньги привезли трех французских романистов, итальянских поэта и сказочника, ну и трех немецких писателей: первые двое – романисты из Западного и Восточного Берлина, теперь воссоединившихся, – пользовались некоторой известностью (и приехали в Амстердам на поезде и не стали протестовать, когда их поселили во всего лишь трехзвездочную гостиницу), а третий оказался существом неясного вида и звания, так что о нем никто не знал ничего, даже Морини, а уж Морини-то современную немецкую литературу знал прекрасно, в диалоге или без оного.
Этот неясный литератор, шваб по происхождению, в ходе лекции (или диалога, как кому больше нравится) ударился в воспоминания о своем жизненном плавании: как работал журналистом, как уснащал последними новостями культурные колонки, как вел собеседования с разного калибра творцами, а все они терпеть не могли собеседования; а затем он стал перебирать в памяти события времени, когда он был ответственным за культурные мероприятия в мэриях заштатных (откровенно говоря, всеми позабытых) городков, где, тем не менее, хватало охочей до культурного досуга публики, и вот тут, вдруг, безо всякого повода, он взял и упомянул Арчимбольди (возможно, на него так подействовал предшествующий круглый стол, который модерировали Эспиноса с Пеллетье), и выяснилось, что они познакомились как раз в то время, когда неясный литератор двигал культуру в одном фризском городке к северу от Вильгельмшейвена, у побережья Северного моря и напротив Восточно-Фризских островов, и там было холодно, очень холодно, и мало того что холодно, так еще и влажно, да, там царила эта соленая от моря, пробирающая до костей влажность, и зиму там можно было пережить лишь двумя способами: первый – упиться до цирроза печени, второй – посиживать в актовом зале мэрии, то слушая музыку (обычно там выступали камерные квартеты из музыкантов-любителей), то беседуя с литераторами из других городов, которым платили очень мало, селили в комнатку единственного в городке пансиона, плюс выдавали несколько марок, что покрывало расходы на путешествие поездом туда и обратно, а те поезда были не нынешнем чета, однако ж в них пассажиры были разговорчивее, воспитаннее, внимательнее к ближнему, – одним словом, с этим гонораром и с оплаченными билетами на поезд литератор уезжал из тех мест и возвращался домой (впрочем, какой там дом, зачастую это была комнатка в гостинице Франкфурта или Кельна) с кое-какими деньгами в кармане, к тому же им часто удавалось продать несколько своих книжек, потому что эти писатели и поэты – и в особенности поэты, – прочитав несколько страниц из своих виршей и ответив на вопросы жителей городка, ставили там, как говорится, ларек и зарабатывали еще несколько марок сверх гонорарных, и всем это очень нравилось, потому что если людям приходилось по душе то, что писатель читал, или если чтение бередило душу, или развлекало, или заставляло задуматься, – что ж, тогда они покупали какую-то из его книг на память об удавшемся вечере, в то время как по закоулкам фризского городка гулял и свистел ветер, и холод пробирал до костей; а иногда чтобы прочитать и перечитывать какое-нибудь стихотворение или рассказ, уже у себя дома несколько недель спустя и время от времени при свете керосиновой лампы, потому что часто отключали электричество, это тоже понятно: война всего ничего как закончилась, социальные и экономические раны еще кровоточили словом, тогдашние литературные чтения очень походили на нынешние, единственно, книги с тех лотков издавались за счет автора, а сейчас этим всем занимаются издательства, так вот, один из авторов, что приехал в городок, где наш шваб отвечал за культуру, был Бенно фон Арчимбольди, писатель такой же величины, как Густав Хеллер, Райнер Кюхль или Вильгельм Фрайн (Морини потом перелопатил энциклопедию немецкой литературы в поисках этих имен – и напрасно), и он не привез книги, но прочитал две главы из пишущегося романа, второго по счету, а первый, припомнил шваб, он уже издал в том году в Гамбурге, и вот из него он ничего не прочитал, а этот первый роман тем не менее был не фикцией, сказал шваб; Арчимбольди, видимо заранее решив развеять возможные подозрения, привез с собой экземпляр, такую тоненькую книжицу, страниц на сто, максимум – на сто двадцать – сто двадцать пять, и книжку он носил в кармане куртки, и вот же какая странность: шваб лучше запомнил куртку Арчимбольди, чем засунутый в ее карман роман, даже не роман – романчик, в грязной и помятой обложке, которая раньше была интенсивного цвета слоновой кости, или побледневшего пшенично-желтого, или исчезающе золотистого, а теперь никакого цвета с никаким оттенком, разглядеть можно было лишь имя автора, название романа и издательский штамп; а вот куртка – о, ту куртку невозможно забыть: она была кожаная, черная, с высоким воротником, прекрасно защищала от снега, дождя и холода, свободно сидела, так что под нее можно было надевать толстый свитер или даже два, и никто бы их не заметил под курткой, и там еще было с каждой стороны по горизонтальному карману, и ряд из четырех пуговиц, пришитых, похоже, леской от удочки, не слишком больших и не слишком маленьких, – в общем, куртка та вызывала воспоминания, уж не знаю почему, о том, как одевались полицейские из гестапо, хотя, с другой-то стороны, в то время черные куртки были на пике моды и все, у кого хватало денег купить такую, и все, кто ее унаследовал, носил куртку и в ус не дул насчет всяких там воспоминаний; так вот, этот писатель, что приехал во фризский городок, в общем, это был Бенно фон Арчимбольди, ему тогда исполнилось лет двадцать девять или тридцать, и это был именно я, говорил шваб, именно я отправился его встречать на станцию и отвез потом в пансион, а пока ехали, они разговаривали о климате, какой он здесь ужасный, а потом он привел его в мэрию, где Арчимбольди никакого лотка не поставил и прочитал две главы из еще не оконченного романа, а потом они ужинали в местном ресторанчике, там еще присутствовали школьная учительница и некая овдовевшая дама, которая предпочитала музыку и живопись литературе, но, будучи в ситуации отсутствия музыки и живописи, не впадала в прострацию, а вовсе даже наслаждалась литературным вечером, и вот эта дама, именно она, приняла основной удар на себя и занимала гостя разговором за ужином (сосиски с картошкой под пиво – простовато, но время, говорил шваб, было такое, да и денег мэрия выделяла в обрез), хотя, наверное, про удар – это не слишком точная формулировка, это была скорее дирижерская палочка, рулевое весло беседы, и сидевшие за столом мужчины – секретарь мэра, джентльмен, торговавший соленой рыбой, старичок учитель, засыпающий на ходу и даже с вилкой в руке, и служащий мэрии, милый юноша по имени Фриц, они с ним давно сдружились, – так вот, все они кивали и не осмеливались вступить в спор с грозной вдовой, тем более что она разбиралась в искусстве получше них всех, в том числе лучше меня, говорил шваб, путешествовала по Италии и Франции, а в 1927 или 1928 году, в одной из поездок (о, это был незабываемый круиз) добралась даже до Буэнос-Айреса, а в те времена город был Меккой торговцев мясом, из порта один за другим выходили суда с холодильными установками на борту, и это было достойное внимания зрелище, сотни кораблей приходили туда пустыми и выходили загруженные тоннами мяса, куда только они не плыли, и когда она, в смысле дама, показывалась на палубе, например ночью, и ее мучили сонливость, или боль, или морская болезнь, стоило ей облокотиться на леер и дать глазам время привыкнуть – вид на порт становился потрясающе красивым и мгновенно излечивал кого угодно, прогоняя дремоту, или тошноту, или остаточную боль – у нервной системы хватало ресурса лишь на то, чтобы сдаться на милость этого образа: перед глазами у нее проходили муравьиной цепочкой иммигранты, затаскивающие в трюмы кораблей мясо тысяч мертвых коров, плыли в воздухе поддоны, нагруженные мясом принесенных в жертву телят, и каждый уголок порта окрашивался нежным цветом, и эта легкая завеса висела над гаванью с рассвета до заката, а иногда и ночами, и то был цвет стейка с кровью, стейка на кости, цвет вырезки, цвет ребер, которые едва-едва прижарили на гриле, какой ужас, слава богу, дама, тогда еще не вдова, видела все это лишь в первую ночь, а потом они сошли с корабля и остановились в одном из самых дорогих отелей Буэнос-Айреса, и они пошли в оперу, а потом отправились в имение, где ее муж, опытный наездник, принял предложение сына хозяина, и они соревновались в скачке, и сын хозяина проиграл, а потом ее супруг соревновался с одним из пеонов, гаучо, тот был доверенным человеком хозяйского сына, и пеон тоже проиграл, а потом они скакали наперегонки с сыном этого гаучо, мальчишкой шестнадцати лет, тоже пастухом, и парнишка был худ как соломинка, и в глазах его таилась живая искра, да такая яркая, что, когда дама на него посмотрела, тот опустил голову, потом чуть приподнял ее, и во взгляде его полыхнула такая злоба, что дама почувствовала себя оскорбленной: что ж такое, еще сопляк, а уже какой наглый, а супруг ее хохотал и говорил по-немецки: «Смотри, ты произвела неизгладимое впечатление на мальчика», и эта шутка ей совершенно не нравилась; а потом парнишка вскочил на лошадь, и они помчались, и как же хорош он был в галопе, как низко он склонялся над гривой коня, с какой страстью прижимался к его шее, и пот лил градом, и он нахлестывал, нахлестывал коня… и все-таки ближе к финалу супруг вырвался вперед и пришел первым – не зря же он отслужил свое капитаном кавалерийского полка; потом хозяин имения и его сын поднялись со стульев и зааплодировали – они умели проигрывать достойно, – и к их аплодисментам присоединились остальные гости: отличный наездник этот немец, просто замечательный; вот только когда пастушок домчал до финиша, в смысле до крыльца, он, судя по выражению лица, на достойность плевать хотел и, злобно набычившись, не скрывал досады; тем временем мужчины, переговариваясь на французском, разбрелись в поисках холодного шампанского, а дама подошла к мальчишке, который остался в одиночестве; левой рукой тот держал коня под уздцы – отец его, кстати, успел отойти далеко, к другой стороне длинного патио, он вел в стойло коня, на котором скакал немец, – а она на непонятном языке говорила мальчишке, что не надо так огорчаться, что он отличный наездник, просто ее муж тоже прекрасно умеет ездить верхом, да и опыта у него побольше, а пастушку до слов этих было как до луны, как до облаков, что плывут и закрывают луну, как до грозы, что никак не кончается, и тогда пастушок посмотрел на сеньору снизу вверх, да так хищно – во взгляде мальчишки читалась готовность всадить ей нож в живот, прямо на уровне пупка, а потом вспороть ее до грудей словно рыбу, а в глазах неопытного мясника она заметила странный блеск, и все это прекрасно сохранила память дамы, но тем не менее, когда он взял ее за руку и повел к другому углу дома, она пошла за ним не сопротивляясь, и так они дошли до места, где стояла высокая пергола из кованого железа, а вокруг нее цветочные клумбы и деревья, которых дама в жизни никогда не видела – ну или в тот момент ей казалось, что никогда не видела – а еще там она увидела самый настоящий фонтан, каменный, а в центре на одной лапке застыл танцующий креольский ангелочек с улыбкой на лице, наполовину европейский, наполовину каннибальский, вечно омываемый тремя ручейками воды, что пробивались у его ног, и был он изваян из цельного куска черного мрамора, так что сеньора с пастушком долго стояли перед ним в восхищении, и тут подошла дальняя родственница хозяина усадьбы (или любовница, которую хозяин усадьбы потерял в одной из многих складок памяти) и командным равнодушным голосом сообщила по-английски, что ее, даму, повсюду разыскивает муж, и дама подошла и взяла ее под руку и уже направилась было прочь из зачарованного парка, как пастушок окликнул ее, ну или ей так показалось, и, когда она обернулась, он произнес несколько шепелявых слов, и дама погладила его по голове и спросила у кузины хозяина, что он сказал, а пальцы ее перебирали густые пряди мальчишкиной гривы, и кузина застыла в нерешительности, и тут дама, которая не выносила ложь и полуправду, потребовала, чтобы ей немедленно слово в слово перевели речь мальчика, и кузина сказала: пастушок сказал… пастушок сказал… что хозяин… все подготовил для того, чтобы ее муж выиграл два последних забега, а потом кузина замолчала, а мальчишка направился в другой конец парка, таща за узду свою лошадь, а дама присоединилась к остальным гостям, но уже не смогла отделаться от мыслей о том, в чем ей признался пастушок в святой своей простоте, и чем больше она думала, тем загадочнее ей казались слова мальчишки, и загадка эта отравила ей весь тот день, и терзала бессонной ночью, пока она ворочалась с боку на бок в постели, и испортила следующий день, когда они отправились на верховую прогулку, а потом жарили мясо на гриле, и вся в мыслях об этом дама возвратилась в Буэнос-Айрес, и те мысли не покидали ее все время, что она провела в отеле или на приемах в посольстве Германии, или посольстве Англии, или в посольстве Эквадора, и отгадка нашлась, только когда корабль курсом на Европу уже находился в нескольких днях пути от Буэнос-Айреса, и случилось это ночью, в четыре утра, когда дама вышла из каюты, чтобы прогуляться по палубе, и она не знала и даже не хотела знать, на какой они сейчас параллели и на каком меридиане, и ее окружали – или наполовину окружали – 106 200 000 квадратных километров соленой воды, и вот именно тогда, когда дама на первой палубе первого класса закурила сигарету, впиваясь взглядом в простирающийся до горизонта океан, который она не видела, но слышала, так вот, та загадка чудесным образом разрешилась, и именно тогда, на этом месте, сказал шваб, дама, некогда богатая, могущественная и умная (во всяком случае, на свой лад) фризская дама, замолчала и в убогой немецкой послевоенной таверне воцарилось молитвенное – нет, хуже того, суеверное – молчание, и все сидели и мялись, и чувствовали себя все более некомфортно; тогда все принялись подскребать с тарелок остатки сосисок и картошки и допивать последние капли из пивных кружек, словно бы все боялись, что дама вдруг возьмет и завоет как эриния, так что имеет смысл набить животы и быть готовым выйти на холодную улицу и пройти по ней до самого своего дома.



