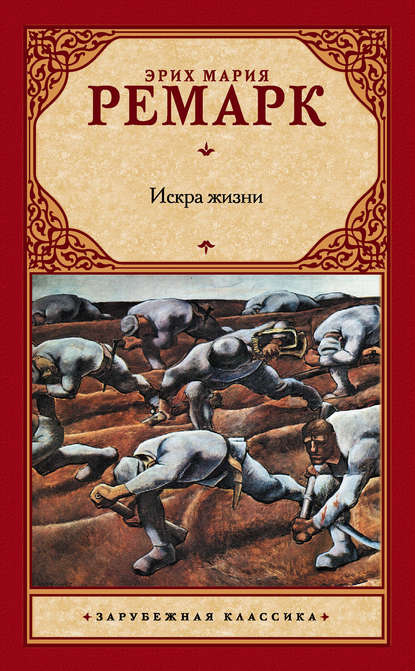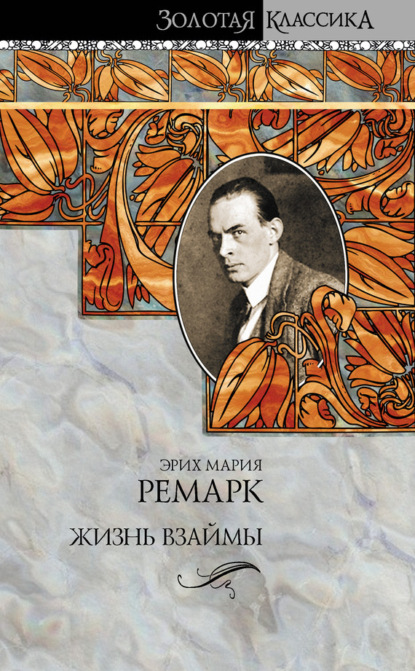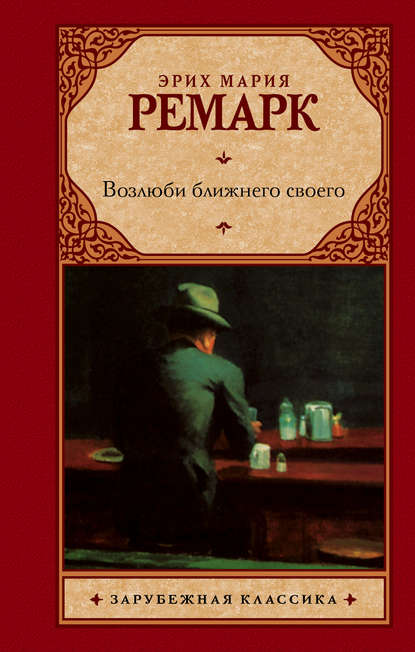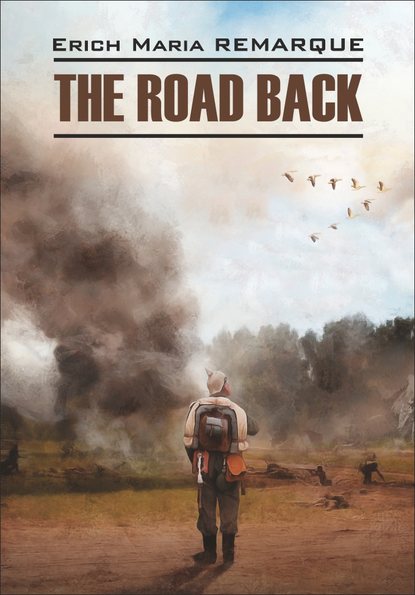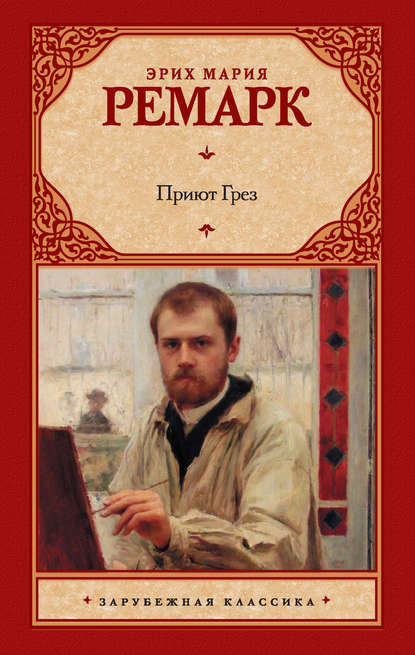Полная версия
Тени в раю
– Секундочку! Прежде чем вы начнете скандалить, объясняю: это вам урок на будущее. На все берите расписку. Я в свое время вот так же обжегся.
Я все еще не сводил с него негодующего взгляда.
– Я пойду в музей и скажу им, что эту бронзу уже почти продал. Как оно и есть на самом деле. И предложу выкупить ее у меня обратно, потому что Нью-Йорк – большая деревня. По крайней мере, среди нас, антикваров. Через пару недель всем будет известно, как они в музее опростоволосились. Теперь понимаете? И уж вашу долю я с них стребую.
– Это сколько же?
– Сто долларов.
– А сами сколько загребете?
– Половину того, что сверх вашей сотни. Идет?
– Для вас, наверно, это просто забава, – буркнул я. – А я рисковал почти половиной всех своих денег.
Леви-старший рассмеялся. Продемонстрировав золотые россыпи во рту.
– К тому же это вы все раскрыли. Теперь-то и я примерно представляю, как все произошло. Они взяли на работу нового куратора, из молоденьких. А тому захотелось показать, что прежний куратор ничего не смыслил и приобретал подделки. У меня к вам предложение. У нас внизу, в подвале, еще полно вещей, в которых мы мало что смыслим. В конце концов, все знать невозможно. Как насчет того, чтобы вы взялись все это просматривать? Скажем, за десять долларов в день – и за премиальные, если посчастливится обнаружить что-нибудь стоящее.
– Это что, вроде как премия за бронзу?
– Что-то вроде. Работа, разумеется, временная. С лавкой-то мы с братом вполне и сами управимся. Ну как, идет?
– Идет, – сказал я, глядя на поток людей и машин за стеклом витрины. «Иной раз даже от страха бывает толк, – думал я, стараясь не показать волнения. – Когда страшно, главное – не зажиматься. Когда ты зажат, ты уязвим. А жизнь – она как мячик, – думал я. – Она всегда в равновесии».
* * *– Пятьдесят миллионов убитых! – распалялся Леви-старший. – Сто миллионов! Человечество достигло прогресса только по части массовых убийств. – Он в ярости откусил кончик сигары. – Вы способны такое понять?
– В Германии человеческая жизнь ценится дешевле, – сказал я. – В концлагерях подсчитали, что труд одного еврея, ну, если брать молодого и работоспособного, приносит в среднем одну тысячу шестьсот двадцать марок. Его за шесть марок в день выдают в распоряжение немецкой индустрии в качестве рабской рабочей силы. Минус шестьдесят пфеннигов в сутки, положенных ему в лагере на пропитание. Минус еще десять пфеннигов в день на износ лагерной робы. Средняя выживаемость такого работяги в лагере – девять месяцев. Итого чистая прибыль – тысяча четыреста марок, даже чуть больше. Плюс доход от посмертной утилизации: золотые коронки, имущество при поступлении в лагерь: одежда, ценности, наличные деньги, волосы… За вычетом двух марок на кремацию все вместе дает на круг тысяча шестьсот двадцать марок чистой прибыли. Правда, в минус пойдут бесполезные женщины и дети: газовая камера или кремация для них – это шесть марок, туда же больные и старики. Но все равно, в среднем выгода – это по самым скромным подсчетам – составляет не меньше тысячи двухсот марок.
Леви побелел.
– Это правда? – спросил он.
– Так ведь подсчитано. Самими немецкими властями и подсчитано. Впрочем, возможно, еще будут уточнения. Главная трудность отнюдь не само умерщвление. Главная трудность, как ни парадоксально, – устранение трупов. На сжигание трупа как-никак требуется определенное время. Тем более на сколько-нибудь удовлетворяющее требованиям гигиены захоронение в землю: когда счет идет на десятки тысяч, это непростая задача. А крематориев не хватает. К тому же по ночам их не везде можно использовать. Их же видно с самолетов. Немцам, беднягам, и вправду не позавидуешь. Тем более что они только мира желают, мира и ничего, кроме мира.
– Это как же?
– Да очень просто. Если бы весь мир согласился принять требования Гитлера, не было бы никакой войны.
– Тоже мне остряк! – буркнул Лахман. – Остряк-самоучка! Бог мой, разве над этим шутят? – Он удрученно понурил рыжую голову. – Как такое вообще возможно? Вот вы понимаете?
– Нет. Но приказ ведь сам по себе почти всегда штука бескровная. А с него все начинается. Тому, кто сочиняет приказ за письменным столом, за топор хвататься не нужно. – Я смотрел на бедолагу Лахмана почти с сочувствием. – А охотники исполнять приказ всегда найдутся, особенно в Германии.
– Даже кровавый приказ?
– Кровавый и подавно. Ведь приказ избавляет от ответственности. Значит, можно развернуться, отвести душу.
Леви запустил руку в волосы.
– И вы через все это прошли?
– Да, – ответил я. – И не скажу, чтобы я об этом не сожалел.
– Ну вот мы сейчас здесь, – сказал Леви. – В лавчонке на Третьей авеню, в мирный день. Что вы при этом чувствуете?
– Что нет войны. Что это не война.
– Я не о том. Как вы воспринимаете, что люди спокойно живут-поживают, когда на земле творится такое.
– Люди живут-поживают, но не спокойно. Они знают, что идет война. Правда, для меня это какая-то странная война, не реальная. Настоящая война только та, что у тебя на родине. Все остальное вроде как не взаправду.
– Но люди-то гибнут взаправду.
– Человеческое воображение не очень в ладах с арифметикой. И считать умеет, по сути, только до одного. До того, кто тебе близок.
Колокольчик на дверях лавки зазвонил. Женщина в красном платье надумала приобрести серебряный персидский бокал. Вот только подойдет ли он в качестве пепельницы? Воспользовавшись благоприятной минутой, я незаметно удалился в подвал, – неожиданно поместительный, длинный, похожий скорее на туннель под проезжей частью улицы. Ненавижу подобные разговоры. Меня бесит их неосведомленность и бессмысленность. Пустопорожняя болтовня людей, которые там не были, но полагают, будто повозмущавшись, уже совершили нечто полезное. Праздное утешение для говорунов, не изведавших настоящей опасности. Зато как же хорошо в прохладном подвале: ты тут как в комфортабельном бомбоубежище. В бомбоубежище коллекционера. Где-то над головой, словно далекий гул пролетающих самолетов, приглушенный рокот легковушек и громыхание грузовиков. И только со стен беззвучным укором прошлого на тебя взирает антикварная старина.
* * *Поздно вечером я вернулся к себе в гостиницу. Леви-старший по доброте душевной выплатил мне аванс в полсотни долларов. О чем, впрочем, почти сразу же пожалел – от меня и это не укрылось. Но идейная серьезность недавнего разговора не позволяла ему потребовать деньги назад. Вот такой неожиданный прок от пустопорожней болтовни.
Меликова я на месте не застал, зато почти сразу появился Лахман. Как всегда, взбудораженный и потный.
– Ну как, сработало? – поинтересовался я.
– Что?
– Лурдская вода, спрашиваю, сработала?
– Лурдская? Ты имеешь в виду – иорданская вода! Что значит «сработала»? Думаешь, это так просто? Но я на верном пути. И все равно: эта женщина сводит меня с ума. Меня бросает из жара в холод, как между Сциллой и Харибдой. Это ужасно изматывает
– Между Сциллой и Харибдой?
– Да ладно, будто не знаешь. Легенды и мифы древней Греции. Проход между двумя скалами, ловушка для мореплавателей. Вот и я лавирую, лавирую без конца, иначе мне крышка. – Он метнул на меня затравленный, полный отчаяния взгляд. – Если я в самое ближайшее время ее не добьюсь, я стану импотентом. Ты же знаешь, у меня комплекс, очень тяжелый. И уже снова кошмары начались. Я просыпаюсь с криком, в холодном поту. Не забывай: эта шпана, они же хотели меня кастрировать. Ножницами, даже не ножом! А как они гоготали! И теперь, когда у меня долго нет женщины, мне начинает сниться, что они так и сделали. Просто жуть, а не сны! Совсем как наяву! Я уже с постели вскакиваю, а в ушах все еще гогот стоит.
– Так переспи со шлюхой.
– Не могу. Со шлюхами я уже импотент. И с нормальными женщинами тоже. По этой части они уже своего добились.
Лахман встрепенулся, прислушался.
– Она идет! Мы ужинаем сегодня в «Голубой ленте», она любит жаркое в маринаде. Пойдем с нами! Может, хоть ты на нее повлияешь. Ты же у нас говорить мастер.
Я уже слышал со стороны лестницы глубокое, воркующее контральто.
– Извини, времени нет, – сказал я. – Слушай, а вдруг у нее из-за ампутированной ступни такой же комплекс, как у тебя?
– Ты считаешь? – Лахман уже вскочил. – Ты правда так думаешь?
Конечно, я брякнул это просто так, не подумавши, лишь бы его утешить. Но увидев, до чего он всполошился, тут же проклял себя за болтливость: ну кто меня за язык тянет? Ведь Меликов же ясно сказал: эта красотка спит с мексиканцем. Однако сказанного не воротишь, да и Лахман не станет ничего слушать – вон как заковылял к своей зазнобе.
Я отправился к себе в комнату, но свет зажигать не стал. Напротив еще кое-где светились окна, в одном я увидел мужчину, надевающего дамское белье. Он стоял перед зеркалом, голый, волосатый, и наводил макияж. Потом натянул голубенькие трусики и застегнул бюстгальтер, в чашечки которого предварительно набил туалетной бумаги. Он настолько поглощен был этим занятием, что позабыл задернуть занавески. Мне уже случалось несколько раз встречать его на улице: в мужском обличье он был скорее робок, зато в женских нарядах очень даже боек. Любил покрасоваться в широченных мягких шляпах и вечерних платьях. Полиции он давно известен, зарегистрирован как неизлечимый. Какое-то время я еще продолжал наблюдать за его маскарадом, потом мне стало тошно, что и немудрено при созерцании подобного зрелища, и я отправился вниз дожидаться Меликова.
IV
Лахман дал мне адрес Харри Кана. О его легендарных деяниях я был наслышан еще во Франции. Он выдавал себя за испанского консула в Провансе, когда немецкая оккупация на юге страны была формально снята и сменилась коллаборационистским режимом правительства в Виши, которое все слабей и слабей пыталось протестовать против повседневных бесчинств гитлеровцев.
Так вот, этот самый Кан в один прекрасный день объявился в Провансе с испанским дипломатическим паспортом на имя Рауля Тенье. Откуда у него этот паспорт, не знал никто. Собственно, по некоторым версиям, паспорт вроде бы даже был французский, но с испанской визой, удостоверяющей, что Кан действительно является вице-консулом Испании в Бордо; другие, однако, утверждали, будто паспорт все-таки был испанский – они, мол, своими глазами видели. Сам Кан хранил на сей счет каменное молчание, предпочитая словам действия. Разъезжая в лимузине с дипломатическим номером, щеголяя в элегантных костюмах, он прежде всего поражал своим отчаянным, на грани наглости, хладнокровием. И пускал пыль в глаза с таким блеском, что даже эмигранты верили: уж у него-то все без туфты. На самом деле, скорей всего, ничего, кроме туфты, у него за душой и не было.
Кан свободно колесил по всей стране. Особую пикантность этим разъездам придавало то обстоятельство, что совершались они якобы уполномоченным представителем другого диктатора, который, разумеется, об этих полномочиях и представительстве ни сном ни духом не ведал. О подвигах Кана ходили легенды. Дипломатические номера на лимузине, правда, в то время еще обеспечивали ему какое-то прикрытие. Свою откровенно еврейскую наружность он заносчиво выдавал за наследие благородных испанских грандов, а когда его останавливали на контрольно-пропускных пунктах, мгновенно напускал на себя такую спесь, что не только солдаты, но даже эсэсовцы тушевались и предпочитали, во избежание нагоняя от начальства, с этим горлопаном не связываться. Кан довольно быстро усвоил, что немцу внушает уважение, когда на него орут, и с тех пор в выражениях не стеснялся, благо Испания и Франко числились у Гитлера в самых верных друзьях. А поскольку любая диктатура порождает страх и неуверенность и в собственных рядах, особенно среди низших чинов, ибо она трактует законы своевольно, а значит, и небезопасно применительно к любым поступкам, если они, паче чаяния, не совпадут с постоянно меняющимися установками сверху, – постольку и Кан этой всеобщей трусостью пользовался, благо она, наряду с жестокостью, неизбежно оказывается логическим следствием всякой деспотии.
Кан, конечно, был связан с Сопротивлением. Вероятно, оттуда у него и деньги всегда водились, и машина была, и, главное, бензин. Бензина у Кана всегда было вдоволь, хотя нехватка его ощущалась в ту пору везде и во всем. Он перевозил листовки и первые подпольные газеты – небольшие, на две странички, памфлеты-агитки. Мне, помню, рассказывали, что его однажды остановил немецкий патруль и хотел было произвести досмотр машины, а Кан как раз вез партию подрывной литературы. Так он поднял такой крик, что патрульные попятились и в панике чуть не бегом от него драпали. А Кан еще за ними и погнался, а на следующем посту на них пожаловался – правда, предварительно избавившись по пути от опасного груза. И добился в итоге, что командир части лично принес ему извинения за бестолковость своих подчиненных. Наконец, Кан с удовлетворенным видом попрощался с ним фалангистским приветствием, милостиво выслушав в ответ чеканное, навытяжку: «Хайль Гитлер!» И лишь после обнаружил у себя в машине два пакета прокламаций, которые по недосмотру забыл выбросить.
У него, случалось, бывали на руках и бланки испанских паспортов. Эти паспорта многим эмигрантам спасли жизнь: с ними можно было на Пиренеях перейти границу. Паспортами этими он снабжал беглецов, которых разыскивало гестапо. Кан умудрялся прятать их во французских монастырях до тех пор, пока не предоставлялась возможность переправить их за кордон. Мне лично известны два эпизода, когда он сумел предотвратить насильственное выдворение немецких эмигрантов обратно в Германию. В первом случае он исхитрился внушить фельдфебелю, что Испания особо заинтересована в задержании у себя данного заключенного, поскольку тот свободно владеет иностранными языками и его намерены направить в разведшколу, а затем как перевербованного агента использовать для работы в Англии; во втором случае он сперва усердно накачивал охранников коньяком и ромом, а напоив, пригрозил заявить куда следует, что те склонны к подкупу.
Потом, когда Кан вдруг пропал, самые мрачные слухи о его загадочном исчезновении стали разлетаться, словно черные вороны. Он ведь и вправду был один в поле воин, и каждый понимал, чем такое может кончиться. К тому же и действовал он с каждым разом все отчаянней, все безрассудней, словно нарочно бросая вызов судьбе. А потом вдруг сгинул – ни слуха ни духа. Лично я давно считал его погибшим: немцы либо забили его насмерть в концлагере, либо запытали, подвесив на крючьях, словно освежеванную тушу на скотобойне. А тут вдруг услышал от Лахмана, что и Кан, оказывается, тоже уцелел.
* * *Кана я разыскал в магазине, где как раз передавали по радио речь президента Рузвельта. Через открытые двери магазина приемник горланил на всю улицу. Перед витриной толпились слушатели.
Я попробовал было заговорить с Каном. Куда там – орущее радио разве перекричишь. Кан с извиняющимся видом только пожал плечами, кивнул на приемник, на толпу на улице и беспомощно улыбнулся. Я понял: для него речь Рузвельта – важное событие, и важно, что люди ее слушают, да и сам он хотел бы без помех ее дослушать. Что ж, коли так, я сел возле окна, достал сигарету и тоже стал слушать. Да и почему бы не послушать политика, чьими стараниями нашему брату изгнаннику дозволено въезжать в Америку?
Кан оказался худеньким, пожалуй, даже щуплым брюнетом, но его огромные черные глаза мерцали неукротимым огнем. На вид моложавый, никак не старше тридцати. Ничто в его облике не говорило о былых геройствах, скорее это было лицо поэта – столько глубины и живой открытости сохранили эти черты. Впрочем, Рембо и Вийон тоже были поэтами, да и кому, как не поэту, могло взбрести в голову все, что этот Кан вытворял.
Приемник внезапно умолк.
– Вы уж извините, – сказал Кан, – но мне нужно было дослушать речь до конца. Видали, сколько людей собралось? А ведь часть из них готовы этого президента убить, у него здесь полно врагов. Их послушать, так это он вовлек Америку в войну и только он несет ответственность за американские боевые потери.
– В Европе?
– И на Тихом океане тоже. Хотя там, впрочем, с него эту ответственность все-таки сняли японцы. – Говоря это, Кан пристально в меня всматривался. – Мы раньше нигде не встречались? Может, во Франции?
Я поведал ему о своих невзгодах.
– И когда же вам надо выметаться из страны? – поинтересовался он.
– Да уже через две недели.
– И куда?
– Понятия не имею.
– В Мексику, – прикинул он. – Или в Канаду. В Мексику, пожалуй, проще будет, там и власти подобрей: они еще испанских беженцев принимали. Надо будет обратиться в посольство. Что у вас с документами?
Я рассказал. Улыбка скользнула по его лицу.
– Вечно одно и то же, – пробормотал он. – И вы, разумеется, с этим паспортом расставаться не желаете?
– Разумеется. Мне без него никак. Больше-то у меня ничего нет. Если признаюсь, что и паспорт не мой, меня сразу посадят.
– Посадить, может, уже и не посадят. Но и толку от этого паспорта тоже никакого. У вас сегодня на вечер что-нибудь намечено?
– Да нет, конечно.
– Тогда зайдите за мной часов в девять. В этом деле нам без помощи не обойтись. И я, пожалуй, знаю местечко, где нам сумеют помочь.
* * *Круглое краснощекое личико под всклокоченной шапкой мелких кудряшек обдало меня сиянием распахнутых глаз, точно ласковая полная луна на ночном небосклоне.
– Роберт! – воскликнула Бетти Штайн. – Бог мой, какими судьбами? Давно ли вы здесь? И почему я ничего о вас не слыхала? Но вы-то сами уж могли бы объявиться! Только где там, у вас, конечно, дела поважней, чем обо мне вспоминать… Вот оно, значит…
– Так вы знакомы? – спросил Кан.
Еще бы… Да разве можно представить, чтобы любой, кого подхватило и понесло нынешнее переселение народов, не знал Бетти Штайн? Она стала доброй матушкой для всех эмигрантов, как прежде, в Берлине, была доброй матушкой для всех актеров, художников, литераторов, еще не познавших успеха и славы. Доброта и радушие переполняли ее щедрое сердце и проливались на всякого, кто способен этот шквал вынести. Ибо ее милосердие обрушивалось без разбора на всех и каждого, нередко оборачиваясь настоящей тиранией доброты. Кто-то эту тиранию терпел, а кто-то не выдерживал и поднимал бунт.
– Знакомы, как видите, – ответил я Кану. – Правда, несколько лет не виделись, а все равно не успеешь войти – тебя уже с порога осыпают упреками. Ничего не поделаешь: норов, русская кровь играет.
– Да, я родом из Бреславля, – запальчиво подтвердила Бетти Штайн. – И по-прежнему этим горжусь.
– У каждого свои доисторические предрассудки, – невозмутимо заметил Кан. – Это хорошо, что вы знакомы. Наш приятель Росс нуждается в помощи, советом и делом.
– Росс? – изумилась Бетти.
– Да, Бетти, Росс, – подтвердил я.
– Он что, умер?
– Да, Бетти. И я теперь вместо него. Вроде как наследник.
– Понятно.
Я вкратце обрисовал свое положение. Бетти немедленно и с жаром принялась обсуждать с Каном различные возможности, и по всему чувствовалось, что Кан с его героическим прошлым все еще пользуется здесь огромным уважением. Я тем временем осмотрелся. Комнатка была скорее скромных размеров, но все здесь уже отражало характер Бетти. На стенах – во множестве фотографии, почти все с велеречивыми дифирамбами в адрес хозяйки. Я вчитывался в подписи: некоторых из дарителей уже не было в живых. Шестерым в этой фотогалерее так и не удалось вырваться из Германии, но был и один, который туда вернулся.
– Почему Форстер-то у вас в траурной рамке? – изумился я. – Ведь он жив.
– Потому что он вернулся, – ответила Бетти, снова обратив на меня свои круглые очи. – А знаете, почему он вернулся?
– Потому что не еврей и очень тосковал по родине, – вместо меня ответил Кан. – И английского не знал.
– Потому что в Америке нет полевого салата! – торжествующе объявила Бетти. – Из-за этого он и тосковал!
Приглушенные смешки со всех сторон. Как они мне знакомы – эти эмигрантские байки, эти шуточки, где ирония приправлена горечью, где смех на краю отчаяния. Ну, и анекдоты, конечно: про Геринга, про Геббельса, про Гитлера.
– Почему бы вам тогда просто не снять со стенки его фото? – спросил я.
– Потому что он великий актер, и я все равно его люблю.
Кан усмехнулся.
– Бетти у нас всегда над схваткой, – заметил он. – Когда-нибудь, когда все это кончится, она первой встанет на защиту наших бывших друзей-приятелей, которые в Германии успели антисемитскими пасквилями отличиться и в большие нацистские чины выйти: будет объяснять, что они все это делали ради спасения евреев и во избежание еще больших злодеяний. – Он ласково потрепал хозяйку по упитанному загривку. – Разве не так, Бетти?
– Если другие стали свиньями, это еще не повод нам самим вести себя по-свински, – не без запальчивости возразила Бетти.
– На это как раз они и рассчитывают, – невозмутимо парировал Кан. – А в конце войны будут рассчитывать, что американцы, едва закончив пальбу, тотчас снова начнут слать составы с салом, маслом, тушенкой бедным, разнесчастным немцам, которые всего-навсего хотели их уничтожить.
– А как по-вашему, что немцы станут делать, если войну выиграют? Тоже сало будут раздавать? – спросил кто-то рядом и закашлялся.
Я предпочел промолчать: подобными разговорами я сыт по горло. Просто продолжил разглядывать фотоснимки.
– Беттин поминальник, – проронила хрупкая, очень бледная женщина, сидевшая на скамейке под фотографиями. – Это вот Хастенэккер.
Я сразу припомнил Хастенэккера. Вместе с другими эмигрантами, которых удалось изловить, французы запихнули его в лагерь для интернированных. Он был писатель и точно знал: если немцы его схватят, ему конец. А еще ему было известно, что в лагеря для интернированных специально наведываются гестаповцы – выявлять разыскиваемых лиц. Когда до прибытия немцев оставались считаные часы, он покончил с собой.
– Обычное французское разгильдяйство, – с горечью бросил Кан. – Хотят как лучше, а другим потом жизнью расплачиваться.
Мне вспомнилась еще одна история про Кана: в одном из лагерей он вынудил коменданта отпустить на волю сразу пятерых интернированных. Он так круто взял коменданта в оборот, что трусливый чинуша, прикрывавший свою нерешительность трескотней об офицерской чести, в конце концов спасовал и ночью всех пятерых выпустил. Дело осложнялось еще и тем, что в лагере среди сидельцев было несколько нацистов. Так Кан сперва убедил коменданта этих нацистов срочно отпустить, иначе, мол, как только гестаповцы пожалуют в лагерь с проверкой, они первым делом его самого схватят. Ну, а уж потом он именно это освобождение нацистов использовал как средство вымогательства, угрожая, что донесет на коменданта по начальству, в Виши. Сам Кан называл это «поэтапным моральным шантажом». И ведь сработало!
* * *– Как вам из Франции удалось выбраться? – спросил я у Кана.
– По тем временам – самым обычным способом. Проще говоря, чудом. В гестапо что-то унюхали, стали подозревать. И настал день, когда мне не помогли уже ни начальственные замашки, ни титул вице-консула. Меня арестовали и первым делом приказали раздеться. Дабы давней испытанной методой выяснить, не еврей ли я. Обрезан или нет. Я отнекивался до последнего, раздеваться отказывался, объяснял, что тысячи христиан тоже обрезаны, а в Америке вообще чуть не каждый мужчина. Но чем дольше я отпирался, тем больше радовались мои дознаватели. Я был у них в руках. И им доставляло удовольствие наблюдать, как я выкручиваюсь, словно уж на сковородке. Наконец, когда я, исчерпав все доводы, в отчаянии умолк, старший из них, этакий зануда-учитель в очочках, как гаркнет:
– А теперь, жидовская морда, скидавай штаны и изволь предъявить свой обрезанный причиндал! А мы тебе его до конца обрежем, под корень, и на завтрак в глотку засунем, если не подавишься!
Его подчиненные, все, как на подбор, холеные упитанные блондины, радостно загоготали. Ну я и разделся. Тут-то они и остолбенели: ведь я не обрезан. Мой отец – да, еврей, но человек вполне просвещенный – считал, что при нашем умеренном климате этот обычай не имеет никакого смысла.
Кан усмехнулся.
– В том-то и был весь фокус. Разденься я сразу, это бы особого эффекта не произвело. А так они оказались обескуражены, да и неловко им стало. «Почему же вы сразу не сказали?» – только и спросил очкарик. – «Что?» – «Ну, что вы не из этих…» По счастью, в ту же комендатуру как раз пожаловали двое нацистов, которых я из лагеря вызволил, – путевые документы для отправки в Германию оформлять. Еще одно из чудес, без которых никого из нас давно бы не было в живых. И уж они-то, конечно, чем хочешь готовы были поклясться, что я свой. Я ведь их выручил… Это решило дело. А поскольку держался я все надменнее и молчал все многозначительней, не упустив, впрочем, как бы между прочим упомянуть парочку очень важных имен, они не сделали того, чего я больше всего опасался: не передали меня ступенькой выше. Побоялись, что наверху им влетит за самоуправство. В итоге, когда я пообещал, что все происшедшее останется между нами, они еще чуть ли не благодарили меня и с явным облегчением отпустили на все четыре стороны. Вот уж когда я бросился наутек – и бежал до самого Лиссабона. Надо уметь почувствовать, когда наступает предел всякому риску. Это как при первом, даже легком приступе аngina pectoris[5]. У тебя и прежде, случалось, сердце побаливало, но эти сдавливающие тиски в груди порождают совсем иной страх, и к этому страху стоит прислушаться. Иначе следующий приступ может оказаться последним.