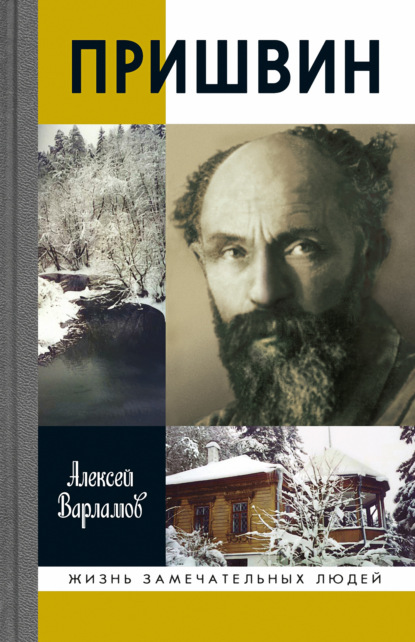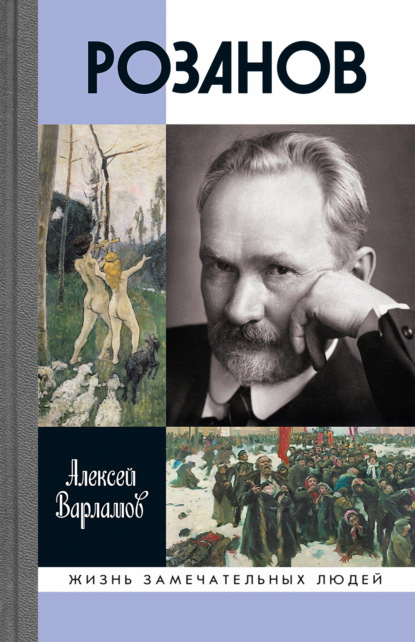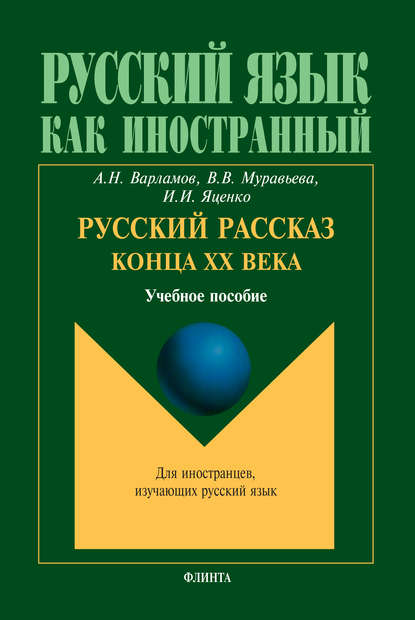Полная версия
Одсун. Роман без границ
Но больше всего Петю поразил диафильм под названием «Андромеда» – о вторжении инопланетян на Землю. Там была героиня – красивая, необыкновенная девушка, которая родилась в результате научного эксперимента и оказалась кем-то вроде космической диверсантки, посланной завоевать нашу планету. Петьку это настолько шибануло по мозгам вкупе с атомами и электронами, что он едва не помешался. Не мог остановиться и, когда заканчивался один диафильм, просил, чтобы мы смотрели другой, а потом возвращались к «Андромеде».
Вечером мы вываливались на улицу и не понимали, где находимся, но сам окружавший нас мир: деревья, рожь, небо, облака, луна и звезды – все это было продолжением того, что мы видели. И когда наутро начинались жопки и Петю снова обижали и гоняли по жаре, он убегал от нас в лес, куда ему строго-настрого было запрещено уходить, падал лицом на землю и плакал – не знаю о ком или о чем: о папе Павлике, с которым Светка его разлучила, об атомах и электронах, редких металлах, птицах, рыбах – и, может быть, тогда ему чудились тихие голоса, какие начитанный советский мальчик принял за голоса инопланетян.
Мы были жестокие дети, уцепились за них и придумали игру про летающую тарелку. Фантазии у нас было немного. Рассказали Петьке, что база НЛО находится в поле среди ржи, в том месте, где ледник приволок такой огромный валун, что никаким трактором невозможно его было убрать и он торчал посреди поля словно каменный островок. Это был и впрямь загадочный камень, на нем спокойно могло поместиться несколько человек. Посреди имелось большое углубление, от которого во все стороны расходились трещины. Камень считался жертвенным, там было что-то языческое, связанное с кровью, о нем писали в научных журналах, но прошлое нас интересовало мало, а инопланетяне – много, и мы рассказали Петьке, что местность эту пришельцы выбрали не случайно, ибо всем мальчишкам в Купавне было известно, что в лесу за Бисеровским озером расположен секретный подземный объект. Над озером время от времени пролетали военные самолеты, вертолеты и еще какие-то странные летательные аппараты, и Юрик рассказывал, как однажды он ходил на полигон за чернушками, а земля вдруг разверзлась и из нее показались ракетные установки. Вот именно они, говорили мы Петьке, притягивают в Купавну грозы и интересуют пришельцев, и необходимо победить этих зловредных существ, которые хотят с помощью молний поджечь нашу землю изнутри.
Это было, кстати, батюшка, вполне возможно. Несмотря на обилие вод, Купавна стояла на торфяных болотах, и после того как дачники осушили их одно за другим, торфяники в жаркое лето горели. Всю округу заволакивало тогда дымом, взрослые бросали дела и принимались рыть новые канавы, а старики на деревне поднимали голову к небу и молили его старинными словами:
– Даждь дождь жаждущей земле.
Так вот, мы сказали Петруше, что огненную базу инопланетян можно залить водой, но ее требуется очень много. Он слушал нас недоверчиво, но, когда Юрка дурацким завывающим голосом возгласил, что под землей в эту минуту и все это время горит черный огонь, вокруг которого сидят инопланетяне, и если адское пламя вырвется наружу и отбросит гигантскую тень, то все живое, в нее попавшее, вмиг погибнет, и его родители тоже, судорога исказила нежное лицо ребенка. Он понесся домой за ведерком, а потом побежал к канаве с лягушками и тритонами, что была на участке у химиков. И весь день носил это белое пластмассовое ведро через поле, черпал воду и снова бежал, толстый, запыхавшийся, в белой панамке и дурацких коротких штанишках, – он тушил подземный пожар и спасал землю от черного костра инопланетян. А мы выливали воду в жаркую трещину, возвращали ему пустое ведерко и ухохатывались, и, когда Петя предлагал и нам поучаствовать в переноске воды, говорили, что только он может выполнить такое важное задание.
Конец света
Разумеется, вся эта операция проводилась в строжайшей тайне и Петька был предупрежден, что если кто-то узнает про пришельцев, то план по спасению Земли будет провален и планета погибнет. Он ничего никому и не сказал, но назавтра Светка сама нас выследила и, когда ее маленький сын в очередной раз потащился в глубину поля, ворвалась как фурия в наше убежище и отняла у Петьки ведро.
– Слушай ты, писулька, шавок задрипанный! – Она моментально вычислила заводилу, окатила его водой и ударила в самое больное место: Юрик был на три года старше нас, но роста почти такого же, и рост этот уже практически себя исчерпал.
Юрка пытался восполнить недостаток накачкой мышц, он был весь такой крепенький, гладкий и при этом скользкий, будто маслом обмазанный, с плотно прижатыми к голове ушками, похожий на бобра, но от Светкиного гнева его это не спасло. Она ухватила злого мальчика за ухо и при всем честном народе стала таскать по полю и бить по щекам.
– У него же сердце больное, уроды! Он же мог прямо здесь…
Матерные слова, как горох, посыпались из ее чувственного рта, это были не простые ругательства, а изысканнейшие сочетания слов, каковые никто из нас никогда не слыхал. Юрик орал, плакал, сучил ногами, но как ни старался, не мог от Светки отделаться, а я подумал, что она похожа не на кукушку, а на разъяренную медведицу, с чьим детенышем вздумали поиграть глупые люди. Она точно была не в себе и, скорее всего, оторвала бы это несчастное ухо, но тут Петька, с ужасом поглядев на всех нас: на Юру, на мать, на рожь, на небо, на жертвенный камень, – вскрикнул:
– Что ты наделала? Зачем ты мне помешала?
Он удрал тем же вечером из дома, и его искали всем поселком по берегам карьера и озера, в лесу и на поле, в рыбхозе, расспрашивали кассиршу на платформе, говорили с мужиками, ошивавшимися в пивной возле станции, спрашивали спасателей на Бисеровском озере, но никто не видел толстого мальчика в клетчатой рубашке и сандалиях на босу ногу. Петя вернулся домой на следующий день без десяти одиннадцать, и я не знаю, о чем они говорили с матерью, но поздним вечером она отвела сына к большому Юре, чтобы тот разрешил ему посмотреть в телескоп и убедил, что никаких инопланетян не существует.
Не знаю, удивился ли студент этой просьбе и можно ли было таким простым способом доказать наше одиночество во Вселенной, однако впоследствии Павлик рассказал мне, что дачный астроном прочитал ему целую лекцию.
– Наша планета уникальна, – говорил большой Юра, расхаживая по чердаку аккуратного щитового домика с мансардным окном. – Если бы она была всего на несколько десятков миллионов километров ближе к Солнцу, то все живое сгорело бы. А если бы на несколько миллионов дальше, замерзло бы. Повторить такое невозможно. Никто Землю извне не погубит, если только мы не сделаем это сами.
Петька слушал его с жадностью и потом полночи смотрел в телескоп на планетарные туманности, звездные острова и рассеянные скопления, на двойную звезду Альбирео в созвездии Лебедя, и Юра объяснял ему, почему в телескопе звезды мерцают и дрожат сильнее, чем когда смотришь на них невооруженным взглядом. Еще он говорил, что звездный мир – это не совокупность отдельных светящихся точек, но нечто упорядоченное, организованное и звезды указывают людям земные пути и предсказывают будущее.
– Звезды знают о нас то, чего не знаем о себе мы сами, и, если научиться читать сигналы, которые они посылают, жизнь на Земле станет честнее и справедливей.
Наутро Павлик пришел к воротам и сказал, что хочет отыграться. Он носился по переулку как блуждающая комета, надсадно дышал, хрипел, словно паровоз, но в конце концов засадил мяч в задницу своему мучителю.
– Не было, – сказал Юрка нагло.
– Было, было, было! – заорал Петька.
Юрка неуверенно, просяще посмотрел на нас.
– Было, – не могли не зафиксировать мы факт Петиной первой победы.
Но маленький Юра оказался злопамятен и свое унижение Светке не простил. В очередной раз, когда к ней приехал ухажер на «москвиче» и Петю отослали на прогулку, Юрка приперся позднее обычного.
– А мать-то твоя! – сказал он при всех пацанах и насмешливо посмотрел на Петьку. – Как там стонет, как орет под своим хахалем!
Мы были в том возрасте, когда не вполне понимали, что он имеет в виду, хотя, очевидно, это было что-то гадкое. Петя побледнел, а я – сам не знаю, что на меня нашло, может, тайная детская влюбленность в Светку, – бросился с кулаками на Юрку и, воспользовавшись его растерянностью, поставил ему под глазом фингал. Разумеется, он тотчас же пришел в себя и безжалостно меня отколошматил, можно сказать, взял реванш за свое унижение, но это была, отец Иржи, одна из немногих достойных минут в моей жизни, которой я когда-нибудь попытаюсь оправдаться и доказать, что все-таки не зря был выпущен в этот мир. А кроме того, полагаю, именно здесь кроется причина Петькиного доброго ко мне отношения в последующие времена.
Несколько дней спустя над Купавной разыгралась такая страшная гроза, что если бы я знал тогда про апокалипсис, то решил бы, что он настал. Гроза пришла с юго-запада, когда мы были на озере, свалилась брюхатой аспидной тучей, и мы едва успели выскочить из воды и схватить велосипеды. Прятаться было негде, мы мчались наперегонки с ветром и дождем, и, когда проезжали мимо черной водокачки на пересечении Бисеровского шоссе и одной из садовых улиц возле товарищества слепых, золотая кривая молния ударила в саму водокачку. Я видел, как она вклеилась в черное железо и металл превратился в дрожащую, похожую на ртуть жидкость. Меня пронзило током, ударило электричеством от старенького велосипеда, от воздуха, воды, я потерял на мгновение сознание, а потом закрутил изо всех сил педали, забыв о том, что делать, если тебя застигнет гроза. И я помню своей поднявшейся над землею душой, как всю дорогу, не соблюдая никакой очередности, разноцветные молнии лупили в высокие деревья, в зеркало воды, громоотводы, антенны, крыши, машины, в две разрушенные церкви, в старенький паровоз, так что тьма не наступала ни на секунду.
Когда мы подъезжали к нашим участкам, гроза уже уходила, но еще издалека был виден дым. Горела одна из дач, и я уже догадался чья. Я далек от мысли, что силы небесные покарали маленького Юру, я человек трезвый, рассудочный, мистику не люблю и полагаю, что это было просто совпадение плюс редкая для наших домов железная крыша. Однако дачу его родители восстанавливать не стали, и пепелище много лет зияло посреди бедных опрятных домиков, а потом заросло крапивой и на фундаменте грелись змеи.
Вскоре после этого наша компания распалась. Светка продала фазенду и купила кооперативную квартиру в Зеленограде, и я на много лет потерял обоих пацанов из виду. Не могу сказать, чтобы сильно по ним скучал. Если и скучал по чему-либо, так это по диафильмам.
Гора печали
Вот уже неделю я живу в батюшкином доме. Помогаю хозяину по мере сил в храме или в саду, хотя никакой особенной помощи там не требуется, но, как человек деликатный, он, видимо, не хочет, чтобы я чувствовал себя нахлебником.
По воскресеньям в церкви собирается народ, не очень много, однако человек двадцать приходит. Приезжают из соседних деревень и даже из Польши. Жена священника, две их дочери и сын поют в хоре, предлагали петь и мне, но я никогда не остаюсь на службу. Ухожу гулять вдоль ручья. Матушке это, похоже, очень не нравится, и она считает меня сектантом. Я ее боюсь и правильно делаю. Она производит впечатление весьма властной женщины, и мне кажется, все в доме держится на ней. Она отвозит детей в школу, ездит каждый день на работу в курортную больничку на горе, воюет с призраком судьи, а батюшка служит. Не для людей – для Бога, потому что в будние дни в храме никого нет, а он все равно служит.
Мне это трудно понять. Мое сознание не до такой степени вертикально устроено, а вот поп наверняка что-то чувствует – другого объяснения у меня нет. Надо быть очень стукнутым, чтобы бросить работу, квартиру в городе и переехать в горную деревушку вместе с женой и тремя капризными детьми в дом с привидением, да еще каждый день испытывать женское скрытое и явное недовольство и желание к чему-нибудь прицепиться. Например, ко мне. Я это физически ощущаю и уверен, что матушка ругает мужа из-за меня, твердит, что у них будут неприятности, говорит, что у них дети и нельзя быть таким доверчивым и беспечным. На каком основании они должны мне доверять?
– С русскими надо быть осторожным. Может быть, этот бездельник – путинский шпион и пробрался сюда с заданием нас отравить? Отравили же в Англии отца с дочерью! – вопит Анна на весь дом, и я хорошо слышу ее торопливые нервные слова, которые мне даже не надо переводить. Славянские языки так устроены, что, когда ты в общих чертах представляешь, что именно хочет сказать другой человек, ты его понимаешь.
Но Анне, кажется, на это наплевать. А может быть, она даже хочет, чтобы я все слышал.
– Знаешь ли ты, отче, что написали недавно на двери гостиницы в Остраве?
– Что, любовь моя?
– Русские здесь не обслуживаются!
Но батюшка только улыбается в ответ. Он немножко блаженный, и ее это раздражает, однако конфликтовать с ним всерьез она опасается: видимо, у ее власти есть пределы и она чувствует черту, которую нельзя переступить.
Мы не говорим с отцом Иржи о моем будущем, я не знаю, как велико его милосердие и сколько продлится мое пребывание в этом доме. Я вручил ему свою судьбу вместе с новеньким заграничным паспортом и истекшей визой и в ответ занимаюсь тем, что подметаю и без того чистый храм и жду, пока вырастет газон, чтобы его постричь. Как работник Балда, с той только разницей, что во мне нет балдовской расторопности, а в нем поповской жадности, и потому ничего, кроме крова и харчей, мне здесь не полагается. Всё справедливо. Именно так, как я хотел в том смешном старинном кабачке, где у каждого постоянного посетителя есть личный стул с вырезанной физиономией на спинке. Так было заведено при прежних хозяевах, а потом после войны позабыто, но хитроумный эллин традицию возобновил, чтобы бороться с конкуренцией, – кому не радостно посидеть на именном стуле, на котором, кроме тебя, никто сидеть не будет?
Я хожу иногда на другой конец деревни и разговариваю с греком. Он мне чем-то симпатичен. Мы с ним тут единственные иностранцы. Конечно, я гораздо в большей степени, чем он. Но все равно. Он как будто бы чех и не чех. Ребенком его привезли в эту страну, и он прожил здесь всю жизнь. Рассказывает поразительные вещи про то, как их вывозили из Греции. Там шла тогда гражданская война, и детям греческих коммунистов разрешили уехать. Ему было четыре с половиной года, его братику два. Их везли трое суток в закрытых машинах по балканским дорогам, почти не останавливаясь. Братик дороги не вынес. Умер. Мне это кажется странным. Они же должны были ехать – я мысленно представил – через соцстраны: Албанию, Югославию, Венгрию. Почему нельзя было задержаться, оказать детям помощь, накормить, позвать врача?
– Тито поссорился со Сталиным.
– А дети-то при чем?
– Дети всегда при чем.
Грек наливает пиво и протягивает мне кружку. Затем, поразмыслив, кладет тарелку гуляша.
– Нас распределяли по разным странам. Мне еще повезло. В Венгрии греческих детей заставляли работать с утра до вечера на полях подсолнечника, как рабов. Но зато мы всегда держались вместе. И попробовали бы хоть одного обидеть – всей шоблой наваляли бы, – говорит он с угрозой и проводит руками по лицу, как будто умывая его.
– А ваши родители?
– Они приехали позднее, но я с ними не жил. – Эллин поскучнел. – А в семьдесят четвертом вернулись в Грецию.
Запутанная история, как, впрочем, и с судетскими немцами. И сколько еще таких? Меня однажды занесло в Поронайск. Это городок на Сахалине на берегу залива Терпения. Там была одна женщина, кореянка, она работала в детской библиотеке и рассказывала, как их гнобили до войны японцы, а после советская власть: никуда не выпускали с острова, не давали гражданства, не разрешали ни учиться, ни работать где хочешь, – а она все равно сумела получить высшее образование и зла на свою страну не держала. И очень переживала, когда та развалилась. Логики никакой. Но тетка мировая, и дети ее обожали. Рассказывала еще, как ее пригласили на открытие памятника сахалинским корейцам на горе Печали в Корсакове, где ее земляки собирались после сорок пятого года, всматривались в море и ждали, когда за ними придет корабль с родины. А он так и не пришел…
– Я так плакала там, так плакала…
На сдержанную кореянку это было не очень похоже, но, видно, тут прорвало.
Грек же весьма любознателен и, на мой взгляд, сверх меры политизирован. Не знаю, это национальное или личное, но он несколько раз спрашивал меня, за кого я голосовал на наших выборах в марте.
– Ни за кого.
– Но почему? Голосовать – это долг каждого гражданина. – Седые жесткие эллинские волосы и иглы усов сердито топорщатся: похоже, сейчас в «Зеленой жабе» начнется урок по экспорту демократии.
– В тот день, когда проходили выборы, я находился в другой стране, – отвечаю я занудным голосом.
– Ну и что? – возражает Улисс. – Там разве не было вашего посольства?
– Было. Но туда никого не пускали.
– Такого не может быть, – качает он крупной породистой головой. – Никакое государство не имеет права ограничить доступ граждан другого государства в их посольство. А тем более в день выборов. Эта страна находится в Европе?
– Ну это как посмотреть.
О том, что творилось в день российских выборов в Киеве, я умалчиваю. Никаких дополнительных очков мне это не даст.
А грек между тем намекает мне на то, что все происходящее в моих интересах. Ведь чем хуже сейчас в России, тем больше у меня шансов получить политическое убежище. Как было во времена СССР. У вас же сейчас снова СССР. Так?
Господи, что он в этом понимает? И какое еще убежище? На каком основании мне его дадут? А Улисс расходится все больше, учит меня, как жить и что говорить, он искренен и правда жаждет мне помочь. Но мне не хочется ничего выдумывать. Я ищу покоя и хочу понять одно: где друг моего детства со Звездной улицы в садоводческом товариществе «Труд и отдых» близ 2-го Бисеровского участка?
Гегельянец в «Тайване»
Странно не только то, что он мне не звонит, не пишет и не отвечает на звонки и эсэмэски. Еще более непонятно, что ничего не пишут о нем. Обыкновенно в интернете новостей, связанных с Петром Павликом и его благотворительным фондом, тьма. Здесь он дал интервью, там что-то провел, выступил, тут проспонсировал, где-то еще профинансировал, открыл, учредил, поддержал, пожертвовал, наградил, поощрил, отобедал, вошел в попечительский совет, стал членом, многочленом, почетным председателем, был избран, переизбран, приглашен, введен, включен, согласован, утвержден… И вдруг – тишина. Я начинаю даже волноваться, хотя в общем-то волноваться особенно не из-за чего. Если бы что-то случилось, маленький Юра уже сообщил бы. Петя и раньше пропадал на целые месяцы, и никто не знал, где он находится.
…Мы встретились с ним в университете, в том здании, что называлось в просторечии стекляшкой и выходило торцом на проспект Вернадского. Я впервые увидел его после дачной истории и глазам своим не поверил: Петя, Петюня, мой купавинский друган, спаситель нашей планеты, поступил, как и я, в универ, пусть даже на другой факультет. Я – на филологический, а он – на философический. Вроде бы и там и там фил, но разница дьявольская! Они были очень серьезные, такие ученые кролики, кураевы, галковские, зятья межуевы, а мы – веселые, бесшабашные с нашими девчонками, с нашей латынью и старославом. Сам Петя несильно изменился, разве что сделался еще более толстым и теперь вряд ли смог бы играть в жопки. Но когда я, радостный, подошел к нему на сачке, он не то что бы меня не узнал, нет, он узнал, вежливо поздоровался, спросил что-то незначительное, но в общем было понятно, что я ему неинтересен. Купавну он вспоминать не захотел, и не потому, что ему было неприятно, а просто выкинул ее из головы как вещь лишнюю и обременительную.
Я спросил, верит ли он по-прежнему в то, что мир устроен одинаково от ничтожно малого до великого. Петя пожал плечами и сказал, что с вращением электронов все оказалось несколько сложнее, чем он предполагал, и речь идет скорее не о вращении элементарных частиц, но об облачной вероятности. Вообще он сделался еще более сосредоточенным, и со мной ему было говорить не о чем и незачем. Павлик с утра до утра занимался тем, что, как ежик, собирал знания, общался на равных с аспирантами и молодыми преподами, после лекций и семинаров отправлялся в фундаментальную библиотеку и, если бы было можно, оставался б там ночевать. Он был, безусловно, лучшим студентом на своем курсе, а может быть, и на всем факультете. Это признавали все и за глаза звали его Кантом, хотя самого его эта кликуха страшно злила.
Он был – насколько я могу судить в силу своих убогих представлений о царице наук – убежденный гегельянец, полагал, что идеи существуют не в сознании, а в реальности, и верил в неизбежность противоречий, из которых может развиться нечто путное. Над ним посмеивались, однако никто ему не завидовал, никто с ним не соревновался, потому что это было бесполезно; а главное, глядя на этого бесполого, мешковатого юношу в очках с толстыми линзами и гладко зачесанными назад сальными волосами, открывавшими обширный выпуклый лоб, все сразу понимали, какую надо заплатить цену и что принести в жертву ради своего успеха. Его научное иноческое будущее было расчерчено и очевидно: синяя рожа, красный диплом, аспирантура, защита кандидатской, работа на кафедре, докторская, и так до Академии наук.
Но вышло иначе. В середине третьего курса знайка вдруг задурил. Он перестал ходить в универ, выкинул за ненадобностью читательский билет и поклялся, что больше не притронется ни к одной книге. Основным местом его пребывания сделалась пивная «Тайвань», располагавшаяся справа от огромного здания китайского посольства. В те годы оно пустовало, а пивная была среди студентов университета весьма популярна, хотя пиво там отдавало содой. Но, с другой стороны, а где оно тогда было лучше? Само же китайское посольство отделял от пивнухи метровый заборчик, на котором народ в теплое время года любил сиживать, и милиция гоняла нарушителей государственной границы. Заведение было известно еще тем, что в семьдесят девятом, когда Китай напал на Вьетнам, под темными окнами посольства собирались студенты, швыряли снежки и чернильницы, и память об этом событии передавалась от поколения к поколению, обрастая немыслимыми подробностями.
Именно в «Тайвань» с самого утра к открытию отправлялся лучший философ курса. Очень скоро он сделался знаменит, получил прозвище Петр Тайваньский, к которому, в отличие от Канта, отнесся весьма благосклонно, с ним дружили парни с разных факультетов, одни консультировали его, других консультировал он, и по сути Павлик мой превратился в некий параллельный по отношению к университету центр. Как объяснял он мне сам позднее, на одиннадцатом этаже ему в какой-то момент просто стало скучно, а на двенадцатый его не пропустили из-за избыточного веса. В истории, философии, гносеологии, логике, религии и атеизме, в этике и эстетике он все для себя уже понял и захотел узнать иное. «Тайвань» был идеальным для этого местом. Общаясь с самым разным народом, – а кого там только не было: умников, дураков, диссидентов, мистиков, эзотериков, стукачей, книжников, бездельников и поэтов, – Петя без книг практически освоил программу всех факультетов и сам сделался университетом. Я, возможно, утрирую, и он бы с этим никогда не согласился, но правда, это был очень и очень умный мальчик с замечательным мочевым пузырем: никто не мог выпить столько пива и так долго обходиться без туалета. Павлик перестаивал всех.
А одним из его собеседников, батюшка, был, представьте себе, большой Юра, который заканчивал о ту пору аспирантуру физфака и забегал в «Тайвань» выпить кружку пива по дороге домой. Задерживался он в заведении обыкновенно ненадолго, поскольку вечно был занят, писал мудреные статьи, ездил на научные конференции, а еще, как потом выяснилось, распространял запрещенные книги. Звездочет был со всеми одинаково приветлив, но близко никого до себя не допускал, и Петька оказался единственным, кто по-настоящему сумел занять его внимание. Было ли это как-то связано с Купавной и с той ночью, когда по просьбе Светки Юра открыл перед маленьким беглецом ночное небо, утверждать не возьмусь, но частенько двое бывших купавинских дачников вместе выходили из китайской пивнухи. Не договоривши своих разговоров, они шли на Воробьевы горы и дальше кружным путем мимо цековского гетто спускались к реке, переходили по железнодорожному мосту и топали в сторону Юриного номенклатурного дома, плавной дугой изогнувшегося на левом берегу Москвы-реки наискосок от Киевского вокзала. Я знал об этом, потому что ходил в университетский турклуб и наш добрый тренер Валерий Павлович Конюшко по прозвищу Конюх устраивал нам по этому маршруту вечерние пробежки. Увлеченные беседой, двое мыслителей меня не замечали, а я обгонял их с печалью и ревностью – мне бы очень хотелось, чтобы они меня вспомнили и взяли к себе.