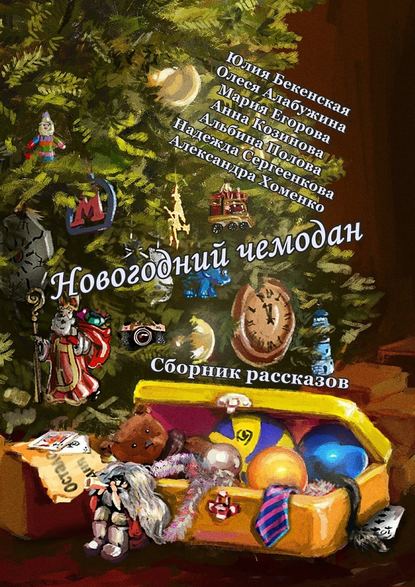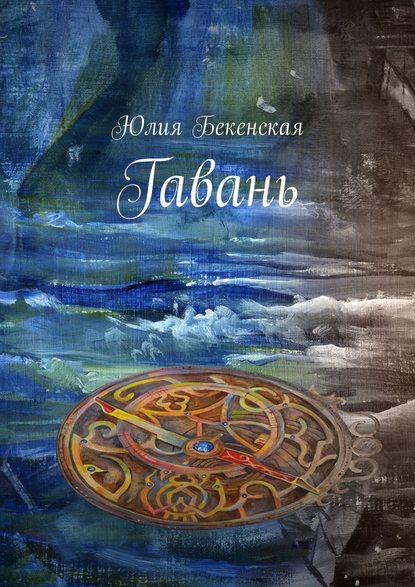
Полная версия
Гавань
– Автомобиль врезался, – пояснил Ильич, внося лепту в парад-алле городских ужасов. – Водитель пьяный был…
– Разъездились! – рассеяно сказала Фаина Аркадьевна.
Уже минут пять она прислушивалась к звукам разгорающегося скандала: из открытой на шестом этаже форточки летел визгливый женский голос, ему вторил мужской баритон.
Интересно, решила Фаина Аркадьевна. И тут же поджала ноги.
Как иллюстрация водительского беспредела, к подъезду, втиснувшись между скамейкой и тощей березкой посередине газона, подкатил джип.
Правые колеса его остановились на разбитой асфальтовой дорожке, левые беспечно проехались по клумбам, которые лет двадцать уже любовно разбивала теть Зина, страдающая нынче коленями.
Высокая морда джипа почти уперлась в окна первого этажа.
Онемев, женсовет и Ильич смотрели, как из машины аккуратно, чтобы не оцарапать дверцу, вывернулся водитель – сосед Ярослав. На приветствия ответил едва заметным кивком.
Бабки поджали губы. Ильич головой покачал – едва ноги не отдавил соседушка.
Ярый был явно доволен жизнью. Открыл багажник, извлек из него огромную коробку с надписью «Yamaha». Распялив лапы, обхватил ношу и, пошатываясь, попер в подъезд.
– У Зины там были крокусы, – прошептала Фаина Аркадьевна, – прямо под задним колесом…
– Вот такие сфинкса и уронили, – вполголоса сказала Баклава.
– Эти… все им нипочем, – пробормотал Ильич.
Возмущенная Фаина Аркадьевна рассматривала на туфлях – коричневых, на крепкой квадратной подошве – пятнышки грязи от колес авто. Злорадно заметила:
– А этаж-то у него седьмой. А лифт-то опять не работает!..
Сидеть на скамейке было теперь неудобно: под самым носом раскорячился здоровенный, как племенной бык, сверкающий черными боками наглый джип, в который очень хотелось плюнуть.
Но связываться с соседом – себе дороже.
– Молодой, да ранний, – высказалась Фаина Аркадьевна, – это же сколько деньжищ такой паровоз стоит?..
– Много, – ответил Ильич. – Наши пенсии взять на сто лет вперед, сложить – может, на переднее колесо и хватит…
– Воруют! – пискнула Баклава, но ее никто не поддержал.
Собеседники прислушивались к звукам ссоры на шестом этаже.
И, хотя Ильич терпеть не мог слуховой аппарат, иногда он бывал незаменим: когда приходилось отлаживать ход особо упрямых часов, или вот сейчас. Старик подкрутил «ухо» на полную громкость.
Звуки усилились – птичий гвалт резанул отчаянным писком, хлопок выхлопных газов отдался взрывом, зато и скандал, полыхавший на шестом этаже, он теперь слышал так, как будто сам там присутствовал.
Ругались двое, бубнил телевизор, и вся адская полифония звучала громче и громче.
– Я тебя из дерьма хочу вытащить, – верещала девушка, – инженер! Такие инженеры сейчас в порту мешки разгружают! Тебе человек нормальную работу предлагает! Нормальную! Работу! По-соседски!
– Наше независимое расследование показало, что уровень нитратов в партии свеклы превосходит в десятки раз допустимые нормы, – сообщил телевизионный голос.
– По-соседски? Когда это ты так со Славкой подружиться успела? Никогда в холуях не ходил и не буду! – гремело в ответ. – Из меня официант – как из тебя… Майя Плисецкая!..
– В результате взрыва самогонного аппарата пожар распространился…
– Ты на что это намекаешь?! Ты это что – балерину вспомнил? Козу твою бывшую, тощую?!
– Украденный мешок яблок похититель тут же на Некрасовском рынке сбывал по рублю за…
– При чем тут козы, дура?..
– На восьмом этаже жилого дома держал трех свиней…
– Я – дура?! Да я ради тебя сюда переехала, дедулю твоего обхаживала, думала, нормально с тобой заживем… По комиссионкам дурацким бегала… объявления писала… а ты ни цветочка мне…
– …проституток гостиницы «Прибалтийская» и проводил их мимо швейцаров…
– Комиссионки?! Так ты дедовой смерти ждала?! С соседом шашни крутила?..
– Пашу, как проклятая: все для нас, телевизор новый…
– Телевизор, блин?!..
– Выставка, посвященная жертвам сталинских репрессий откры…
Раздался хрип – будто телеведущего душили, а может, отрывали голову. В пользу последнего сигнализировал скрежет, будто что-то откуда-то выдернули с мясом.
– Твой телевизор смотришь только ты! – взревело наверху.
– ЧТО ДЕЛАЕТСЯ-ТО!!! – глас, по силе затмевающий трубы Иерихона, протрубил у Ильича прямо в мозгу, разнесся по позвоночнику, отозвался в каждом нерве до последнего, скрученного артритом, мизинца:
– СЛЫХАЛИ?!
Ильич подпрыгнул на месте и спешно сдернул слуховой аппарат.
Иерихонские трубы звучали голосом Баклавы, которая, наконец, расслышала полыхавший скандал, и свое ценное мнение выдала Ильичу прямо в ухо, не учитывая, что полная мощь слухового аппарата превратит ее голос в слаженный хор всадников Апокалипсиса.
То было начало – Апокалипсис не замедлил последовать.
Небеса разверзлись. Из образовавшейся прорехи, блеснувшей на солнце стеклом, вылетела кара небесная и ринулась вниз.
Кара была квадратной, черной, с ослепшей линзой кинескопа, и, подобно комете, волокла за собой хвост проводов.
Оглохший Ильич наблюдал немое кино и даже не догадался пригнуться: кара летела слишком быстро. Соседки замерли с выпученными глазами.
И кара обрушилась.
Не на них, а на припаркованный у самых окон новехонький джип. Их окатило осколками, а звон и рев Ильич расслышал и без механического уха.
Он видел все, как в замедленной съемке: как пригнулся под непосильной ношей джип. Как телевизор подпрыгнул в глубокой вмятине на капоте. Как не спеша, будто раздумывая, продолжить падение или нет, завалился на бок и все-таки съехал к краю, перевернулся и рухнул в опасной близости от ног Ильича.
Нахальный бандитовоз теперь выглядел, как жертва стихийного бедствия: выбитое лобовое стекло, расплющенный капот, оседающее колесо.
И орал джип, как потерпевший: включившуюся сигнализацию Ильич слышал без всяких усилий, а уж соседки, наверно, и вовсе оглохли.
Будто поддерживая собрата, заорали соседние машины: их сигнализация настроена была на любой чих. Орала частная собственность, возмущенная покушением. Но громче всех верещал пострадавший: заливался тонким воем кастрата, стенал и жаловался на тяжкую травму.
На шестом этаже закрылось окно.
Женсовет, напуганный и опаленный, двинулся в парадную. Падкие на сенсации дамы решили, что следующую часть представления лучше пронаблюдать из окна. За дверями, крепко закрытыми на ключ. И на цепочку – на всякий случай.
Кранты Николаю, подумал Ильич. Славка его шкуру на часовые ремешки пустит…
Он побрел в подъезд. Очень хотелось оказаться дома. Навстречу, с сумкой через плечо, вылетела зареванная девица – Колькина зазноба эвакуировалась, почуяв, что пахнет жареным.
На лестнице его едва не сшиб бегущий автовладелец. Глаза налиты кровью, морда багровая. Схватил Ильича за плечи и заорал:
– Кто?! Что ты видел?!
С перепугу дед гаркнул в ответ:
– Ты мне за это ответишь! Твои стекла меня чуть глаз не лишили!..
Сосед дико посмотрел на него, отшвырнул к стене и ринулся вниз.
Возле своей двери Ильич на минуту остановился. И не зря.
Увидел бледно-зеленого Николая, спешащего вниз.
– Коля, – позвал Ильич. – Ты это, зайди-ка ко мне.
Тот ничего не соображал, но Ильич ловко зацепил его за рукав и чуть не силой уволок в квартиру.
Ничего. Подождет Ярослав, бывший пионер Славка, а ныне – авторитет Ярый.
Не надо Коле сейчас к нему соваться.
А может, и совсем не надо.
Ну его. Погодим.
Если выйти из метро «Черная речка» и повернуть на улицу Савушкина, то в угловом доме можно увидеть маленькую вывеску «Ремонт часов».
Нужно смотреть внимательно, потому что гигантские щиты с рекламой виски, сигарет и трастовых фондов, так необходимых бывшим советским гражданам, закрывают ее почти целиком. Но кусочек разглядеть можно: «нт часо» – вот такой, синим по белому. Вернее, по серому, поскольку окна в витринах, по давней ленинградской традиции, не моют от ввода здания в эксплуатацию до последнего вздоха под ударом бульдозера.
Поднявшись на три ступеньки, можно увидеть то, что было когда-то гастрономом самообслуживания.
Теперь тут «комок». Людское торжище, где можно купить резиновые калоши и пуховик, туфли на платформе и турецкий парчовый галстук, французскую губную помаду на марганцовке и натуральный Диор – в разлив. А также жирные сиреневые тени для век, колготки с люрексом, зажигалки в виде пистолетов и самопальные значки с надписями, сочиненные безумцами.
Один из безумцев – Художник, давний знакомый Ильича. Тот самый, что живет в Коробке с карандашами. Но не вздумайте писать этот адрес на конверте – почта вас не поймет.
Сам Ильич коротает время в маленькой будке с окошком, стоящей у входа. Надпись «Ремонт часов» на ней можно прочесть целиком.
– Вот ведь глупость какая, – говорит Ильич.
Он изучает значки, принесенные Художником. Кое-как наляпанные на белом фоне названия групп.
«Битлз», «Роллинг стоунз», «Металлика». На одном из значков – мужик с пропитой рожей рвет на груди тельняшку. На пузе надпись «я из Питера».
– Но ведь покупают, – застенчиво говорит Художник.
– Хрень покупают! – ворчит Ильич, – из Питера… а где тот Питер? Разворовали, замусорили. Барыги, ворюги, бюрократы!
– Вы бы еще царя-батюшку вспомнили, – миролюбиво отвечает Художник.
– И вспомнил! – распаляется часовщик. – Да не последнего, первого. Петр-то, небось, когда строил, другой город хотел. О столице мечтал! Цивилизованной и просвещенной… а у нас?..
– «Восемь месяцев зима, вместо фиников морошка», – цитирует Художник.
– Грамотный, – ворчит Ильич и тыкает пальцем в окно.
Поливальная машина под дождем моет улицы, щедро разбрызгивая воду.
– Вот и все у нас так. Видишь?..
– Ладно, Антон Ильич, – вздыхает Художник, – пойду. К вам клиент…
Длинноволосая фигура бредет к выходу, возвышаясь над посетителями на целую голову. Пародия на Петра, тощая и бесприютная, как призрак.
Клиентка нагнулась к окошку и жалуется:
– Опять стоят. С тех пор, как муж… только он мог с ними сладить. А я чуть-чуть стрелки подвела…
– Вы подводили стрелки? – Ильич вынимает из глаза лупу. – Я же вам говорил! Нельзя стрелки подводить, понимаете?
Он сокрушенно смотрит на собеседницу и ощупывает пострадавшие часы.
Руки белые и чуткие, больше подходящие врачу.
Часовщик сутулится – возраст, плюс долгие годы сидения согнувшись, с линзой в глазу. Оттого и морщинок вокруг правого глаза больше. Венчик пегих волос обрамляет обширную лысину. На работе он всегда снимает берет.
Вот сколько объяснять им: нельзя! На старинных часах стрелки не подводят! Аккуратно надо. Бережно.
– Что же вы, – сокрушается он. – Вот смотрите. Тихонько маятник снимаем. Без утяжеления стрелочки сами побегут. Быстро-быстро. Глядишь, минут через десять и догонят получасовое отставание. Сами они дойдут! Са-ми. Приходите завтра.
Клиентка исчезает.
Но у Ильича сегодня аншлаг. В окошко засовывается широкая лапа с перстнями-печатками, раскрытая ладонью вверх. Ильич борется с искушением в нее плюнуть. Сквозь окошко видит круглую, коротко стриженную башку, кожаную куртку поверх спортивного костюма и наглые пустые глаза.
Требовательное:
– Дед! – звучит, как команда. Привыкает сопляк повелевать.
– Антон Ильич, – спокойно отвечает старик, – а ты внучек, чьих будешь?
– От Ярого привет.
– И ему поклоны, – говорит Ильич. – Так и передай Ярославу: пусть, значит, не хворает, не кашляет…
– Дед, ты дурака не валяй. Бабло давай. Служба безопасности даром работать не будет…
– А я такую безопасность не заказывал, – ворчит Ильич.
Раскрывает коробку с наличкой и с отвращением сует в лапу синие фантики.
Бычок ржет:
– Маловато будет. Послезавтра опять зайду. И еще разговорчик от Ярого к тебе есть…
– Пусть Ярослав приходит и сам разговаривает.
– Слушай, дед, – бычок теряет терпение, – ты б не хамил, а? С тобой по-хорошему, а ты быкуешь.
Старик молчит, смотрит на мальчишку, которому лет десять назад на «Авроре» пионерский галстук повязывали. Во что превратился? В сволочь.
С Ярым они соседи, но знакомство с авторитетом не спасает. Он так сказал:
– Антон Ильич, ну чего ты хочешь? Время такое: каждый крутится, как умеет.
В оконце просовывается газета. Бесплатная, с объявлениями, и одно обведено ручкой: «продается…». Знакомый телефон. И имя знакомое.
– И что? – вопрошает он.
– Да так. Ярый говорит, спроси, может, знает чего. Может, тебе эту цацку приносили? Или хозяин заходил? Николай, вон и номерок его, а?
– Первый раз вижу, – отвечает Ильич.
Рожа глумливо хмыкает. Ильич молчит.
– Ну, бывай, дедуля. До скорого.
Бычок расхлябанной походкой идет меж торговцев. Останавливаясь то там, то тут, небрежно протягивает лапу – собирает дань.
Он называл их «эти».
Эти хапают все, до чего дотянулись. Плодятся, как мухи-дрозофилы: вчера один, завтра – туча. Страну растащили, схарчили. Всосали заводские дымы, понатыкали кабаков. Под лубок расписали город: всюду торгуют, крутятся, перетирают, палят. И слова-то у них жуют и чавкают: тач-ки, тел-ки, ларь-ки. Гнилое племя!
Вот был пионер, Славка… щекастый пацан, ревел над воробьем, подранным кошкой. Птаха в руках, кот на дереве… глаза птичьи пленкой подернулись, лапки дрыг. Славка стоит, слезы капают… и чего вспомнилось?
Был Славка – и нету. Смолотило и выплюнуло. Есть теперь Ярый, авторитет. Сопляк, а туда же: пуш-ки, баб-ки…
Эти не то, что стрелки подведут – вовсе время растопчут. По головам пройдут, из каждого душу вытрясут. Куда не кинь – все тащат, под себя подминают. У них у каждого на часах свое время.
Ильичу казалось, что в этот год не только люди с ума посходили – само время взбесилось, рассинхронилось, болтается туда-сюда.
Говорят когда-то, тысячи лет назад, старик Хронос сожрал своих детей. А сейчас народились детишки-отморозки, освежевали папашу да обгладывают по кусочку.
Каждый день ему несут часы – разбитые, поломанные. И все показывают разное время. Если само время сломалось – что о людях-то говорить?
Теперь вот Кольку им подавай. Хватко за дело взялись: видать, квартиру его обшмонали, раз объявление выплыло.
И к Ильичу не забыли наведаться. Ну-ну.
Ильич Ярому сразу сказал: на, смотри. Хошь в цветочный горшок загляни, хошь в унитаз…
Старик хихикнул, вспомнив, как на башку Ярому с антресолей рухнули жухлые стопки «Правды». Ниагарский водопад. Пригодился рупор коммунизма, не зря он макулатуру сберег.
Хрен вам, а не Колька. Теперь не достанете.
Мозги куцые, все в мышцы пошло. Слуги безвременья, мелкие, будто вши, да кусачие. Как саранча, хватают все, до чего дотянуться могут.
Иногда Ильичу снился сон, как эти, болтаясь на стрелках, крутят куда попало часы, и от того время в Ленинграде, взбесившись, скачет: тут и баррикады с дурными анархистами, и доморощенный НЭП, и декаданс со шпаной, и ряженные попы с Кашпировским по телевизору.
Ускоряются минуты, секунды тают, как рафинад в чае, и неизвестно, что будет завтра, в какой стране, да и будет ли завтра? То-то.
Кто виноват? Ну, не мировой же капитализм. Сами до жизни такой докатились.
Са-ми.
Вот только снится Ильичу чудовище сторуко, стоглазо, раскрывает жадные рты. Рук у него не счесть, и все тянутся, хапают, хватают. Головы его – бритые, как у братков, холеные, как у депутатов с листовок, кукольные, пустые, как у рекламных шмар…
И есть среди них лицо – гладкое, узкое, с прищуром из-под круглых очков, и не знает Ильич, кто таков, но чует во сне – его это рук дело, он-то время и сломал, знать бы кто таков – замарал бы руки, удавил, не задумавшись…
Такие вот сны.
А пока – свое поле боя у Ильича, и на поле том он – санитар. Дальше фронта все равно не пошлют. Дедушка старый, ему все равно, ага.
Кольку вот вытащил. Люду. Ядвигу.
Тут Ильич ухмыляется.
Видел бы эту улыбку браток – мигом заподозрил неладное. Но тому не до часовщика – делом занят, продавцов потрошит.
…Ядвига позвонила ему, как ни в чем не бывало. И сказала привычный, с юности знакомый пароль:
– Покутим?..
Вот только на часах была половина третьего ночи, за окошком – кромешная ноябрьская хлябь, а голос ее до того был натянут, казалось, вот-вот оборвется.
Когда обоим за шестьдесят, трудно предполагать внезапно вспыхнувшую страсть. Да и перегорели страсти: в студенческих плясках в Политехническом, в стройотрядах да турпоходах. Теперь оба старики, оба жизнь красивую прожили. Страсти ушли – дружба осталась.
Вышел ей навстречу: пока доковылял до Черной речки, она с Петроградки пешком дошла, через мост, под снежным дождем.
Высокая, статная, в черном пальто до пят, с рюкзаком за плечами и клеткой под чехлом. Вот женщина: годы ее только красят.
Как Ильич клетку увидел – понял, что дело швах. Собралась.
Долго шли – весь остаток ночи. Но кому какое дело до стариков, что бредут сквозь пургу? Никому и не было.
А Ильич чуть от смеха не лопнул, когда Ядвига ему все рассказала.
Шуму было! Даже в газете писали.
Но эти поздно хватились – Ядвиги и след простыл.
Эти вечно позже, чем надо, спохватываются.
Еленино яблоко
Ливень кончился, и четверти часа не прошло.
У сада «Аркадия» омнибус высаживал пассажиров в огромной луже. На империале висело гигантское объявление: «Велосипеды Энфильд. Торговый дом Алексеев и К».
Данила Андреевич усмехнулся, вспомнив модную присказку: «было у отца два сына, один умный, другой – велосипедист». Да кто согласится на этакое чудовище по доброй воле залезть?..
Извозчик объехал конкурента и высадил их у входа.
После гимназии ресторан с белоснежными скатертями, верткими лакеями и упоительным ароматом яств должен бы был показаться Даниле райскими кущами, но вместо этого поверг в меланхолию.
Вот она, жизнь, думал он. Блистающий мир в двух шагах. Мир, в который ему без Жоржика вход заказан.
Именно Жорж небрежно подзывал лакея и требовал самое лучшее. Именно Жорж, не смущаясь, раскланивался с дамами. Именно Жоржу приносили дегустировать вина и с тревогой ждали вердикта – угодно ли-с? Или дорогой гость желает что-то еще?..
А Данила был лишь случайным спутником, которому позволено, расположившись в креслах, слушать, как тенор с блестящей от луж эстрады выводит романс о любви…
Почему?
Чем он хуже?
Тем, что не сумел устроиться сообразно интеллекту? Не обучен унижаться и хлопотать?
Горько все это и пошло.
Уткнулся в тарелку. Жевал, не чувствуя вкуса, и тут сверкающая вилка предательски выскользнула и, оглушительно лязгнув, свалилась на пол.
Публика обернулась на звук.
Пунцовый Данила полез под стол, завозился, едва не запутался в скатерти, мечтая провалиться сквозь землю.
Вынырнув, обнаружил, что Жорж смотрит на него с улыбкой – как добрый папенька на неразумное дитя. Подмигнул:
– Чего загрустил? Давай-ка, брат, выпьем!..
И поднял бокал.
Данила Андреевич пить не любил. Ничто не ценил историк столь дорого, как ясность ума. Вино же ставило интеллект под удар и будило в нем альтер-эго: человека, которого трезвый Данила предпочел бы обойти за версту.
– За встречу!..
Трубицын сиял, как самовар квартирной хозяйки Надежды Аркадьевны. Глаза блестели, словно два созревших каштана. Пухлые губы раскрылись, демонстрируя крупные зубы. Ноздри хищно втягивали аромат коньяка. Жорж был доволен собой, как последняя сволочь.
К черту, решил Данила. Один раз живем.
Густая, терпкая, с шоколадным вкусом волна обожгла гортань. Обняла, потекла по венам. Жизнь вдруг показалась не такой уж и скверной штукой.
Трубицын сказал:
– Вот ты, брат, историк. Полководцев наперечет знаешь. Баталии. Так что ж ты с Еленушкой-то осаду по правилам провести не смог? С твоими мозгами? Дамочка – она же как… бастион, – он поднял вилку, – если подумать, когда измором взять, когда обстрел провести – букетами и презентами, глядишь – дело-то и пойдет.
Данила аж поперхнулся.
Нелепость какая! Жорж его батальным премудростям учит! Жорж, который слово «благоговейный» написал с восемью ошибками. Жорж, который заснул на экзамене по латыни, Жорж, который…
– Или, к примеру, заслать лазутчика, – продолжал тот, – чтобы разведал планы противника… это – стратегия. Это – тактика. Это – победа на всех фронтах!
Данила онемел. Обывательская философия Жоржа так его возмутила, что ничего не осталось, как выпить еще раз. Зеленый змий обвил его плечи, положил голову на колени и замурлыкал, как сытый кот.
– Как у тебя просто, Жорж. Крепость – бездушная груда камней, а ты сравниваешь с живым человеком…
– Да ведь так, брат, и есть! Только иным умникам этого не понять. Все рассуждают, извилиной шевелят. А толку?..
Даниле хотелось пресечь пустой разговор парой колких и едких фраз, но тут альтер-эго, окропленное коньяком, пробудилось от сна, отодвинуло здравый смысл и вышло на сцену:
– А тебя, я смотрю, весьма Елена интересует, – заметил он. – О чем бы ни говорили – все Елена да Елена. Может, тебе самому осадой ту крепость взять? Раз уж ты такой полководец?..
Трубицын усмехнулся сквозь пузатый бокал.
Данилу это злило: хотелось уколоть так называемого друга, чтоб не копался в сердечной ране.
– А знаешь, – неожиданно для себя сказал он. – Ты, коли хочешь – бери ее и ешь с кашей. Елену. Мне все равно.
– Эк ты невестами-то разбрасываешься, – заметил Трубицын.
– Она ннне… ннневеста, – Данила будто сплюнул с языка ледяную сосульку.
– А что, – продолжал он, распаляясь, – дама приятная. Фактура. Локоны. Глаза, – тут он вспомнил голубые, как небо, глаза Еленушки и сердце защемило. – Талия, – желчно продолжал он, – и папахен с приданым, и мамахен уж точно от тебя без ума будет…
– Давай-ка выпьем, – неожиданно мягко сказал Жорж. – За тебя, дружище Цапель. Не горюй, брат, глядишь, все наладится…
Теплая волна благодарности поднялась в груди. Вот глянешь – полено поленом, фат, балабол… а понимает!
– За тебя, друг! – Данила хватил глоток, от которого запершило в горле.
– Скажи-ка, брат, – продолжал Трубицын, – что такого могла дама сердца свершить, чтобы ты… как, бишь, «не смог принять разумом»? На мой разум приходит одно…
Слышать, что приходит на ум пошляку, был Данила не в силах.
– Хочешь знать, что такого? Изволь. Представь, что есть женщина. Умнейшая, просвещенная. Ты с ней говоришь о письмах Вольтера, о Цицероне, о Северном флоте… неважно.
Данила принял бокал, в котором вновь плескался коньяк, и продолжал:
– И тут узнаешь, что она… при всем уме, красоте, добродетелях…
Трубицын подался вперед, донельзя заинтригованный.
Данила припечатал:
– Она. Ходит. К гадалкам. И верит! Всей чепухе. Как какая-то… деревенская баба!
Высказал, что на душе, и прикрыл глаза.
И вздрогнул от странных звуков.
Трубицын хохотал, утирая слезу. Хлопал рукой по колену, не смущаясь под косыми взглядами дам, тряс черной башкой, отмахивался салфеткой.
– И… все? – выдавил он сквозь смех, – только-то? Мадам, прошу извинить, мой приятель такой остряк, такой анекдотец сейчас завернул, уж не обессудьте, пардон, пардон.
Публика расслабилась, заулыбалась. Даниле перепало несколько женских взглядов: надо же, на вид неказист, а оказывается, какой остроумный…
– К гадалкам! – шепотом повторил Данила. – К сумасшедшим, пустоголовым, никчемным теткам с их картами, фокусами, чревовещанием. И верит! Всем этим сонникам, пророчествам, чертям в ступе… и убеждает меня! Что и мне должно верить!
Трубицын прыснул в кулак. Но тут же принял серьезный вид.
– Да, братец. Дела. Разум бунтует. Нет, что ты, я не смеюсь, – он замахал руками. – А знаешь, брат Цапель… может, Елена из тех самых женщин, коим хочется волшебства. Чтобы дым, мистицизм и прочее столоверчение. Гадалки! – он хихикнул, покачал головой. – Ты вот что. Выпьем! За разум, за здравый, понимаешь ли, смысл, и, гори оно все – за торжество просвещения! За наш двадцатый, за светлый век!..
Против такого тоста Данила не мог устоять. Глаза увлажнились. Эх, Жорж, валенок пустоголовый, как сказал!
– За просвещение! – Данила попытался встать, но мягкое кресло его не пустило, – до дна!..
Выпил – и окинул ресторацию новым взглядом. Зеленый змий интимно мурлыкал в ухо: посмотри, как чудесен мир!
Звенела музыка. Дамы, прекрасные все до одной, смотрели загадочно и призывно, лакеи сновали меж столов, жизнь вертелась, плясала, заманивала пестрыми цыганскими юбками.
Затухающий здравый смысл напомнил, что самое время выспросить друга о том, как он достиг таких высот в жизни, что эти лакеи… и вилки… и дамы… все ежечасно к его услугам.