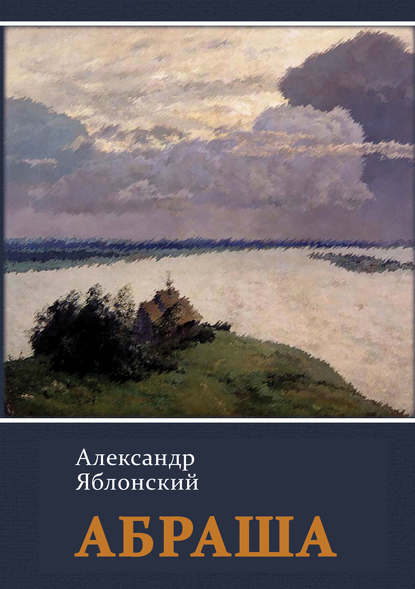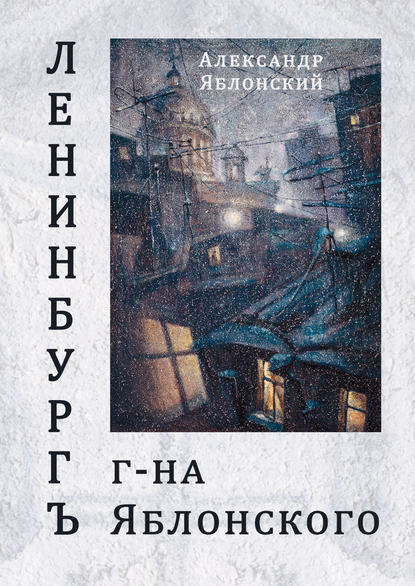
Полная версия
Ленинбургъ г-на Яблонского

Александр Яблонский
Ленинбургъ г-на Яблонского
Жизнь наша в старости – изношенный халат,
И совестно носить его, и жаль оставить…
Петр ВяземскийА я один средь чуждых мне людей,
Стою в ночи, беспомощный и хилый.
Вильгельм Кюхельбекер… но в памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Давид СамойловДанный текст оказался в наших руках совершенно случайно. Детали не существенны. Да их – этих деталей – собственно говоря, и нет. Переслали файл, и точка. Кто переслал и по какой причине он (она) это сделал(а), не имеет никакого значения. В отличие от известного господина Максудова, который сиганул с моста вниз головой в реку, если не ошибаемся, под названием Днепр (это в Украине), автор данного опуса жив и, надеемся, находится в добром здравии. Претензий с его стороны по поводу утечки информации в виде этого сочинения на сей момент не поступало. По этой причине текст, в соответствии с действующим законодательством, был принят к рассмотрению.
Автор – некий господин Яблонский А. П. – человек, видимо, небесталанный и, следовательно, не вполне, скажем мягко, адекватный. То есть не слишком нормальный. Поэтому текст показался нам занятным, хотя, подчеркнем сразу, с основными его постулатами, определениями и конкретными выражениями мы категорически не согласны. Однако некоторые факты и наблюдения могут показаться занимательными и даже полезными для узкого круга специалистов в области аномалий человеческой психики, особенностей народного творчества, а также для любителей предаться легкой ностальгии по временно ушедшей Советской Родине. Отдельные были и небылицы из истории Ленинграда середины XX века, а также других веков, в преломлении фиолетового сознания и незамутненного интеллекта могут показаться забавными. Всё это послужило причиной для принятия решения о публикации данного произведения.
Текст печатается с орфографией, пунктуацией и стилистическими особенностями подлинника. Названия у полученного документа не было, поэтому редакция предпослала свой вариант заглавия (Ленинбургъ), как, кажется, более-менее подходящий содержанию предлагаемого сочинения. Определить жанр рукописи – роман, повесть, эссе, мемуары, записи и т. п. – редакция не смогла. Ввиду того, что г-н Яблонский А. П. не пожелал поместить свою фамилию на титульном листе сочинения, а также не претендует на авторское вознаграждение, произведение издается под фамилией его редактора.
В тексте, согласно нормам современного российского языка, были изъяты два слова, оскорбляющие честь, достоинство и нравственное состояние современного человека – патриота России. Первое слово – имя существительное, обозначающее некую субстанцию, неотделимую от жизнедеятельности человеческого организма и имеющую свойство иногда перемещаться в проруби. Второе – глагол, связанный с взаимодействием двух разнополых организмов; взаимодействием, предшествующим деторождению (за 9 месяцев до). В данном контексте этот глагол, употребленный, надеемся, в переносном смысле, нес негативную информацию об отношении автора к власти и системе, существующим в Необозначенной стране. Опущены также сомнительные исторические ассоциации, надуманные аналогии и ненужные аллюзии. Изъят фрагмент, размером примерно полторы страницы машинописного текста, связанный с воспоминаниями автора о новинках русской литературы рубежа 70-х–80-х годов, в частности, о романе В. Аксенова «Остров Крым». Выбелены некоторые абзацы, посвященные (…), равно как (…) и подобным событиям и высказываниям по этому поводу Г-на (…).
Редакция благодарит литературоведов III Отделения, служащих ГЛАВЛИТа, ГЛАВПУРа, Человеколюбивое Общество Активистов Веры при Московской Епархии и лично Председателя Синодального совета по вопросам взаимоотношений, офицеров Общественного Совета по вопросам нравственности русского языка при Президенте РФ, Общественную Палату при Федеральной Службе Госбезопасности РФ, а также волонтеров (добровольцев) ЧК (Чрезвычайной Комиссии) Министерства искусств и культуры и лично товарища надворного советника Александра Васильевича Никитенко за разрешение опубликовать в экспериментальном порядке предлагаемый текст.
Дм. Грчк.Я не буду целовать холодных рук.
В нашей осени никто не виноват.
Ты уехал, ты уехал в Петербург.
А приехал – в Ленинград.
Популярная песенка начала XXI векаВ те времена, когда Сапсаны ещё не ходили,а на индийских фильмах плакали,когда Вася Ахтаев, он же – «Вася Чечен»,игравший с 47-го по 57-й годза «Буревестник», естественно, в Алма-Ате,был самым высоким баскетболистом в мире исамым популярным спортсменом в СССР,когда новую мебель, покрытую лаком, было не достать,а старую – без лака – не ставилисимметрично или по периметру,а выбрасывали, чтобы купить польскую «стенку»из опилок и пластмассы,когда девушки надели брюки,а юноши отпустили волосы до плеч,бабушки помнили живого Блока,а отцы – линию Маннергейма,в те наивные времена, когда в наших сердцах жилибессмертные имена Героев Советского Союза Ахмеда Бен Беллы иГамаль Абдель Насера, а также верных друзей —принца Нородома Сианука, Кваме Нкрума и «брата» Сукарно,когда стояли в очередях,чтобы взять в библиотеке, забытой Богом и Органами,зачитанные номера (9–11) «Нового мира» за 1956 год,а на кухнях расшифровывали шестую слепую копиюстенограммы выступления Паустовского,когда «Рок вокруг часов» вытеснил «Подмосковные вечера»,а Билл Хейли со своими «Кометами»сокрушил в сознании молодежи дуэт Бунчикова и Нечаева,когда на каждом углу стояли автоматы с газированной водой,и все пили, не думая о заразе, из одного стакана,который аккуратно полоскали,но не догадывались уносить с собой,когда регулировщики были в белых перчаткахи виртуозно манипулировали своими жезлами,за колбасой приезжали в Москву и Ленинград со всей страны,колхозники узнали, что есть паспорта и про их души,а высоко в небе пролетал советскийподмигивающий светлячок, и все очень гордились этим,когда в отдаленных уголках Империис изумлением искали на глобусе такие названия, какСуэцкий канал или Будапешт, а бородатые аристократывознамерились в Новогоднюю ночьосчастливить свой танцующий народ;в те удивительные времена, когда Битлз уже были,а про Пражскую весну ещё не догадывались,когда в гости ходили без приглашений, а от армии не косили,так как это никому не приходило в голову,когда ехали через весь город посмотретьна телевизор с линзой, а не телевизор,когда у нас были верные друзья,и мы в 10-м классе ещё только неумело целовались с девочками,когда никто не знал про ремни безопасности в машинахи велосипедные шлемы,когда в стране не было секса даже во времяМеждународного фестиваля молодежи и студентов в Москве,когда стали вешать портреты Хемингуэя, увлекаться Ремаркоми везли на трамвае картонный стаканчик с пепси-колой,полученной на американской выставке,чтобы дать попробовать родным этот чудо-напиток,в те славные времена,когда можно было спокойно сообразить на троих,имея в кармане всего один рубль,а великого поэта назвать свиньей,в ГБ на допросах уже не билии прекратили круглосуточный «конвейер»,но насильно кормить гибким зондом с металлическим наконечникомчерез нос или рот научились весьма даже виртуозно,когда хулиганы часто оказывались джентльменами,слово «орденоносец» ещё что-то значило,дрались до первой крови и лежачего не били,когда реабилитировали Мейерхольда и Михоэлса,но Гумилева или Ходасевича упоминать было самоубийственно,в те ясные призрачные патриархальные времена,когда из Ленинграда в Сухуми ехали трое суток,и после голодной России в Украине подносили к поездукотелки с горячей отварной картошкой, посыпанной укропом,малосольные огурцы и теплое молоко в крынках,а ближе к Кавказу – стаканы с ароматной крупной земляникой,вареную кукурузу, алычу,после Псоу начиналась гостеприимная Грузияс дивным домашним вином, шампанскими яблокамии сулугуни в мамалыге,когда привычны были имена Гилельса или Ойстраха на афишах города,но в трамваях уступали место старикам и беременным женщинам,начинали ломиться в БДТ и одеваться у фарцовщиков,когда вдруг стали обращаться к любому – даже к девушке – «старик»,и винные магазины работали до 11 вечера,всех работниц пивных ларьков звали Клавами,а в Лолиту Торрес влюблялись поголовно,когда «Порккала-Удд» вернули Финляндии,Порт-Артур – Китаю, а Крым – Украине,бригадмильцы разрезали узкие брюки у стиляг и всех остальных,в застольях пили за свободу и здоровье Манолиса Глезоса,про Раймонду Дьен забыли,но звезда Анджелы Дэвис в СССР ещё не взошла,когда к Новому Году закупали гуся и полусладкое шампанское,Рыбников и Юматов были кумирами девушек и женщин,а Гагарин их всех переплюнул,когда ломбарды были забиты очередями,трехпроцентный заем являлся неотъемлемойчастью бюджета каждой семьии Людмила Гурченко метеором ворвалась в «Карнавальную ночь»,в те светлые времена, когда летними каникулами в деревнеещё можно было прекрасно ехать на телеге,лошадь шагала неторопливо, задумчиво,сладко пахло конским потом, сеном, «лошадиными яблоками», пылью,когда появились проигрыватели «Юность», и мыс восторгом отплясывали бразильскую «Мама́, йо керо…»,все напряженно следили за судьбой Мосаддыка, а затем Лумумбы,шприцы кипятили и не выбрасывали, но СПИДа не было,по радио хор Пятницкого пел «Кто его знает, чего он моргает»,и продолжали возвращаться оставшиеся в живых строителиБеломорканала, Колымской железной дороги, Волго-Дона,МГУ, Главного Туркменского канала,Норильской железной дороги, Цимлянской ГЭС,канала имени Москвы, Сахалинского тоннеляи других строек Великого Преобразователя Природы,когда велосипед «Орленок» был мечтой всех мальчишек,женские прически «Венчик мира» и «Вася, иди за мной»завоевали сердца мужчин и женщин,у молодых людей взлетал надо лбом кок,война в Корее уже забывалась,но в Южном Вьетнаме лишь разгоралась,мороженое было вкусным, а деревья большими,взрослые предпочитали вслух о политике не говорить,но выпить граненую рюмку «Муската Прасковейского»,а мы – то, что осталось,в те чудные времена, когда верили честному слову,играли в «дурака», в лапту и штандарт,а взрослые болели преферансом,отменили первоапрельское снижение цени жить стало лучше, спокойнее и веселее,когда болели за Белоусову и Протопопова,считали советских футболистов сильнейшими в мире,а про Пеле слышали, но не верили, что такое бывает,пытались танцевать буги-вуги, увиденные отцами на Эльбе в 45-м,и рок-н-ролл, записанный «на костях»,ещё помнили в магазинах севрюгу горячего копченияи семгу малого посола рядом с паюсной икрой,когда начинали задумываться и вести ночные споры на кухне,народ курил «Беломор», а заведующие магазинами,известные тренеры и следователи – «Казбек»,степенно постукивая мундштуком папиросыпо крышке распахивающейся картонной коробочки,когда кримпленовые женские платьяи мужские нейлоновые рубашкистали недосягаемой мечтой советского человека,появились болгарские сигареты —«Пчелка», «Джебел» и «Шипка»,коньки «снегурочка» сменились «канадками»,и появились первые блочные пятиэтажки,когда Фанфан-Тюльпан добивался любви Джины Лоллобриджиды,начали догонять Штаты по производству мяса, молока и масла,забив не только птицу, коров и свиней, но и лошадей,напечатали «Один день Ивана Денисовича»,и дали Первую премию Вану Клиберну,когда вдруг стало казаться, что и мы будем жить в нормальной стране,когда, играя в шахматы, объявляли не только шах, но и гарде́,многое обнадеживало, и во многое верилось,в те странные наивные времена, когда авторам платили гонорарза романы, повести и даже рассказы,за стихи могли посадить, и – сажали,а за ленинградский «Зенит» играли ленинградцы,в то чудное время,когда мамы были молоды, а папы – те, которые выжили,старались не вспоминать войну,во времена Жуковых, Марченко, Бродских,когда я был совсем юным, —думалось, мечталось, хотелось надеяться,что жизнь будет…(Подражание Л. Н. Толстому)[ОРИГИНАЛ]
«…в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был…»
Л. Н. Толстой. «Два гусара»Поезд
Времена не выбирают.
В них живут и умирают.
Я не буду целовать холодных рук. В нашей осени никто не виноват. Ты уехал, ты уехал в Петербург. А приехал – в Ленинград.
Я не буду целовать холодных рук. В нашей осени никто не виноват. Ты уехал, ты уехал в Петербург. А приехал – в Ленинград.
Сапсаны ещё не ходили. Мне взяли билет на «Аврору». Тогда это был поезд № 159/160. Он отходил от Ленинградского вокзала в 13:45, а прибывал на Московский в 18:10. «Аврора» – не транспорт, а сплошное воспоминание. Ещё в 65-м году я ехал этим поездом – в те времена самым скоростным, сидячим, комфортным – из Ленинграда в столицу и волновался. Я всегда волновался, приезжая в Москву. Из провинции в столицу. Даже мучил себя процессом бритья каждый день. Столица! Физиономию лица было не узнать. Сейчас ничего не дрогнуло, хотя возвращался в родной город после долгого, долгого отсутствия. Гурченко с Моисеевым пели про Петербург – Ленинград, а я дремал.
– Что, голуба, на Родину потянуло?
– Это беременную на солененькое тянет. Меня же Бог миловал с солененьким. А с Родиной никогда не расставался.
– Это как же-с?! Штампики в паспортах имеются.
– Тебе не понять, любезный. Родина – это память. Память, и ничего более. А пошел-ка ты вон!
– Не извольте беспокоиться, ваше высокородие! Исчезаю-с, испаряюсь…
Это я хорошо сказал, правильно: Родина – это не что иное, как память. И ничего более.
Тронулись. Глаза не открывал, но знал: пошло́-поехало. Рижская, Петровско-Разумовское, НАТИ – что это, понятия не имею, потом, уже мелькая, неразборчиво, но я все помню, – Химки, Подрезково, минуя Новоподрезково, а там – Сходня, Малино, Радищево, Поваровка, гляди – уже Фроловское, значит, я провалился – уснул, так как прозевал Подсолнечную и Головково, а там и Клин. Мой Клин. В обратном порядке я знал когда-то все станции, даже такие, как Стреглово или Березки Дачные, хотя электричка, мчавшая меня из Клина в разгульную жизнь Москвы, там не останавливалась. Впрочем, разгульной жизни не получалось, все мои друзья в летнее время, когда я работал в Доме-музее Чайковского, разъезжались, и я просто бродил в одиночестве по опустевшему, но притягательному городу. Как-то раз ближайший друг – коренной москвич и патриот города (не подумайте ничего плохого – только города!) сообщил, что он проездом в Москве, и мы должны опробовать недавно открывшийся ресторан «Пекин», что недалеко от «Маяковской». Летел, как Наташа на первый бал. Из барака – в Пекин! Предупредил коменданта, что, возможно, ночевать не вернусь. В ресторан же еду, не в ЦГАЛИ. Друг решил блеснуть знанием китайской кухни (без алкоголя: кулинария Поднебесной в центре Москвы ограничила наши финансовые возможности). В памяти остались микробиологическое слово «агар-агар» и что-то про маринованную медузу. Принимавшая заказ уставшая официантка, пристально посмотрев на нас, твердо сказала: «Не надо!» То, что успели проглотить, срочно заели за углом черствыми пирожками с холодной начинкой, обозначенной как мясо. Вернулся в Клин я засветло. Вот и все приключения. Хорошее было время.
Тогда уже состоялся Калининский проспект с чудом сохраненной у подножья новой магистрали маленькой церковью Симеона Столпника, построенной (в варианте сруба) ко дню венчанья Бориса Годунова, сверкали неоновые рекламы вдоль первых этажей правительственной трассы, а в вышине, в окнах выстроившихся плоских гигантов сияли незабвенные слова:
СЛАВА КПСС!
– но Москва ещё оставалась Москвой. Ещё существовал живой старый, не картонный Арбат, нераскрашенная Сретенка с редкими авто типа «Волга», «Москвич» или «Победа», церковью Успенья Богородицы в Печатниках и храмом Живоначальной Троицы в Листах. «Тихо, Сретенка, не плачь! Мы стали все твоею общею судьбой». Плющиха… Дом Щербачева, где жило семейство Толстых, клуб завода «Каучук» – «Берегись автомобиля», «Три тополя»… Чудные фильмы моей молодости. Самотечная площадь с обшарпанными двухэтажными зданиями, несущими аромат ушедших эпох. Ресторан «Прага» со знаменитыми эклерами. Дом на углу Арбатской площади и Малого Афанасьевского переулка. Трехэтажный московский особняк. Или особняк князей Мещерских на Большой Никитской… Все это было частью моей жизни, моей Москвы. Все это исчезло, как сон, как жизнь… Ну и, конечно, ресторан «Арарат» – в 60-х–70-х лучший в Москве, с прекрасной армянской кухней. Он, видимо, сохранился, но душа уже не рвется туда. Она никуда уже не рвется.
Разгуляться, повторюсь, не получалось; получалось съесть пару конвертов из горячего теста с сосисками внутри и выпить пива, но не в баре «Жигули», куда попасть даже летом было невозможно, да у меня и денег не было, вернее, были, иначе зачем я водил по три-четыре экскурсии в день, вдохновенно рассказывая (одна экскурсия – в кармане 2 рубля 50 копеек) о последних годах жизни автора «Пиковой» в Клину; деньги были, я их заработал, но специально не брал в Москву, чтобы не поддаться соблазнам. Деньги я копил. Мечтал вырваться из коммуналки. Почти всю сознательную жизнь мечтал. Так что пиво пил не в «Жигулях», а на улице – одноименное за 37 копеек, из горлышка. После чего возвращался в свой архив, к квартетам Танеева, письмам, дневникам тогдашнего героя моего исследования, к уникальной Ксении Юрьевне Давыдовой – внучатой племяннице Чайковского, человеку иной эпохи, ушедшей культуры (с Ириной Юрьевной я общался мало, а Юрий Львович незадолго до того времени скончался), к другим сотрудникам этого заповедного уголка – интеллигентным, спокойным, доброжелательным, как бы вырванным из окружающего социума и клинского быта, к любимой мною Наталье Григорьевне Кабановой – директору Дома, некогда учившей меня – девственного (в интеллектуальном отношении) подростка – премудростям музыкальной науки, к серовато-голубому деревянному дому, обрамленному фисташкой и шартрезом лиственниц прозрачного патриархального парка, к звучащим его аллеям, к беседке, робко белеющей среди буйства зелени, к расстроенному роялю фирмы «Беккер», к клавишам которого разрешали прикасаться только великим заезжим музыкантам, к бронзовому «Поющему петуху» – подарку Люсьена Гитри, к собранию творений любимого хозяином дома Моцарта, к простому светлому деревянному столу, сделанному местным мастером по заказу композитора, стоящему у окна спальни с узенькой железной кроватью, покрытой вручную связанным покрывалом, на этом столе была написана Шестая Симфония, к собранию курительных трубок и многочисленным фотографиям, покрывавшим стены гостиной, к подгнивающему серому дощатому бараку для командировочных, в сырой и темной комнате которого я в одиночестве поглощал свой незатейливый и неизменный ужин: пол-литра жуткого плодово-ягодного вина за девяносто две копейки бутылка, консервы, именуемые рыбными, в томате, ломоть черного хлеба, посыпанный крупной влажной серой солью, свежий сочный зеленый лук, покупаемый у старушки, привычно торговавшей около пустого гастронома, стакан чая, который я наливал из общего чайника на кухне. Недели через две я опять мчался в Москву, в Москву, в разгульную жизнь, прекрасно зная, чем она обернется, но сердце билось, и казалось, что электричка движется медленнее, нежели ей положено по расписанию. Мне было двадцать лет. Стреглово, Фроловское, Покровка… Пошло́-поехало.
Впрочем, все летние встречи с Москвой проходили как-то одинаково грустно и одиноко. Названия станций при подъезде к столице помню. Названия и содержимое архивов помню. Калининский и улицу Воровского, где я останавливался у моих чудных родственников – москвичей дореволюционного уклада, помню.
Интересно, что у московских родственников я жил на улице имени революционера-большевика Воровского (никогда на этой улице не квартировавшего). Кажется, на углу Борисоглебского. В двухэтажном особняке купца первой гильдии Лямина, предка моих родных. Торговый дом Ляминых был известен с середины восемнадцатого века. Иван Артемьевич Лямин был даже избран в 1871 году московским городским головой. Наиболее известной резиденцией Ляминых была знаменитая дача в Сокольниках, дом же на Поварской принадлежал когда-то Александру Александровичу Дубровину, жена которого – Вера Ивановна – была дочкой Ивана Лямина. Это был чудный, хотя и запущенный московский двухэтажный особняк. При входе внутри стояли два огромных нубийца, поддерживая мощными руками потолок. На первом этаже жила безразмерная семья. Помню огромное количество детей – черноглазых, смуглых, кудрявых, цыганистых. Часть второго этажа оставили бывшим владельцам – Дубровиным-Бомас.
Там я и проводил свое московское время среди невиданного количества редких, в большинстве своем дореволюционных, книг. Это было на улице имени большевика Воровского. Затем вернули старое дореволюционное название – Поварская. На месте особняка Лямина – Дубровиных – огромное серое бетонное безликое здание со стеклопакетами… Но на Поварской. Зазеркалье!
Помню ветчину, покупаемую на Калининском, и «маленькую», то есть четвертинку водки, которые мы с Лялей – моей дальней родственницей – поглощали за бесконечным вечерним чаем, обсуждая фильмы «Новой волны» или Феллини, романы Мережковского или Булгакова, читая по памяти стихи Ахматовой или Баратынского, Мандельштама или Пушкина – кто больше вспомнит. Я выигрывал в Ахматовой и в Бунине, Ляля – во всем остальном. Она была мудрым и эрудированнейшим человеком, подлинным учителем русской словесности старого, ныне исчезнувшего закала. Иногда из своей комнаты выходила и к нам присоединялась старенькая тетя Нина – она когда-то была секретарем Станиславского. Остальные Дубровины были в это время на даче. Помню все, как будто вчера было. Подобные чаепития и упоительные неторопливые беседы были возможны только в той старой Москве.
Больше ничего не помню. Ничего и не было. Один раз – значительно позже клинского периода – встретился с Галей, она случайно заехала домой с дачи. Позвонила мне. Ходили вдоль Москвы-реки, она показала мост – это у Воробьевых гор, около станции «Университет». Вспоминали давно ушедшее. Ведь знакомы и дружны были с десяток лет, если не более. Она постоянно приезжала в Ленинград. Мы и там бродили. Белые ночи. Разговоры… Вспоминали. Хотя вспоминать особо, опять-таки, было не о чем. Так… О прошедшей юности, общих друзьях. О тех белых ночах. О Гаграх, поездке в Новый Афон – как она сорвала меня! Если бы не она, женился бы я на третьем курсе. Как жизнь повернулась бы?.. Прощаясь у парадного подъезда я поцеловал ее в щеку. Она вдруг сказала: «Ну, наконец, догадался!» Пока я переваривал неожиданную информацию с подтекстом, она уже исчезла. Я взбодрился, вознамерился и крикнул в лестничный пролет: «Может, завтра увидимся?!» – «Нет, меня муж на даче ждет!» Я другому, стало быть, отдана… Больше я ее никогда не видел. Чудная была девушка. Глазастая, фигуристая, с юмором. Похожа на юную Татьяну Самойлову. Неизменно подтянутая, на каблучках. Москвичка! Столько лет прошло. Жива ли?
– Ваше высокородие, Александр Павлович, не желаете откушать чайкю? Аполлон Аполлоныч беспокоится…
– Не желаю!
– Аполлон Аполлоныч не изволил приказать насчет водочки. Говорят, вам не следует перед делом.
– Пошел вон!
– Не извольте беспокоиться. Уже удаляюсь!
В середине июня ранним утром – часов, этак, в пять – Петропавловская крепость, Ростральные колонны, здание Биржи, успокоенная за краткий миг призрачной ночи гладь Невы, гранит набережной – всё окрашивается в неземной сиреневато-розовый цвет. Будто Он окидывает взглядом свои владения. Только ростры на колоннах, кроны деревьев, их окружающих, да проемы колоннады Биржи темнеют на фоне этого подрагивающего марева пробуждения сказочного города, похожего на сон, на мечту, на счастье. Ленинград ещё спит. Воздух наполнен ароматом отцветающей черемухи или поздней сирени, липового нектара, струящегося с бледно-золотистых крон пышных деревьев, мокрого асфальта, по которому ступенчатым строем прошлись поливальные машины, свежей невской воды с ее запахом талого ладожского льда, тины, рыбешки и дымка́ от неторопливых барж и суетливых деловых катерков. Чайки чинно сидят на буйках, ступенчатых спусках к воде, на причалах для речных трамвайчиков. Редкие молодые пары догуливают свою счастливую ночь – безоблачную и скоротечную. Сухенький старичок в аккуратном сереньком, стареньком, но чистеньком костюмчике и в летней бежевой кепочке облокотился на парапет около Мраморного дворца и всматривается в стену Трубецкого бастиона. Из бастиона изредка выходит странный человек, половины лица у него нет, череп расколот. Он неторопливо идет к старичку.